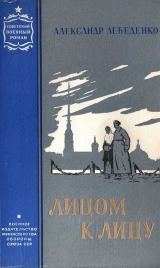
Текст книги "Лицом к лицу"
Автор книги: Александр Лебеденко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 38 страниц)
– Ну, пошли, пошли! – сказал начальник участка. – Уже светло.
В неглубоком окопике рогами к западу была укреплена труба Цейса. В серых волнах плохо различаемых холмов, как неясный мираж, колыхалась деревушка. На пухлом холме за домами должно быть укрепление.
– Все ясно, – оказал Сверчков. – Напрасно близко стали. Всюду будут малые прицелы…
Через полчаса в окопик спрыгнул Алексей.
– Наши пойдут оврагом, – сказал он, припадая к окулярам. – Резервы уже в деревушке. Сперва вы по деревне шрапнелью.
– Я уже договорился с начальником участка, – недовольно заметил Сверчков.
Алексей разглядывал местность. Земля лежала перед трубой тусклая и слепая. Если бы не деревня – пустыня. У Алексея было ощущение связанности. Долгое напряжение искало выхода в каких-то больших и резких движениях.
Сверчков медлительно раскладывал двухверстку, на которой еще вчера были отмечены цели.
Когда первый выстрел рассек утреннюю немоту и шорох снаряда пошел над головой, Алексей вспрыгнул на бруствер. Шрапнель разорвалась высоко над деревней.
– Сразу! – крикнул Алексей.
– Не совсем, – ответил Сверчков и оттянул прицел на пять делений.
– Теперь – да, сказал он, с первой вспышкой спортивного азарта разглядывая дымок, лежавший на гребне высокой хаты.
Снаряды шли в небе проторенной дорогой. В кругах Алексеева бинокля по ожившей улице деревни носились люди с винтовками, вырвавшиеся лошади, белым куревом потянулась к небу одна из крайних хат. Близко где-то татахкали два пулемета. Заглушенное расстоянием, колеблемое ветром, донеслось «ура». Сверчков вдруг крикнул: «Бомбой!» Черный столб дыма встал у околицы. Замолк один из пулеметов. Сверчков всадил в то же место вторую и третью бомбу.
Алексей чувствовал, что они приняли заметное участие в борьбе. Когда он слышал свист снарядов над головою, видел взрывы – у него было такое ощущение, как будто это он руками швыряет горячие мячи к врагу.
Телефонист протянул трубку Сверчкову.
Начальник участка сообщал, что красные уже у околицы и лучше перенести огонь на укрепление.
Линия наступления продвигалась вперед, и местность вокруг пункта оживала. Гуськом, не прячась, пробежал по дороге отряд, хрустя корочкой снега, по полю проскакал ординарец, легкое орудие, дребезжа и стуча, продвигалось вперед. Три красноармейца волокли пулемет. Переваливаясь с боку на бок, спешила санитарка.
Дух наступления, укрепляющий и несущий вперед армии, витал над этим движением. Нельзя было не поддаться этому стремлению вперед. Даже телефонист, который не отрывал теперь глаз от дороги, забывался и говорил мимо трубки.
– С мельницы далеко видно, – сказал Алексей, указывая пальцем вперед, и Сверчков сейчас же сообщил на батарею, что пункт передвигается на линию передовых окопов.
Тяга вперед передалась на батарею. У мельницы их настигли двое верховых. Это были Синьков и Федоров.
Обглоданные штормами, избитые дождями крылья мельницы чуть поскрипывали на ветру. Дверь была вырвана и кем-то унесена. В маленькое окошечко открывалась долина и далекая гряда холмов. Желтым кольцом, отчетливое, как печать, лежало укрепление. На утреннем ветру то замирал, то разрастался шум удаляющегося боя. Излетные пули свистали у мельницы, изредка щелкали по выветрившимся доскам.
– Ребята, провод под лестницу, чтоб не было видно, – распоряжался Синьков голосом нараспев.
Так на спокойных полигонах отдают приказы опытные командиры, претендующие на хладнокровие и лихость. Телефонист машинально повторял не только команду, но и этот спокойный профессиональный тон.
Укрепление стучало теперь всеми пулеметами, и едва заметные дымки как будто приподымали его над грядой холмов.
«Какие благодарные цели на этой войне», – думал Сверчков, ощущая некоторое недовольство тем, что первая роль перешла от него к Синькову…
Бомба зарылась в землю на обочине холма. Небольшая яма открыла в снегу черную пасть. Вторая, третья легли на какое-то сооружение, – щепа и камни летели кверху вместе с землей. Ружейный огонь сократился. Поле как будто замерло в ожидании. Но холм жил особой, страшной жизнью. Батарея била теперь очередями, и взрывы поднимали на его вершине один за другим высокие, как гигантские павлиньи хвосты, веера разметанной земли и долго не оседавшего дыма.
Грозное для наступающих цепей укрепление склонялось перед силой сосредоточенного огня. Пулеметы замолкали один за другим.
Внизу у двери послышался топот тяжелых сапог.
– Командир полка приказал сказать: «Здорово!» Сейчас пойдут в атаку. – Широкое лицо улыбнулось в четырехугольнике лаза и исчезло.
Запоздалый мститель, легкая батарея белых осыпала мельницу шрапнелью. Отступив от окна, наблюдатели сбились у толстых бревен, на которых держался мельничный стан. Пряча головы, когда нарастал свист снаряда, и опять подбегая к окошку, они видели, как серыми мухами, подымаясь с земли и припадая к ней, взбирались красные цепи на разбитый холм.
– Ну, нам здесь больше нечего делать, товарищи, – сказал Синьков, сбегая по лестнице. – Вот и первый бой и первая победа.
Глава IV
ПИКНИК НА СНЕГУ
Батарея участвовала теперь во всех боях дивизии. Она не только двигалась вперед за пехотной цепью, но и металась вдоль фронта.
Это не были тяжеловесные, продолжительные бои империалистической войны, когда обе стороны в смертельном ужасе, заглушившем все человеческие чувства, устилали трупами межокопную полосу ничьей земли, терзая сталью и взрывами километры полей и перелесков, осколками и пулями раздевая донага зеленые опушки прифронтовых лесов, – все для того, чтобы перешагнуть наконец проклятый, обтянутый колючей проволокой рубеж.
Захватив инициативу, красные теснили белых, не поддерживаемых большинством населения, к Риге и к морю. То здесь, то там они собирали кулак, подкрепляли его артиллерией и рвали фронт противника. Ни крупных конных масс, ни больших резервов, способных развить успех и превратить его в катастрофу для врага, не было.
И комполка, и командиры батальонов, и штабное начальство не скупились на комплименты дивизиону. Точная и действенная стрельба была на виду у всех. На фронте были только немногочисленные трехдюймовые батареи, и спутать мортирные разрывы нельзя было с действием легких гранат. Альтшванебург исправно поставлял снаряды. Мобилизованные возчики, сдав на батарею партию снарядов, пускались в обратный путь и через несколько дней опять догоняли дивизион с новым запасом бомб и шрапнелей.
Зато добыча фуража осложнялась с каждым днем. После боевых действий она становилась первой задачей и первой заботой дивизионного начальства. Вдоль всех дорог рыскали разведчики и даже командиры, отыскивая в закутках, на чердаках, на лесных полянах, на луговинах припрятанное сено. Платили любые деньги, выдавали квитанции, но беспощадно забирали все, что можно было скормить лошадям.
В Алексее проснулась крестьянская хозяйственность. Он помнил каждое пустое гнездо в зарядном ящике, каждый каптерский мешок с сахаром и сапогами. А недостаток сена и овса угнетал его, как мысль о дожде в засуху. Если позади батареи не шел туго увязанный и закрытый брезентами трехдневный запас фуража, он терял веселую повадку, которая все еще была свойственна ему, ходил хмурый, озабоченный, хлестал нагайкой по заборам и иссохшим безлистым кустам. Он гонял тогда ординарцев по дальним фольваркам, вызывая даже протесты Синькова, который держал разведчиков при начальниках ближних участков, не надеясь на телефонную связь.
Алексей понимал, что Синьков прав, но продолжал гнуть свою линию. Он хорошо знал эту господскую психологию: «Мы хорошо знаем наше дело, мы хорошо его ведем, а уж все, что нам необходимо, – гони! Откуда? как? – нас не касается». И дальше то, что не говорилось вслух: «Нечем? – Не воюй». Но сам он знал, что в тылу лежит разоренная трехлетней войной и плохими хозяевами страна. Он видел ее замирающие города, замк-пудовики на воротах заводов, толпы безработных у биржи, ее разбогатевшие землей и обедневшие конским тяглом и инвентарем деревни, и у него болело сердце за эту большую, отвоеванную им и его товарищами землю, которой не давали вздохнуть, оправиться, зализать гноящиеся раны.
Он знал, что сейчас нет для этой страны ничего важнее, как сорвать со своего горла руку врага, победить в гражданской войне, но каждое усилие страны, не жалея бросавшей на фронты хлеб, снаряды, одежду, мясо, он наблюдал с двойным чувством: он рад был ее выносливости, ее воле к победе и тосковал при виде гор добра, которые пожирала эта священная и неизбежная, тяжелая и героическая война. Сам он готов был отказаться от половины пайка, от новых сапог, даже – черт возьми! – от курева, и в то же время он готов был броситься на интенданта, отказывавшего его батарее в починочном материале, палаточном брезенте или махорке.
Красные всюду встречали сочувствие батраков эстонцев и латышей, крестьян-середняков. Но не у них было сено, не они располагали запасами овса. А крепкие хозяева – «серые бароны» – глядели волками на красноармейских фуражиров и готовы были скорее сжечь свое добро, нежели отдать его красным.
За всеми этими мыслями, за заботой, которая стояла за плечами каждого приходившего к нему человека, Алексей забывал о себе, о своем. Мысль о Вере обжигающим током пронизывала его в самое неожиданное время, между двумя заботами. Память кольцевым вихрем поворачивала в сознании последнюю встречу, ветер латвийского поля нес запах тонких волос, но кто-нибудь обращался к нему, и новые заботы занимали свое хозяйское место. Синьков уже посылал ординарца с почтой на станцию. Алексей не протестовал, но сам письма не сдал, чтобы не закреплять эту моду. Он не дал Вере телеграммы из штаба, потому что провода были загружены, а командиры ругались у окошечка телеграфиста.
А ему хотелось написать Вере. Но какие коротенькие фразы могли ей сказать все, что нужно, и когда он мог просидеть над письмом часы, чтобы смягчить это свое молчание многими, полными горячей благодарности словами? Ему хотелось похвастать перед нею. Его политика по отношению к Аркадию была верна. Он сохранил для армии хорошего специалиста. Он мог ей написать, что теперь он без особого раздражения смотрит в глаза Синькову и слушает его скрипучий в моменты неудовольствия голос. Вере неплохо было бы узнать, каким поступком Синьков еще больше поднял свой авторитет у красноармейцев и даже у коммунистов.
Холодным утром, когда красноармейцы, начиная дневной поход, еще ежились в шинельках, хлопали друг друга по спине, бегали взапуски, чтобы согреться, дорогу пересекло небольшое озерцо, затянутое свежим льдом. Обхода не было, озерцо было неглубокое, и первое орудие пустили на пробу. Правое колесо провалило лед, но кони с размаху вынесли гаубицу на берег. Благополучно проскочил и зарядный ящик. Но уже второе орудие застряло на самой середине озера, изломав весь лед. Ездовые неистовствовали, нагайки рвали шерсть коренников, но кони бились в холодной воде по брюхо, и колеса все больше уходили под лед. Озерцо на глазах превращалось в страшную ловушку. Красноармейцы беспомощно стояли по берегам, глядя, как бьется упряжка на середине ледяного, дающего все новые трещины круга.
– Слезай в воду! – скомандовал Синьков ездовым.
Но ездовые, получавшие вместо сапог ботинки и обмотки, только выше подобрали ноги.
– Бери! – крикнул Синьков и бросил повод ординарцу. Он соскользнул с седла и в тонких, истоптанных и порванных сапогах вступил в воду.
– Ребята, навались! – крикнул он с молодым, уверенным задором.
Алексей уже стоял у другого колеса. Они весело смотрели друг на друга. Командиры и красноармейцы, в сапогах и обмотках, не разбирая, по льду и по воде неслись к орудию. С татарским кочевым криком вышло орудие на берег. Но люди не уходили. Теперь орудия входили в воду меж двух стен стоящих в ледяной воде людей и выбирались на противоположный берег без задержки.
Переправив батарею, люди выходили из воды мокрые, продрогшие, но веселые, как молодая ватага разгулявшихся в праздник парней. Синьков вылил воду из сапог и теперь не ехал, но бежал, чтобы согреться.
– А ведь иначе и не выбраться, – говорили красноармейцы.
– Савченко – и то тянул!
– А командир с комиссаром наперегонки.
– А командир одной ручкой.
– А все равно – пример…
Но все это хорошо для письма… И он и Каспаров не могут все-таки усвоить, почему так быстро и решительно перестроились командиры. Если бы они могли понять это, тревога улеглась бы, открылся бы путь к настоящему доверию и сближению. Карасев почему-то не беспокоит Алексея, – работает как машина. Молчальник. Неизвестно, что у него на душе, но, кажется, весь он тут. Другое дело Синьков и Воробьев. Ведь это они, независимые и гордые, ходили по лестницам дома на Крюковым, куда-то исчезали, жили сытно в самые трудные времена и всегда казались Алексею ненадолго притаившимися врагами. Стоило вспомнить Алексею приходы Синькова к Вере – и все доверие, накопившееся за дни формирования и боев, летело к черту, и он не знал, говорит ли в нем комиссарская осторожность или простая человеческая ревность, которую должен глушить в себе комиссар Советов…
Над мерзлой землей этой капризной зимы рвал тугие полотнища туч неистовый ветер. Наклонившись в одну сторону, растерзанные, обледенелые, трепетали, как будто вступая в схватку между собой, ветви деревьев. Под набежавшей за утро хрусткой корочкой лежал мягкий и густой, тронутый долгими оттепелями снег. Низкие ходы батарейных орудий катились по шоссе. Синим барьером уже вставал впереди лес… Приближался отдых.
– Голубей гонять – первое удовольствие, – говорил Синьков. – Когда я был кадетом, у меня бывало до ста штук.
– А я любил разорять грачиные гнезда, – вспоминал Алексей. – В помещичьем саду застукал меня садовник. Долго уши болели. Теперь усадьбу взяли под детский дом, а в парке гуляет вся деревня…
– А у нас на улице ни одного дерева не было. Гомель – слышал? – вспоминал Крамарев.
В это время в ста метрах от дороги раздался долгий, испуганный и вымученный женский крик. Пусто и мертво было все кругом. И крик был неожиданный, какой-то невозможный. Казалось, кричит не человек, а не слышанная никогда птица.
Ломая хрусткую корку снега, Алексей и Синьков шагали к рощице. Батарея остановилась, и красноармейцы широким полукругом бежали вслед за командирами. Но из рощи уже неслась песня. Может быть, тот же женский голос запевал, мужской хрипло подтягивал.
– Вот петрушка! – остановился Синьков.
– Мираж в пустыне, – смеялся Сверчков, продолжая одолевать неглубокий мокрый снег.
Но женский голос застонал, заохал – не то это была боль, не то внезапная судорога, и мужской повелительно кричал:
– Брось, Сонька, брось, говорю!..
Уже передовые красноармейцы достигли рощи. Трещат сухие сучья под сапогами. Голоса затихли.
На полянке, укрытой нетронутым белым снегом, стоит запряженная городская коляска. На маленьком коврике, на мешках с сеном, на волчьей шубе, позабыв о погоде, о месте, о часе, среди невиданных давно батарей бутылок, консервных банок, колбас, розового шпика и карамели валялись четверо: двое мужчин и две женщины, видимо охмелевшие, не успев еще насладиться этим своеобразным пикником. Младший мужчина, в бекеше и папахе, был уже пьян до того, что не замечал ни красноармейцев, ни подруги, которая уговаривала его съесть еще одну сардинку. Старший поднялся на колени, потом, держась за колесо экипажа, на ноги. Он протягивал пришельцам коньяк и консервную банку и пригласительно распевал:
По обычаю петербургскому…
Он приложил консервную банку к сердцу и убедительно возопил:
Мы не можем жить без шампанского…
И вдруг, перебив себя, икая, сказал:
– Это ни-чего… пожалуйста, не беспокойтесь…
Кто-то из красноармейцев тяжело уронил:
– Паразиты!
Слово это вторично родилось в семнадцатом году на митингах. В девятнадцатом году это слово умели еще произносить резко и многозначительно.
Снег казался розовым Алексею, и стволы сосен и берез пошли в хороводе. Он знал, что следует сейчас поступить холодно и разумно, но знал и то, что сделает сейчас что-нибудь безумное и злое.
Он выхватил из рук пьяного бутылку, она улетела на середину поляны, легла и завертелась, как испорченная граната.
Синьков положил ему руку на плечо легким жестом.
– Ваши документы, гражданин, – он протянул руку, с запястья которой свисала длинная нагайка.
Слово «документы» отрезвило Алексея. Стволы остановились, и поляна стала белой.
– Сволочь! Перестрелять!..
Но это уже было пролетевшей бурей.
Одна из женщин пошла в сторону, поправляя шляпу, за ней двинулась другая, как будто все последующее их не касалось.
– Снабженцы! Заранее можно было сказать, – скрипел Синьков. – Документы пойдут в штаб армии. По коням! – крикнул он батарейцам.
Уже батарея входила в деревушку, где предстоял ночлег, а Алексей все еще не мог забыть пикник «честных специалистов». Он взял документы у Синькова и сам настрочил рапорт в только что образованный Особый отдел. Этот рапорт звучал не как донос, но как ультиматум.
Большевистская латармия в наступательном порыве глубоко вдавилась в расположение противника. Фланги у Верро и у Режицы отставали. Намечен был удар от Пскова и Изборска, и туда перебрасывали Шестой стрелковый полк, придав ему весь мортирный дивизион. Перед походом в сто двадцать километров обе батареи соединились. Воробьев, еще больше отяжелевший в теплой бекеше, сошел со своего самого сильного во всей батарее коня и, улучив минуту, буркнул Синькову:
– Поговорить надо…
Синьков только кивнул головой. Ясно было, что предстоит неприятный разговор с этим негибким, упрямым человеком.
Пока красноармейцы обеих батарей делились впечатлениями и Алексей устраивал собрание объединенной ячейки, Воробьев ходил отчужденно, поглядывая поверх голов. Если с ним затевали беседу, он останавливался, шевелил пожелтевшим пальцем пепел в черной трубке, отвечал тихим и вежливым говорком, и глаза у него были голубые и мягкие. Но при первой возможности он отходил от собеседника, отправлялся к коновязям, подолгу смотрел лошадей, обмениваясь с ездовыми и уборщиками отрывистыми, пущенными мимо трубки словами.
Вечером командиры вышли в поле. Здесь нетрудно было улучить минуту для разговора.
– Я слышал, ты решил совершать подвиги, – начал Воробьев, глядя перед собою. Он сосал потухшую трубку, и глаза его стали холодными и пустыми. – Это что-то новое.
Синьков выжидательно молчал.
– Скажи же что-нибудь, – рассердился Воробьев.
– А еще что ты слышал? – спросил Синьков.
– Людей арестовываешь, слышал… Красный орден получить хочешь? Прикрыть георгиевский крест?.. В холодную воду скачешь…
– Вот что, – взял его за рукав Синьков. – Говорить надо, но только спокойнее.
– Дорого мне обходится это спокойствие, – отодвинулся от него Воробьев и принялся на ветру раскуривать трубку.
– Ты очень горяч, Леонид! Ты не любишь рассуждать. Захлестывает тебя… Мы условились перейти на ту сторону с орудиями и людьми. Я к этому и веду.
– Но уже больше месяца исправно глушишь тяжелыми своих…
– Эстонцев, – внушительно поправил Синьков.
– Почем ты знаешь? Там и наши…
– Когда знаю наверняка, что наши, бью мимо или посылаю Крамарева, Сверчкова. Все равно кто-нибудь стрелял бы… Еще одно. Прими в соображение, что сейчас они бегут, как зайцы. Что же, нам догонять их с орудиями? «Подождите, господа, мы за вас!..» И это еще не все. Пока у красных успех – мы можем рассчитывать на десять человек, на два десятка батарейцев. Когда побегут красные, мы можем поднять против коммунистов значительно больше. Словом, нужно выжидать. А раз предстоит оставаться здесь на неизвестный срок, надо завоевать доверие. Иначе мы рискуем попасть обратно в Петроград, но уже не на Крюков и не в штаб артиллерии, а на Гороховую два. И я должен тебе прямо сказать, Леонид, – из простого упорства ты ставишь под угрозу весь план.
– Это я – то?!
– Да, ты портишь дело. Ты возбуждаешь подозрения. На тебя смотрят косо. Особого комиссара к тебе хлопочут.
– Комиссара? – вырвал трубку изо рта Воробьев. – Уволь, Аркадий. Только дышал потому, что никого над душой не было. Этот соглядатай… как его… Сергеев… ко мне не лез. Уволь! Назначь командиром батареи Веселовского.
– Под каким предлогом?
– Ты – дипломат. Найди.
– Провалить все дело? Надо выдержать, Леонид…
Где-то в поле зачинались теплые ветерки. Они налетали с каким-то непонятным сухим шелестом. Они несли с собою первые пожелания весны. Они скользили мимо иссохших кустов, приземляясь, как на коньках, летели по кромке снега, шаля, прятались в полах шинелей. Друзья молча глядели на сизый, с огневыми жилками, горизонт.
– Солдаты портятся, – вдруг сказал Воробьев.
– Красноармейцы, ты хочешь сказать.
– Ну, красноармейцы, – процедил Воробьев. – Игра твоя сильно подпорчена, Аркадий.
Синьков перебирал плечами. Ветерок вдруг показался ему неуютным.
– Разбросали людей. Я надеялся, что все мои будут в кулаке.
– Не это главное. Наше влияние падает, Аркадий. А их, – он злобно кивнул в сторону деревни, – растет. Это надо видеть, Аркадий, и понимать. Если в скором времени не случится поражения красных, то хорошо, если нам удастся уйти двоим без всяких орудий.
– Уйдем вдвоем, если будет нужно… Сдаваться рано.
– Ну и играть эту кровавую комедию долго нельзя.
Огненные прожилки пылали там, куда смотрел Воробьев. Разгорался пожар позднего заката.
– Завтра будет ветер, – сказал Синьков.
Глава V
ЛЕСНАЯ СТОРОЖКА
Совершив переход по ближайшим тылам, дивизион опять включился в боевую деятельность, благоприятно развивавшуюся для красных.
Артиллеристы громили баронские мызы, разрушали болотные гати, железнодорожные мосты, сшибали с холмов деревянные мельницы и церкви, ставшие наблюдательными пунктами белых, поражали навесным огнем пехотные окопы. Если утром начинались атаки, к полдню по телефону обычно приходило сообщение о занятии пехотными частями позиций противника, и к вечеру батарея получала новую стоянку в пяти – десяти километрах к западу или к югу от прежней.
Это были места, не тронутые еще вихрями гражданской войны, лежащие в стороне от шоссейных и железнодорожных путей. Здесь, у каменных оград немецких мыз и на задворках заостренных службами дворов «серых баронов», можно было найти яму, в которой год и два лежали тонны сухого, красивого картофеля. В лесах, подальше от дорог, в стогах стояло сено, а в закутках прятались остатки не истребленных еще стад и домашней птицы.
Хозяев терзала неразрешимая задача: биться ли до хрипа, до рукопашных схваток, чтобы хоть что-нибудь уберечь из этого живого добра, или, может быть, лучше распродать всех поросят и баранов, чтобы остались хоть деньги.
Комиссары и командиры клялись оберегать права и достоинство хозяев, вызывали старшину и тут же, при них, отдавали строжайшие приказы о вежливом обращении с жителями и сообщали о тех наказаниях, какие грозят всякому, кто осмелится забраться в амбар или на птичню с мародерскими намерениями.
За продукты платили щедро. На долгих стоянках помогали по хозяйству, – чинили сбрую, завозили в поле навоз, поднимали упавшие ворота и заборы. Латали крышу, крепили лестницы, амбары.
Все было хорошо до момента, когда нужно было уходить и вставал вопрос о фураже.
Разведчики и ездовые заглядывали во все щели, и, если находили фураж, каптенармус подкатывал фурманку, и хозяину предлагалось на выбор – продажа или реквизиция.
Никакие самые страстные, исступленные мольбы и проклятия не помогали.
– Фураж все одно не задержится, – усовещивал каптенармус, – не наши, так другая часть, а то интендантство. Тут, брат, – разводил он руками, – не упрятать. Фураж – это первая статья!
Дружба с хозяевами шла врозь. Русские деревни остались позади. Здесь беднота, сочувствовавшая красным, почти поголовно батрачила на широко разлегшихся хуторских землях и угодьях немецких помещиков и «серых баронов», крепкой хозяйственностью, суровым нравом, устойчивостью традиций купивших когда-то сердце Столыпина. Слой малоземельных был слаб и целиком зависел от крепких хозяев.
Иногда к каптенармусу или даже к комиссару приходил хмурый рябоватый парень, отзывал в сторону и после краткого разговора вел к тайным картофельным ямам и к спрятанным в оврагах стогам.
– Шерт! – выплевывал трубку коренастый, по-обезьяньему заросший «барон», видя, как фурманка прямо через канавы идет к тайнику. Он хлопал некоторое время слезливыми сонными веками, взором отыскивая того, кто выдал и кого чуяло сердце, и уходил, не оглядываясь, не спросив даже денег, потому что еще слишком свежи были клятвы, что в доме остался только мешок картошки и нет ни огурца, ни крынки молока.
В одном из таких серобаронских домов хозяин поставил гостям крынку молока. Всех пивших молоко свезли в больницу. Гостеприимный хозяин скрылся, бросив однозубую старуху с вихрастым внучонком. В другой деревне комиссар штабной команды отправился ночью до ветру и не вернулся. Наутро его обнаружили в дальней яме с простреленным затылком.
У полковых штабов и управлений этапных комендантов останавливались пешеходы с котомками, вздетыми на суковатую палку. У них были свои счеты с отступившими белыми частями, и они просились в Красную Армию. Обычно такие добровольцы немедленно вступали сочувствующими в ячейки и время от времени спрашивали – где теперь находятся «красные латышские батальоны, которыми распоряжается сам Ленин».
На одну из таких временных стоянок прибыла скопившаяся в штабе армии почта из России, и через час после этого в передках разразился скандал.
Игнат Степанович Коротков, ни слова не говоря, ударил по уху пришедшего за хлебом Федорова. Серега, всхлипывая и визжа по-бабьему, рвал с него шинель. Разведчики выручили товарища и, не скупясь, отсыпали сдачи Короткову. Савченко смотрел на драку в окно, подзадоривая обе стороны, но сам в бой не вступал.
– Почто в драку полез? – спросил появившийся старшина Федорова.
Федоров, все еще оглушенный, рассерженный, вытирал капли крови из носу, мигая глазами.
– Да он ведь меня кулачищем огрел. А чего? Разве ж я знаю…
– Ты, что ль, первый, Игнат Степанович? – спросил старшина Короткова.
– Ну, я… – буркнул похоронным тоном Коротков. – А за что, ему хорошо известно.
– Бабу не поделили, – догадался кто-то.
Оба противника наградили догадливого долгим, недружеским взглядом.
Коротков повернулся и хотел было уйти, но старшина задержал каптенармуса.
– Разрази меня бог – не знаю, – с искренней наивностью продолжал уверять Федоров, и даже пальцы его инстинктивно сложились в щепоть.
– Что ж вы, ребята, друг другу морду в кровь, а за что – неизвестно. Кто в такое поверит?.. Что ж я комиссару доложу?
Алексей уже подходил вслед за сбегавшимися на шум драки красноармейцами.
– Не хватало еще рукопашной, – сердито сказал он, выслушав доклад старшины. – Ты, что ль, первый ударил его? – спросил он Короткова.
– Я, – еще грубее буркнул Игнат, как будто вид комиссара опять привел его в раж. – Убить его мало! И усех их…
– Кого это всех?
Но Игнат уже овладел собою.
– Интригу они ведут промежду нами, товарищ комиссар.
– Кто они? – стукнул сапогом Черных.
– Брательники евонные…
Весь круг красноармейцев заговорил, заохал.
– Мельницу, наверное, отобрали, – сказал один.
– Беднота наседает…
– Хватит с тебя, Коротков, – и другому надо…
Деревенский конфликт был известен всем в батарее.
Мало-помалу разъяснилось, что Коротков получил из дому письмо. Комитет бедноты окончательно отобрал мельницу в общее пользование, а земли помещичьи, нарезанные деревенскими богатеями весною, переделили. Всем этим коноводит брат Федорова, Василий, одноногий инвалид империалистической войны. Коротковские жены писали, что «снюхался он с городскими, ездит в Совет и всех односельчан зовет жить в большом общем доме, есть из одного котла, как на походе, межи перекопать, коров согнать в одно стадо и всем вслух читать одну газетку».
Алексей с интересом смотрел на Федорова и представлял себе его без ноги.
– Партийный братан твой Василий?
– Безногой он… где ж ему в партию?!
– Ну вот что, за драку командир обоих посадит под арест, а ты, Федоров, ко мне зайди.
С Федоровым разговор получился серьезный. Алексей вызвал Каспарова. Он твердо решил воспользоваться случаем и крепко взяться за парня, а заодно и за других.
– Болит ухо? – спросил он разведчика, когда тот уселся на скамью в комиссарской халупе.
– Прошло… – и на худом лице Федорова проглянуло солнышко легкой усмешки.
– Значит, опять пойдешь целоваться с Коротковым?
Усмешка погасла, и Федоров внезапно вырвал руки из-под стола.
– Подожди… я не Коротков, – успокоил его Каспаров, которого он едва не задел по лицу.
– Извините, товарищ Каспаров. Я вас очень уважаю.
Каспаров пригладил бороду и улыбнулся довольно.
– Ты как, с братом ладишь?
– Семейство наше бедное, а он один супротив всех. Боевой мужик, хоть и безногой.
Нельзя было понять, одобряет ли он или осуждает. Должно быть, темный страх за деревенский кусок глушил в нем естественное признание не только напористости и лихости, но и правоты брата.
– Ты от Коротковых чего-нибудь хорошего видел?
– Работником на мельницу взять сулились… Махоркой угощали…
– И то краденой…
– Известно, краденой, – красноармейцам недосыпают.
– А ведь вы на Виленский прикатили приятелями.
– Земляки, товарищ комиссар.
– И ты бегал, в рот им заглядывал.
Федоров отсутствующим взглядом смотрел в оконце.
– И вообще, кто тебе друг, кто враг, ты и по сей день не знаешь, а брат твой, я вижу, знает. Для кого в деревне комитеты бедноты поставлены? А ты стакнулся с богатеями, которые в кулаки лезут. Эх, ты, голова садовая! Вокруг себя поглядеть не умеешь. Ты за что ж здесь воюешь? Ну-ка, объясни.
Они навалились на разведчика со всей тяжелой артиллерией привычной аргументации. Алексей рукою щедрого садовода прививал Федорову черенки и саженцы возлюбленных им и проверенных мыслей.
Взор Федорова отсутствовал по-прежнему, но желтые немытые пальцы неестественно живо суетились на полах шинели, и Алексей теперь смотрел не в глаза собеседнику, а на пальцы.
– Тебе в ухо заехали, а, я смотрю, на тебя и такая агитация не действует.
– Я знаю, что я сделаю! – сказал вдруг Федоров и сбросил руки с колен.
– Погоди, – удержал его Алексей. – Ты вот что сделаешь. Ты напиши брату такое письмо, чтобы он прочитал всей деревне. Вот сегодня, после собрания, на котором мы поговорим о твоей драке с Коротковым с классовой точки зрения. Напиши Василию, как мы с белыми деремся, и скажи от нас, чтобы он еще крепче прижал своих буржуёв.
Шутя, но с силою, он взял Федорова за борта шинели и потряс так, что легкое тело разведчика заколебалось, как подхваченный ветром тростник.








