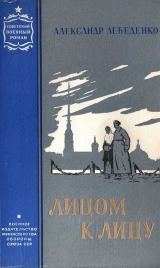
Текст книги "Лицом к лицу"
Автор книги: Александр Лебеденко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 38 страниц)
Через неделю за обедом, после сладкого, они заявили родителям, что оба вступают в партию большевиков.
Отец снял очки и протер платком глаза. Мать решила, что дети шутят, и деланно и долго смеялась.
Близнецы поблагодарили за обед и ушли к себе.
В столовой воцарилась тишина, какая может быть в комнате, где находятся два старца. Отец, выкурив папиросу, отправился на боковую. Мать хлопотала по хозяйству на кухне, рылась в рабочей корзинке и весь день задумывалась. Она останавливалась у окон на улицу, вздыхала, когда проезжал грузовик. В комнате сыновей было тихо, как в монастырской келье. В щель двери можно было увидеть, что оба, сняв ботинки, лежат на кроватях с книгами в руках. Олег читал «Курс русской истории» Ключевского, Игорь листал «Ниву» за 1896 год.
Вечером, когда близнецы ушли, мать сказала:
– Это все Степан. Он на заводе… И такой нахальный…
Отец посмотрел на нее долгим взглядом, под которым она постепенно увядала, и, как всегда про себя, сказал (не подумал, а сказал) что-то нелестное.
Она почувствовала и, как всегда, с благодарностью решила: «Какой он все-таки деликатный». Но по существу вопроса не согласилась. Ясно, что это – Степан.
Образ жизни близнецов резко изменился. Они уходили в восемь утра, редко бывали к обеду и возвращались глубокой ночью. Если они оставались дома, комната их наполнялась шумной молодежью. Отец рассматривал в передней рабочие кепки, смятые студенческие и солдатские фуражки. Мать удивлялась простоте, с какой заходили к юношам молодые девушки. Они не носили галош и шляп, следили в гостиной и запросто забегали в ванную помыть руки. Гости уносили и приносили книги, брошюры, газеты. Они без конца звонили по телефону. Казалось, все учреждения населены их знакомыми. Близнецы почти забросили институт. Они слушали какие-то лекции и какие-то читали сами. В их отсутствие звонили незнакомые требовательные голоса. Спрашивали «товарищей Ветровых». В июле ворвались юнкера. Осмотрели квартиру, удивились, ушли. В октябре близнецы исчезли вовсе на целую неделю. Первую весть о них, о том, что они живы и здоровы, но спят и питаются в Смольном, принес родителям все тот же Степан.
Степан, приятель молодых Ветровых, вихрастый, вытянувшийся за последние годы, как молодой дубок, – рабочий парень с верфи. Он всегда смотрит в глаза немигающим светлым взором, не здоровается первым, не уступает дорогу и, следовательно, по мнению господ, нахал и грубиян.
Характер у Степана неуемный. И жизнь его не успокаивала. С детства брал он с бою все, что нужно в жизни, отвоевывал у отца, позже у матери – вдовы, сбившейся с ног женщины, у дворников, у дворовых ребят, у соседей, даже место для сна – у парной, тряпичной тесноты дворницкой конуры.
Два марша ковровой лестницы отделяли дворницкую от второго парадного хода господ Бугоровских. Степан бывал у них и на кухне и в апартаментах. Тихо в больших комнатах. Сколько ни гляди – ни одной кровати. Здесь не жить, а только прохаживаться. Только птице сидеть на этих креслицах с гнутыми ножками. Повернись – что-нибудь заденешь, разобьешь. В господском кабинете можно заблудиться между диванами и столиками.
По лестницам ходили барышни и господа. Рыжий Петрусь, сын старшего дворника, смотрел на них, как на икону в церкви, и со всех ног бежал открывать дверь. Степан соколиным взором подмечал в них смешное, чтобы ославить среди детворы и прислуги.
Генеральша из шестого номера поправляла подвязку за дверью парадной. Степан заметил, что у нее кривые ноги. Вера Карловна недоумевала, порвалось ли на ней что-нибудь или опустилось и не вернуться ли ей домой, – так пялил на нее глаза весь двор.
Степан был не злой, но у него была гордость не по достаткам. У него была гордость, но не было легких санок, на которых хорошо слетать со снежной горы на заднем дворе, не было сапог с пластинками для коньков, не было ранца с книгами, не было ясных галош и перочинного ножа.
Двенадцатилетним парнишкой он подошел к Игорю и, чтобы не звучало грубо, сказал:
– Дай-кось я тоже промну бока.
Грязной рукой схватил он ветровские сани за полоз.
Но Игорь не отпустил веревку.
– Ты попроси как следует, – поднялся из-за снежной горы Олег.
Близнецы встали рядом, выжидательно смотрели, четырьмя руками держась за веревку.
Степан вскинул сани кверху и врыл их в снег так, что один полоз погнулся.
– Нет, ты попроси, – настаивали близнецы. – Мы тогда дадим…
– Очень нужно. Задавись ими… – Степан еще раз пнул ногой сани и пошел со двора.
Близнецы догнали Степана, преградили ему путь и предложили настойчиво:
– Ты попроси и катайся.
– Ты попроси – и мы тебе сани совсем подарим…
Степан стал, сжав кулачонки в карманах. Потом щелчком сплюнул и послал их в самое далекое место, какое знал.
Но близнецы не дрогнули.
– Если тебе так трудно попросить, – пожалуйста, бери без просьбы, – сказал наконец Олег. – Сани твои.
И близнецы оба направились в дом.
– Жаловаться, – решил Степан. – Ах, так!
Он до позднего вечера летал с горы, не жалея саней. Уже во всех окнах ядовитыми цветками вспыхнули яркие абажуры, но никто не приходил отбирать сани. Тогда Степан аккуратно выпрямил полоз, отряхнул снег, поправил коричневый бархат и снес сани на кухню к Ветровым.
На другой день он застал сани дома. Мать сообщила: приходили гимназисты Ветровы и сказали, что дарят сани Степану.
Теперь Степан скалил белые зубы навстречу братьям, держал их сторону в стычках и даже пообещал взять их летом на Голодай ловить рыбу. По секрету он рассказал братьям, что товарищи отца доверили ему большое дело – разносить запрещенную газету. Рассказал, как прятал ее от городового в водосточной трубе. Обещал принести и им один номер. Но Ветровы уехали весной на дачу и вернулись только к началу учебного года.
Когда вспыхнула война, Ветровы осведомляли Степана о боях на Западе, у Дарданелл и у Багдада. Ветровы первые объяснили Степану, почему побеждают немцы.
Степан, который твердо знал, что русский мужик богатырь, а «немец-перец-колбаса» щуплый и тонконогий, как Ульрих Гейзен из четвертого номера, или толст и неуклюж, как Карл Краузе из пивной, что на углу, не поверил Ветровым.
Тогда, задетые недоверием, Ветровы привели его в свою комнату, где во всю стену висел разрез океанского корабля, и рассказали ему всю правду.
– А вы пойдете на войну офицерами? – спросил вдруг Степан.
– Мы не пойдем ни офицерами, ни солдатами, – ответил Олег.
– А если возьмут?
– Тогда мы пойдем солдатами и будем всем товарищам объяснять все, как объясняли тебе.
Степан смотрел на них так, как если бы у каждого из них на лбу вырос рог.
Когда Степан попал на завод и услышал о войне подобные же речи, он стал чаще ходить к Ветровым и спрашивал их обо всем без конца.
Отвечать Степану стало для Ветровых важным делом. Они решили было заниматься с ним регулярно, но Февраль выкинул на улицы и на заводы тысячи ораторов. Революция кричала в уши молодому рабочему Степану. Она была ему по характеру. Спрашивать теперь было у кого. Он опять встречал Ветровых только на ходу. Кепка у него спрыгнула совсем на затылок. Прядь волос била по носу, правое плечо поднялось и выдалось вперед, как у человека, который идет против ветра, и на боку в черной кобуре повис полученный на верфи в красногвардейском отряде револьвер.
Глава X
ЛЮБОВЬ ПОРУЧИКА ВОРОБЬЕВА
Анастасия Григорьевна Демьянова вошла в комнату стремительно и остановилась только у рояля. Музыка оборвалась на высокой, фальшиво прозвучавшей ноте, и Маргарита, не снимая пальцев с клавиатуры, вопросительно посмотрела на мать.
– Рано начинаешь… я полагаю… – Поправляя юбку, Анастасия Григорьевна устремилась обратно в свой будуар. – Сними сейчас же. – Это уже из-за двери. – Надень глухое платье.
Губы Маргариты выступили вперед, и из-под пальцев вырвалась капризная, бойкая трель. Она осмотрела свои круглые плечики, полуприкрытые газом. Это голубое платье с низким вырезом сделала ей мать. Почему же нельзя его носить? Сама Анастасия Григорьевна говорит, что женщине столько лет, на сколько она выглядит. Почему же это неприменимо к ней, к Маргарите? Пышные плечи и полные руки в пятнадцать лет бывают не у каждой, и не каждая сознает себя на шестнадцатом году хорошенькой женщиной.
Маргарита лениво плыла на носках по гостиной, оглядывалась во все многочисленные зеркала.
– Ты еще девчонка и уже любишь, чтобы на тебя пялили глаза, – продолжала Анастасия Григорьевна. – Не понимаю удовольствия… Не беспокойся – твое придет и никуда не денется. Если бы папа был жив, он пришел бы в ужас. Дочь профессора Демьянова!..
«Как это пялят глаза?» – размышляла Маргарита. Она повела плечом и выставила ножку в синенькой туфле.
…У Леонида Викторовича глаза загораются, а у Синькова темнеют. У Степы Коломийцева глаза всегда тусклые, а когда он жмет ее руку, становятся влажными и до противности мутными.
– Кто приходит сегодня? – по-мужски, глуховато звучал голос матери из будуара. Она расчесывает свои черные косы перед трюмо, и у нее во рту шпильки.
– Леонид Викторович, Синьков, может быть, придут Ветровы…
– Пожалуйста, в двенадцать изволь прощаться и – спать, а Петру скажи, если сядут играть, чтобы больше двухсот не проигрывал. Не везет – пусть бросит. Я буду к трем-четырем. Оставьте мне чай и бутерброды…
Между четырьмя окнами гостиной струятся черные стекла узких зеркал, с краями в застывших радугах. От ковров, от ворсистых бордовых скатертей, от глубоких теней абажура комната кажется мохнатой.
Поручик Воробьев шагает размашисто и твердо. Шаги и шпоры глушит ковер. На хрустальной полке вздрагивают два самурая с мечами. У поручика рост выше шести футов и фигура кузнеца.
– Я вам звонила и вчера и позавчера, а вас не было. Ваша Куделя сказала, что вы уехали.
Поручик остановился перед девушкой, звонко сложив каблуки.
Она была ему ниже плеча.
Воробьев крепко взял ее за подбородок.
Девушка сердито ударила его по руке.
– Напрактиковались с горничными? По-солдатски…
Поручик вдруг ушел в себя. Отошел. Зашагал еще резче. Ему хотелось, чтобы под сапогами вместо ковра звенели камни мостовой. Эта девчонка попала в цель. Ах, как бы он зашагал именно по-солдатски, по хорошей дороге, впереди рядов, забыв об этом разлагающемся городе, о гибели армии и страны.
Маргарита заметила отчуждение поручика и, приближаясь к нему, говорила, кокетничая:
– Я надела для вас декольте. А мама велела снять. Не скажете – надену опять. – И она выпрыгнула за дверь.
Поручик раскрыл серебряный портсигар и вынул из-под папирос крохотные клочки бумаги. Он разорвал это письмо, забыв переписать адрес. Проклятая улица вылетела из головы. Фамилия – братья Карелины. Но улица? Номер дома есть. Надо вспомнить во что бы то ни стало… Закрепить связь, взять деньги… Он оглянулся – сам заметил: новая привычка – и расправил клочки на крышке портсигара. Сосредоточенно смотрел. Клочки никак не складывались. Он переставлял под столом длинные ноги, тер переносицу. Так скучающие холостяки разгадывают ребусы и кроссворды на последних страницах журналов.
Маргарита неслышно подобралась по ковру и свеженапудренными руками обвила шею поручика.
Поручик расправился во весь рост. Огромный кулак зажал портсигар и бумажки. Девушка от толчка упала на тахту. Воробьев стоял прямой как столб. Напряженные плечи поднялись. Он дышал как после долгого бега.
– Медведь! – крикнула Маргарита. – Петля спустилась… Все порвал… – Она, не поднимаясь, перебирала в пальцах золотистую сетку.
– А вы не шутите… так…
– Как это так? – передразнила девушка.
Поручик спрятал портсигар в карман, шагнул к тахте и легко сорвал девушку кверху.
– Оставь, – пропищала маленькая женщина. – Оставьте!
В передней позвонили.
– Я ведь все понимаю, – уже мягко сказала девушка. – У вас секреты…
– Ничего вы не понимаете, – серьезно сказал поручик. – Нечего понимать.
– Петька пришел, а то бы я сказала…
– Потеха с вами, – засмеялся офицер и призывающе протянул руки вперед.
Но девушка состроила нос и ускользнула к роялю.
– А, вы здесь уже? Это хорошо. Сейчас весь синедрион пожалует, – громко сказал Петр. Он был высокий, худой, со слишком смелыми кудрями и женскими губами колечком. Он вытирал руки полотенцем на пороге.
– Я рано уйду… – сказал Воробьев. – У меня не выходит.
– Пока не совершим кровопускания – не пустим, – уверенно сказал Петр, исчезая в коридоре. – Без вас какая же игра?..
Звонок следовал за звонком.
Близнецы Ветровы сели на кушетке и вооружились семейными альбомами. Студент Степан Коломийцев взгромоздился на подоконник. Он разбирал давно знакомые ноты. От предчувствия карт, азарта у него ёкало сердце. Оно стучало тем сильнее, чем меньше у него было денег.
Закинув ногу на ногу, Воробьев одиноко сидел в углу и курил. Молодежь, бывавшая у Демьяновых, любила этого большого человека, по первой просьбе и с добродушной улыбкой гнувшего между пальцами медные пятаки. Деньги он раздавал с легкостью, которая порождала мысль если не о богатстве, то о постоянных источниках дохода. Проигрывал он помногу и быстро. Выигрывая, половину раздавал в долг.
С семьей Демьяновых он был связан еще с тех пор, как племянник профессора, товарищ по институту, привел его на один из четвергов. Воробьев смущался своей недостаточно франтовской тужуркой, жался по углам, но был принят хозяевами приятно и доброжелательно.
Разумеется, в те дни не могло быть и речи о той интимности, какая зародилась и укрепилась после смерти профессора и в особенности в дни революции.
Временами, как, например, сейчас, когда Петр расставлял ломберный столик и укладывал на нем столбиками золотистые фишки, Воробьеву становится жаль, остро жаль того немного чопорного, но приятного, барственного уклада жизни, который господствовал в этой самой квартире. Сам профессор в молодости сочувствовал народникам и даже пробыл три года в ссылке где-то около Вологды, но выдвинувшись и на научном и на служебном поприще, стал лейб-медиком и политикой больше не интересовался. Убеждения его как-то сами собой слиняли, утряслись, отяжелели и опростились. Близость ко двору и аристократическим особнякам создавала далеко не демократические привычки. Знакомые не без основания считали, что, несмотря на близость с некоторыми кадетскими лидерами, профессор Демьянов далек от всяких мыслей, несовместимых с его придворным званием.
В большом кабинете Демьянова на видном месте красовался стол, крытый зеленой скатертью, на котором в массивных рамках стояли портреты великих князей с крупными росчерками через все паспарту. В знак того, что прошлое не забыто, в другом углу были собраны тусклые любительские снимки, на которых студент и административно-ссыльный Демьянов, кудрявый и задумчивый, был представлен в кругу демократических друзей и родственников.
Теперь «высочайшие» портреты были вовсе изъяты из обращения, а народники заняли почетное место в гостиной. Воробьев всегда проходил мимо этого иконостасика с улыбкой презрения и досады. В его трезвой голове не так-то легко было сместить крепкие представления о ценности вещей. Он знал цену и рублю и его влиянию. Отец его, почти на глазах сына, выбился из положения крестьянина-середняка в зажиточного хозяина. Когда Леонид подрос, оказалось возможным отправить его в город, в гимназию. Сын деревенского богатея оказался захудалым среди детей городской интеллигенции. Смеялись над его черными ногтями и неуклюже скроенным костюмом, над деревенским говором и нелюбовью к воротничкам и носовому платку. Но способностями и усидчивостью Леонид покорил педагогов, а необычайной силой и бесстрашием – товарищей по классу, которые не только примирились с ним, но и стали заискивать, добиваясь его дружбы.
Уже в пятом классе на вопрос, кем он будет, Леонид не колеблясь отвечал: инженером. Просто и естественно зародилось в нем и окрепло то снисходительное отношение ко всякому абстрактному академическому знанию, какое еще культивировалось в предвоенные годы. Инженер – это мосты, электричество, могущественные машины, залитые огнями фабрики, власть организованного, завоевывающего жизнь, творящего чудеса капитала. Инженер – это тугие крахмальные воротнички, добротное сукно на брюках, последний фасон ботинок, ослепительные галстуки, аткинсоновские духи, арцыбашевские романы и упоительная атмосфера дамской многообещающей внимательности. В губернских городах инженеры занимали лучшие особняки и квартиры, первые ряды кресел в театре и последние в синематографах. Деловито проносились они по городу на рысаках и в автомобилях днем, медленно двигались в центре благоухающих, чуть презрительных кружков городской молодежи по вечерам, когда наполняются кафе и скверы.
Отец Воробьева тем временем не сидел сложа руки. Он добился участия в подряде на земельные работы по постройке железной дороги, которая, не стесняясь, разрезала их деревню пополам. Когда Леонид попал в Технологический, он уже был в числе богатых студентов. Он еще не видел иных путей к успеху, кроме диплома и денег, но у Демьяновых попутно свел полезные знакомства. Пришла война, военное училище и офицерские погоны, и когда, раненный в ногу, он прибыл с фронта в столицу, Демьяновы устроили ему назначение по военным заказам в Англию и Америку. Широкий мир столиц, бирж, рельсовых путей, океанских рейсов открылся перед ним. Большой жизненный успех казался обеспеченным. С окончанием войны можно было рассчитывать на прекрасное положение, солидную партию и крепкие связи.
Жизнь была начата уверенно и крепко. Революция показалась помехой, до того досадной, что не хотелось разбираться в ее сущности и особенностях. Следовало поскорее сбросить ее с пути и продолжать работу и рост еще более быстрыми темпами.
Когда демьяновская семья взяла на себя опеку над способным технологом, это выглядело совершенно бескорыстно и весело. Еще дед самого Демьянова пахал землю, и профессор любил говорить о колоссальных силах, таящихся в способном и упорном русском народе. Воробьев платил Демьяновым глубокой и искренней привязанностью. Сам он держался чуть-чуть на отдалении, и это принималось как особенно ценимый в таких отношениях такт.
Страсть к Маргарите вспыхнула совсем недавно. Она не была похожа на то ровное чувство, которое, как рисовалось Воробьеву, должно связать его навсегда с избранной подругой жизни. Маргарита иногда раздражала его вульгарным соединением языка и манер господ с недопустимым прежде своеволием, отдававшим людской. Если бы не ее пятнадцать лет, можно было бы сказать, что Маргарита сама сознательно подогревала и поддерживала эту страсть. Воробьев не мог противостоять искушению, но в глубине души ему было жаль, что так случилось. Это шло вразрез со всем его почтением к семье профессора. Но все шарниры разболтались. Даже у Анастасии Григорьевны завелись странные знакомства, и в гостиной, где прежде собиралось изысканное общество, мальчишки, товарищи Петра, играют теперь в шмен-де-фер.
Воробьев вынул записную книжку, вырвал лист и карандашом написал записку:
«Вы не дали мне сказать, что из Гельсингфорса я привез Лориган, пудру Коти и чулочки. Завтра передам маме».
Выйдя в коридор, он заложил записку за медный кружок стенного бра.
Глава XI
ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ КОВРИК
Большая рука Воробьева свисает с кровати. Несмотря на мускулы атлета и черную щетину, подползающую к локтю, в ней есть что-то детское.
Капитан Синьков, проснувшись, рассматривает через комнату руку товарища. Он достает из-под подушки портсигар и курит.
К голому окну прильнуло серое низкое небо.
– Тоска, – громко говорит Синьков и швыряет окурок кверху. Не долетев до потолка, окурок возвращается прямо в лицо Синькову. Отдернув голову, Синьков ударяется об угол походной кровати.
– Черт, с утра не везет. – Он растирает ушибленное место ладонью и снова смотрит на товарища.
– Ну и спит – прямо бизон.
Синьков вырывает у себя из-под головы подушку и, закружив ее в воздухе, пускает в Воробьева. Встрепанное лицо Леонида Викторовича поднимается над постелью. Глаза не на шутку испуганы.
– Аркадий! Дьявол!
Подушка летит обратно.
Спустив ноги с кровати, Синьков шлет в Воробьева вторую подушку, туфли, простыню, подтяжки, сапог. Вещи, кувыркаясь, летают по комнате.
Наконец оба вскакивают и, встретившись на физкультурном коврике, свиваются в борьбе. Оба гиганты, широкоплечие и молодые. Отборные экземпляры того поколения сытых и уверенных в завтрашнем дне юношей, которые в большинстве успокоились на польских и галицийских солдатских кладбищах.
Воробьев сильнее. Это битюг. Ноги толсты даже у щиколоток. Тело – круглым бревном. Он был бы уродлив, если бы не рост. Канаты мускулов подползают к затылку, на плечах бугры. Икры на ногах – скульптурной нашлепкой. Но Синьков ловчее, гибче и сообразительнее. Они вьются, большие, красные с ног до головы от напряжения. Ноги в спортивках взлетают кверху. Трещат кости, когда один размахом шестипудового тела ломает мост другого. На слова не хватает дыхания. Много вздохов, почти машинного пыхтения. Наконец выдержка и ловкость пасуют перед силой, и Синьков кричит:
– Алло! Довольно.
Разнимаются руки, и оба, вспотевшие и усталые, заглянув предварительно в коридор, в гимнастических трусах идут мыться.
Горничная Алина, прозванная за жесткие белые волосы Куделя, несет на подносе желудевый кофе и хлеб, едва смазанный маслом.
Воробьев и Синьков живут в четвертом этаже дома Бугоровских. Здесь еще недавно была такая же барская квартира, но удары судьбы один за другим обрушились на хозяйку, Терезу Викторовну Зегельман, и из жены известного инженера – строителя мостов и железных дорог – превратили ее в скромную хозяйку меблированной квартиры. Старший сын Терезы Викторовны, летчик, сгорел в воздухе над аэродромом, младший пропал без вести на фронте. Инженер потерял здоровье на постройке Мурманской железной дороги и тихо угас в большом кресле с рыжей обивкой. Говорят, Тереза Викторовна была в молодости не только жизнерадостна, но и кокетлива. Этому поверить трудно, несмотря даже на свидетельство портрета, на котором молодая женщина, с чертами, напоминающими Терезу Викторовну, прячет шаловливое лицо в букет гвоздик. Теперь Тереза Викторовна молчалива, безрадостна и суха, как цветок, пролежавший человеческую жизнь в семейном молитвеннике. Она несет свое горе мимо людей, не разбрасывая его жалобами. От нее пахнет цветочной пылью. Она носит коричневую кружевную шаль, волосы седым пучком на затылке и в пальцах вертит черный снурок от лорнета, которым она не пользуется больше, так как к старости близорукость ее стала уменьшаться.
Жить у Терезы Викторовны – своего рода честь, и ей рекомендуют только положительных жильцов. В квартире торжественно тихо, горничная Алина, как в хорошем доме, в мягких туфлях и белом переднике. Телефон в будке. Ключи от входных дверей у каждого квартиранта. Как в немецких пансионах, Тереза Викторовна включает в обслуживание утренний кофе и булочку. Впрочем, булочек давно уже нет. Подается хлеб, смазанный маслом.
Тереза Викторовна уважает своих жильцов. Жильцы уважают Терезу Викторовну. Приват-доцент Острецов, из первой от входа комнаты, в дни ее рождения приносит букет и конфеты. Инженер Бер – он из угловой – сам чинит электричество в квартире и снабжает хозяйку мукой и маслом, без чего утренние завтраки уже давно отошли бы в прошлое, как и многие иные похвальные привычки этой квартиры. Воробьев и Синьков иногда врываются в ее тихую, уставленную и увешанную семейными портретами комнату, шумно выбрасывают на стол кульки, свертки, баночки. Тереза Викторовна смотрит на молодых людей с трогательной улыбкой и вечером приглашает их пить чай. Чай подается в подстаканниках, и у каждого свернутая уголком, отглаженная кремовая салфеточка.
Тереза Викторовна не задумывается о происхождении всех этих кульков и свертков, этого изобилия, налетающего шквалом как раз в самое трудное время, когда «все безумно дорого и нигде ничего нет». Они такие сильные и жизнерадостные, эти молодые офицеры. Они куда-то часто уезжают с желтыми кожаными чемоданчиками в руках. Вернувшись, они спят круглые сутки. Теперь такая трудная дорога, никто не считается с первым, вторым классом и спальными местами…
Поручик Леонид Викторович Воробьев живет у Терезы Викторовны, с перерывами на заграничные поездки, уже два года, с того самого дня, как, выписавшись из лазарета, после ранения в ногу, он получил работу на военном заводе.
Синьков, его товарищ по гимназии, присоединился к нему уже в семнадцатом году, покончив расчеты с демобилизующейся армией и войной.
Фронт он покинул раньше других офицеров, еще в октябре, когда выяснилось, что командный состав будет избираться солдатами, а неизбранные офицеры перейдут на положение рядовых.
На избрание можно было рассчитывать вполне. Он все еще был популярен среди значительной части батарейцев. Он никогда не дрался, не воровал казенных сумм. По-своему он любил своих подчиненных. Но одна мысль, что его судьба хотя бы на секунду окажется в руках солдатской массы, приводила его в бешенство. Нет! Нужно было бежать, бежать без оглядки, куда угодно, хоть к черту в глотку… Но лучше всего было бежать в огромный Петроград, где все-таки много своих, где рядом с заводами и казармами есть и улицы высоких, светлых домов, в которых живут «настоящие» люди. Люди, которые думают так же, как он.
Но Петроград разочаровал сразу. Вокзал, взятый штурмом солдатами. Они толкаются, дышат махоркой в лицо. Мешками, сундуками они задевают зазевавшихся. Они знают, что места в поезде можно взять только с бою, и, еще только вступив на подъезд вокзала, готовы к сражениям руганью, кулаками, прикладом, а то и ручной гранатой. Невский грязен. Битые стекла и разгромленные, пропыленные витрины. А в светлых домах растерявшиеся, несчастненькие люди. Женщины больше не жалуются на мигрень, на зубы, на нервы. Не до зубов и не до мигрени… Они говорят о муке, картофеле и чулках. Мужчины брюзжат, ругаются, предварительно закрыв двери, и втихомолку гримируются под улицу. А улица в руках солдат, матросов и рабочих. Где-то в Смольном – власть. Этот когда-то любимый город бесил и приводил в отчаяние. Возобновились нервические припадки – результат контузии, во время которых можно было громить стену лбом, ломать до хруста собственные руки, сжимать зубы с такой силой, что темнело в глазах.
Синьков поселился в меблирашках на Петроградской. Он ходил из дома в дом, из квартиры в квартиру, ища созвучных настроений. У казачьего есаула атаманца Никитина пили беспросветно и грязно. Вестовые сбежали с проходившим на Дон полком. К скатертям прилипли окурки. В лужице от варенья лежала костяная пуговица от кальсон. Синьков сел с размаху в кресло и раздавил венецианский бокал.
У полковницы Стремоуховой его приветствовал рой молодящихся дам. Дамы все курили, красили ногти в цвет губ и, помахивая подведенными ресницами, рассказывали анекдоты. Наступал вечер. Появились молодые люди с галстуками бабочкой и короткими, выше щиколоток, брюками. В столовой разливали плохое вино в дорогой хрусталь. Синькова охватила пряная атмосфера плохо скрываемой, подогретой вином похоти. Высокого, крепкого офицера облюбовала брюнетка с белыми лошадиными зубами и нежными ладонями рук. Он проснулся в незнакомом доме на набережной, с горьким ощущением во рту, с досадой на свою слабость. Кокаин отогнал кровь от лица яркой еще вечером женщины, и в бледном утре она лежала как труп. Синьков оделся и вышел на набережную. Утренним трамваем поехал на Петроградскую. Дама позвонила на другой день, но Синьков вспомнил горькие губы, пустые глаза и повесил трубку.
У Заварниных все сидели в страхе. Боялись за сейфы, за вклады в банках, за стопки золотых, спрятанных в выдолбленной ножке письменного стола, за драгоценности, за серебро, за меха, за недвижимость в Твери и Нижнем. За все, что когда-то составляло цель жизни и теперь вдруг стало обузой. Но никто не хотел расстаться с надеждой, что все обернется по-прежнему и обуза опять обратится в ценности, которые поставят владельцев в первый ранг общества.
У Никольских все в трауре. Юрик, штаб-ротмистр, убит в стычке с румынами. Наташа неудачно сошлась с гвардейцем Кексгольмского полка и покончила с собой. Ей было всего восемнадцать лет. Мать, постаревшая, седая, ходила в тоске и трауре. Отсидев пятнадцать минут, Синьков распрощался. Его не задерживали.
Через площадку жили два брата – кавалеристы Куразины. Синьков был расстроен и рассыпался в жалобах.
– Брось скулить, – сказал Сергей. Ему было двадцать лет. Ловкая и гибкая, как у кавказца, фигура, пушистые бачки. – Ты же – человек. – Он постучал кулаком в грудь Синькова. – Грудь как у богатыря. А лапы! Можешь задушить медведя.
Младший, Андрей, слушал Синькова, не вставая с кресла.
– На фронте они распустились. Двести тысяч офицеров не могли удержать серую скотину. Дураки, холопы, – крикнул он, приподнявшись.
– Брось, Андрэ, – перебил Сергей. – Держись, старина, в седле.
– Возвращаю вам комплимент, – старался не рассердиться Синьков. – Условия, кажется, равные.
Андрей нехотя опустился в кресло.
Синьков снял пепельницу с камина и переставил на стол. Эти дополнительные действия создавали необходимую паузу.
– Я не предатель и не из трусов… – медленно начал он.
– Но один в поле не воин, – снова закричал Андрей. – Тысячу раз слышал. Заранее знаю. Мы все в поле и все – воины. – Он хлопнул себя по бедру, где должна была висеть сабля. – Так пусть же каждый рвет, кусает, как волк… не разбирая… кто попадется. Ведь мы все-таки волки, не собаки…
– Я не думаю, чтобы это я своим появлением вызвал такой взрыв, – сказал Синьков. – Может быть, я попал не вовремя?
Сергей вкрадчивой походкой двинулся к нему. Казалось, по ковру идет большой и легкий зверь.
– Это зависит от тебя.
– Ах так? Ну, говори.
Синьков опустился в кресло.
– Говорить? – спросил, ни к кому не обращаясь, Сергей.
– Говори, – нерешительно отозвался Андрей.
Правда, время было необычайное и хроника каждого дня могла дать оригинальный и напряженный сюжет, достойный Сю и Террайля, для десятков романов, – но то, что услышал Синьков, показалось ему пьяным вымыслом, бредом недоразвитого фантаста. Какая-то организация, орден, шайка… От черного автомобиля до ножа – все было приемлемо. План террора, иезуитского, летучего, неуловимого, террора единиц против масс, господ против победивших рабов, тактика отчаяния, требовавшая крови ради крови…
Синьков смотрел на лакированные сапожки будущего убийцы, и ему стало скучно, как взрослому, вступившему в игру увлекшихся подростков. Он внезапно зевнул и спросил, не знают ли они адреса его гимназического товарища, Воробьева.








