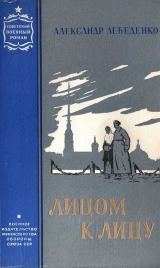
Текст книги "Лицом к лицу"
Автор книги: Александр Лебеденко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 38 страниц)
Сверчков написал Чернявскому. Две-три беседы еще не дают права на доверие, но в последний раз Сверчков пришел к нему по собственному почину и говорил с предельной откровенностью о своих колебаниях и о желании приблизиться к большевикам. Чернявский сам позвонил к нему. Он сообщил, что Сверчкову, как знающему языки, предложат работу в Наркоминделе. На днях ему позвонят оттуда… Во всяком случае, Чернявскому должно быть ясно, что арест его – недоразумение.
Вечером на третий день из камеры были вызваны трое.
– Соберите вещи, – скомандовал надзиратель, низкий, широкоплечий усач в коротко обрезанной шинели.
По голосу надзирателя нельзя было определить, что ждет вызванных.
– На волю? – спросил кто-то из камеры.
– В контору, – буркнул, уходя, усач.
– В контору – значит на волю, – разъяснил военный чиновник, старожил. – Они ведь постепенно отпускают…
– Узнаем завтра утром, – сказал артиллерийский капитан. – С Деляновым условлено: если на волю – он придет к передаче и там, с угла, помашет руками.
Наутро Делянов радостно размахивал обеими руками, стоя на широком пустыре. Жестами он уверял, что отпустят всю тюрьму.
На четвертый день ушли двое. На пятый – четверо и из соседней камеры еще двое. Новых не приводили.
Рядом со Сверчковым на нарах лежит мичман Тигранов. Его фамилия звучит насмешкой. Это хилый, маленький, очень тихий человек. Он и Сверчков – единственные голодающие во всей камере. Остальные три раза в день раскладывают на собственных одеялах аккуратные салфеточки, вынимая ножи и вилки и стараясь не запачкать руки, принимаются за еду. Два раза в неделю приносят передачи. Несут все съедобное. От картофеля в мундирах до кусков осетрины и фруктов. Все это в корзинах, баульчиках, судках и салфетках громоздится на окнах, и гора постепенно тает к третьему дню.
В час, когда, похлебав казенный суп, камера принимается за свой обед, Тигранов и Сверчков уходят в коридор, садятся на окна, схваченные решетками, глядят на пустой тюремный двор и разговаривают, как будто именно для этого они и пришли сюда. Оба самолюбивы, оба уязвлены нечутким отношением обжирающихся товарищей по камере, оба боятся, как бы не обнаружить, что голод уже готов сломить их. И если перед глазами в туманах нарастающей слабости пойдут кульки, пакеты, круглый картофель, если ударит запах мяса – можно не выдержать, можно, наконец, что самое ужасное, попросить… попросить есть…
Это было в один из первых дней после ареста. За стенами казармы бушевал осенний шквал. Холодные капли долетали чуть ли не до середины камеры. Окна затыкали бумагой и тряпьем.
Ночью, в три часа, над морем пошел гул редких, могущественных выстрелов. Артиллеристы решили, что это – морские орудия крупных калибров. И уже после восьмого или десятого выстрела, когда между двумя раскатами двенадцатидюймовок хором загремели мелкие пушки, по камере пошла убежденная молва о приходе английской эскадры. Никто не спал. Иные открыто радовались.
Но Сверчков еще помнил убедительные для него в этой части газетные статьи, митинговые лозунги, речи Чернявского.
– Если англичане придут, они превратят Россию в колонию, – сказал он громко. – Не знаю, стоит ли радоваться…
– Англичане не лучше немцев, – тихо, но отчетливо сказал Тигранов.
Вся камера замолчала.
Пушки громили осеннюю непогоду.
– Хоть сам дьявол, только б не большевики, – крикнул кто-то с нар, и камера опять заговорила.
Генштабист, опустив ноги, прочел лекцию об интересах и притязаниях Британии на Кавказе и на афганской границе.
Но нефть и марганец – все это было далеко. Пушки не смолкали. Гул выстрелов, казалось, приближался…
На другой день был тот же суп из воблы, но со Сверчковым больше никто не разговаривал, никто не предлагал свернуть папиросу.
«За то, что я думаю несколько иначе, они готовы уморить меня голодом, – расстраивался Сверчков. – Этот, с пробором, линялый блондинчик, похож на гимназического товарища – сына прокурора, который не хотел со мной играть потому, что я сын механика. А черный гусар… Стал ли бы он говорить со мною на воле? Будет глупо, глупо, трижды глупо, если именно меня угробят большевики. Я ближе к ним, чем все эти штаб– и обер…»
– Смирно! – скомандовал человек в кожанке.
В коридор вносили два стола. Какие-то штатские поди усаживались на стульях.
– Подходить по одному.
Штаб– и обер-офицеры потянулись к двум столам.
У тех и других спрашивали род оружия, чин, боевой стаж, ордена. Опрошенных отпускали в камеру.
Но отпущенные не ложились спать.
Около семи утра человек в кожанке вошел в камеру, назвал по бумажке фамилии генштабиста, военного инженера – генерала и артиллерийского полковника.
– Собрать вещи и – в контору, – сказал он, уведя глаза к потолку.
Генштабист спрыгнул с нар в домашних туфлях. Он подошел к месту, где лежал знакомый кавалерист, и, отведя его в угол, что-то долго шептал на ухо.
Сверчков, как и все, смотрел на шепчущихся.
Три человека с мешками и свертками в руках стояли у дверей.
– Ну, простите, господа, – сказал генштабист. И все ему поклонились. – А ты не забудь, если что…
– Хорошо, не беспокойся, – ответил кавалерист.
Глава XIII
УДАР ЗА УДАР
В окнах, выходивших на море, не хватало стекол. Ветер врывался в камеру, и мигалка над дверью коптила и волновалась. Резкие тени метались по стенам, по нарам, по закопченным потолкам.
За дверью вздыхал и посапывал пожилой красногвардеец, исполнявший обязанности часового. Люди в камере спали неспокойным, нервным сном заключенных.
В углу на нижних нарах кто-то молится частым шепотом. Это мягколицый, как скопец, военный казначей. Кавалерист у дверей вскрикивает тонким альтом. Там и тут, не раскрывая глаз, расчесывают спину и ноги. Железные кровати ржаво скрипят под ворочающимися телами.
Сверчков, положив голову на кулак, смотрит во мрак камеры. Заснуть не удается.
Сон – это спасение. Но как уснуть, если под самой кроватью у изголовья – чтобы не украли – стоит горшок с тушеной говядиной и почками? Чужой горшок. Этот немчура Гирш получает от сестры каждые три дня наполненный мясной тюрей глиняный горшок. Карандашом он отмечает на стенках, сколько можно съесть в обед. По нескольку раз в день заглядывает внутрь. Он отчисляет остаток и на день передачи – на всякий случай. Он боится оставлять свои запасы на окне – ведь стащили у Трифонова корзину с сандвичами и куском осетрины.
Утро. Скорее бы утро. В бессонной ночи его тусклый свет кажется спасительным, его медлительное движение похожим на жизнь, его неверные надежды сулят письмо, вызов, освобождение…
Сон подкрадывается, как туман в горах, – он приближается, готов коснуться и вдруг поглощает все, незаметно подменяя самую мысль о сне.
Кончался август, и в одно мокрое утро все двери оказались на запоре. За кипятком отпускали только выборных от камер. В коридорах шагали красногвардейцы с винтовками. По камере поползли слухи, один нелепее другого. Шептали на ухо о заговоре в Красной Армии, о войне с союзниками, о высылке всех бывших офицеров на Волгу.
На поверке одного не досчитались. Искали пропавшего в уборных, в подвалах, где кипяток. Маленький юркий человек с глазами провансальца исчез, как будто прошел сквозь стены.
Тогда все разговоры свелись к бегству француза.
В сущности, бежать из этой казармы было несложно. Администрация неопытна. Красногвардейцы мало бдительны. Это ничего, что в глазах у иных прочно и настойчиво угнездилась ненависть к офицерам. Где она подхвачена, эта ненависть? В каких казармах? В каких окопах? Подарил ли ее рукоприкладчик, или барин, свысока взирающий на «серую скотинку», или либеральный плут, прячущий под замшей идеек острую, быстро пробегающую в крови злость к осмелевшим и восставшим? Или, может быть, родилась она на военном заводе у станков, или в штрафном батальоне, на офицерской кухне, в музыкантской команде, дующей марши на сорокаградусном морозе? Офицер эту ненависть понимает, чует, как мышь кошачий запах, и боится мистическим, не до конца осознанным страхом. Может быть, японский рыбак с восточного побережья так боится большого тихоокеанского тайфуна, землетрясения, волны, которая, придя, смывает с островов все живое и мертвое, принадлежащее человеку.
Но и с ненавистью в глазах и углах большого сжатого рта эти люди – не тюремщики. Проскочить через караул, через контору и – улица. А народ в конторе бывает разный. Все серы и однообразны.
Никто до сих пор не бежал, потому что кажется арестованному офицеру: вытерпишь – выпустят, а пытался бежать – значит, повинен в заговоре или востришь лыжи на Дон, на Кубань, к Корнилову.
Француз сбежал – значит, так ему было выгоднее.
Теперь одни полагали, что весь шум из-за бегства арестованного. Другие считали: француз бежал, почуяв недоброе.
День кончился. Ночь медлительным облаком, пропахшим керосином, потом и прелой едой, опять проползала над камерой.
Наутро вставали, мылись, ходили в уборную еще в туманной полутьме. Поев, сидели на койках. Военный интендант пространно рассказывал соседям о нравах старого интендантства, о генерале Данилове, о ставке, о царицыном любимце князе Орлове. Он говорил давно известные вещи, но говорил едко, злым тоном человека, который все это сам видел, слышал, раньше молчал, а теперь не считает нужным. В аристократическом углу брезгливо морщились морские офицеры.
Казначей с лицом скопца, что-то шепча себе под нос, роется в узле с грязным бельем. Вот нашел носки. Пальцами раздирает он крохотную дырочку. Все смотрят на него с изумлением, а он, забываясь, шепчет:
– Пусть дома сидит, дома сидит, носки чинит, не шляется.
И всем становится смешно и грустно…
У дверей на нарах играли в преферанс. Двое, согнувшись, лежали у стены, то и дело выводя веер карт на свет ночника.
– Как-то нехорошо, – сказал остзеец Гирш.
– Что, предчувствие? – храбрясь и небрежничая, спросил технолог.
– Мы ведь не в театр, – обиделся Гирш.
– Чего же вам бояться? Вы ведь переходите в германское подданство. Вы, можно сказать, барин.
– Уже вторую неделю нет ничего из консульство, – нервно, словно ему разбередили рану, вскинулся Гирш. – Я не знаю даже, что думать. Может быть, переменился консул?
– А я думал, у вас порядок – все в два счета…
– Разве в вашей страна есть порядок, есть нормы?
– А вы где, собственно, родились?
– Где бы я ни родиться, я остаюсь германец по крови.
– Кровь течет одинаково… всякая… одинаково, – раздумчиво говорил теперь в сторону технолог.
– Черт знает, что такое вы городите…
– Господа, что мы сидим, как кролики? – возмутился Карпов. – Надо спросить, в чем дело.
– А в чем же дело? Какое дело? – напустился на него военный казначей, прервав молитву. – Никакого дела и нет. И не о чем спрашивать. И не о чем говорить… – он широко размахивал рукой. – Вы еще действительно придумаете дело.
Этот человек боялся больше всех. От его слов и выкриков одним стало страшно, другим спокойно.
Сверчков хотел было выйти в коридор.
– Нельзя, – коротко сказал красногвардеец. – Сегодня нельзя.
В девять была поверка. Все, кроме француза, отозвались.
В десять часов артиллерийский капитан заметил в углу у окон крысу. Он прицелился и сапогом ударил в угол. Крыса метнулась под кровать.
Вся камера ловила крысу. Раздвигали кровати, сорвали с нар узкую доску с гвоздем. Сторожили у стен и по углам. Самые ленивые, приподнявшись, следили за охотой. Шаркали ногами, чтобы крыса не скрылась под нарами. Крыса метнулась к двери и здесь была застигнута ударом доски. Вытянув острый, как копье, хвост, она лежала у самого порога. Старик красногвардеец отпер дверь и посмотрел на нее через порог.
– Надо убрать, – сказал Гирш. Он подошел к крысе, обернутыми бумагой пальцами взял ее за хвост и, сказав: – Я в уборную, – вышел из камеры.
Вернулся он бледный, шатающейся походкой. На пороге, ослабев, припал к дверной раме.
– Что, голова кружится? – спросил бритый полковник.
Гирш протянул ему обрывок газеты:
– Отдать надо, из второй камеры… – и. шатаясь, держась за края нар, побрел на место.
Над обрывком наклонилось несколько человек. Одновременно вся камера двинулась к двери.
– По рукам передадим, не толпитесь, господа, – предложил полковник. – Прочесть следует всем… и приготовиться.
Читавшие были теперь бледны, как Гирш.
– Что там? – спросил Сверчков.
– Сентябрьская резня…
– Где, в Петербурге? Но ведь еще август.
– У нас, здесь… будет, – громко выкрикнул Гирш.
Передовая «Красной газеты» шла по рукам.
– Вслух читайте, вслух, – заплакал богомольный казначей.
– Не надо, – крикнул полковник. – Каждый про себя. Убит Урицкий. Ранен Ленин. Дальше… всякому понятно.
Сверчков увидел крупным шрифтом набранные строки: «… На белый террор контрреволюции мы ответим красным террором революции».
«Консьержери! – прошло в памяти Сверчкова. – Как это было?»
«…За каждого нашего вождя – тысячу ваших голов», – кричали страницы газеты.
У Сверчкова к горлу подкатывался мутный комок. Все ясно. Удар за удар. Объявлен красный террор. Настанет день – с фабрик, с заводов хлынет неотвратимая толпа. Конечно, первыми падут заключенные офицеры. Враги. И ничего, ничего нельзя сделать. Какой умница этот француз. Был единственный шанс. И он использовал его. Он украл его у других заключенных. Может быть, даже у самого Сверчкова.
«…Кровь за кровь», – лихорадочно читал Сверчков.
«…Довольно красить наши знамена алой кровью борцов за народное дело. Довольно щадить палачей и их вдохновителей».
«…Не стихийную, массовую резню мы им устроим – о нет».
– Ах, так! – вздохнул с облегчением Сверчков.
«В такой резне, – читал он дальше, – могут погибнуть и люди, чуждые буржуазии, и ускользнут истинные враги народа».
«…Организованно, планомерно мы будем вытаскивать истинных буржуев – толстосумов и их подручных».
«Но ведь я не толстосум и не подручный!..» – Сверчков почти успокоился.
Он не подходит ни под один из этих пунктов. Это не о нем… Это об этих тупоголовых корнетах, которые ждут англичан, немцев, кого угодно, о таких, как Глобачев или Карпов.
Но ведь он брошен в одну камеру с ними. Ошибки неизбежны. А если роковая ошибка уже совершена?..
Отчаяние возвращалось…
«Но я ведь не русский, не русский… – тормошил его за рукав Гирш. – Я, может быть, принят в германский подданство»…
– Но ведь большевики никого не расстреливали, – вполголоса скулил технолог.
– Пока их не трогали, – прищурил глаз полковник. – Объявлен террор. Вам это понятно?
– Неужели допустят?
– Кто? Кто может допустить или не допустить? – рассердился полковник. – Антанта, что ли? – Он отвернулся.
Тогда полилась ругань. Французам, англичанам, американцам, немцам – досталось всем.
Сверчков чувствовал себя опустошенным. Нет, никого убивать он не хотел и не хочет. Никаких корпусов, ни английских, ни американских. Пойди он в Красную Армию еще весной, он был бы свободен, сыт, с более спокойной совестью, чем здесь, среди этих зубров, забывших обо всем, кроме собственной шкуры.
Тянулись часы ожидания. Страх сменялся апатией. Перегаром ненависти и испуга чадили сто человек. Иные про себя переживали в холодном поту смерть от насилия. Иные взлетали от животного страха к необъяснимой и неоправданной надежде. Все были измучены. Ночь застала скошенные усталостью головы, оцепеневшие, бессильно повисшие руки.
Приморским казармам не выпала на долю судьба парижского монастыря Консьержери – темницы аристократов.
Красный террор пошел своими путями, переступив через желтую казарму, в которой были заключены офицеры Народной армии, единомышленники которых громили Ярославль, убивали Нахимсона.
Глава XIV
СЛЕДОВАТЕЛЬ
Тянулась неделя за неделей. В камере не убывало и не прибывало народа. Было ясно – заключение когда-нибудь кончится. Было ясно, что никого не расстреляют и не разорвут на площади перед тюрьмой. Но никто не знал, не догадывался, когда же придет конец отсидке. На этот счет не было даже слухов. Все сошлись на мысли, что арест массы офицеров, как и говорил Урицкий, – предупредительная мера, понятная даже врагу. В эти дни организовалась обширная российская Вандея. В Сибири и на Урале вчерашние демократы требовали военной диктатуры. На Кубани, после первых поражений, возрождались добровольцы. На Дону захватывал власть союзник немцев – Краснов. По всем окраинам строились в ряды все, кому не по нраву была большевистская власть, стремившаяся уничтожить прекрасное неравенство – соль жизни, право на кропотливую борьбу, на житейскую обольстительную удачу.
В среде застрявшего в столицах офицерства шныряли вербовщики-агенты всех окраинных правительств. Каждый поезд на север, юг и восток увозил бойцов:
к учредиловцам,
к Чайковскому,
Деникину,
Дутову,
на Дон,
на Кубань,
за Урал…
В ответ пролетариат брал на замок резервистов врага, его пополнения и маршевые роты.
Черный гусар формально был принят в германское подданство, о чем сообщила через Красный Крест из Гельсингфорса его мать, урожденная прибалтийская баронесса. Трое украинцев, еще до ареста подавших заявление гетманскому консулу, ждали «посвичення» из Киева. Плохо говоривший по-русски военнопленный венгр каждый день спрашивал надзирателя, нет ли писем из Будапешта. Иные жили то вспыхивающими, то затухающими надеждами на родственные связи в Финляндии и Польше.
Но почта восемнадцатого года была капризна и равнодушна, как лотерейное колесо.
Дмитрий Александрович ничего не ждал.
Когда желающим предложили идти на разгрузку прибывших в порт угольщиков, Сверчков вызвался первым.
Сквозь полотно дождя не виден был город. В тумане шли безликие берега канала. Катер, управляемый людьми с красными звездами, незаметно оказался у черного, поднимавшегося во мглу высокого борта.
Работал кран. Огромный хищный зев раскрывался высоко над головой, и беззубые железные челюсти вгрызались в блестящие кучи угля. Действуя остатками сил, возбужденный воздухом, Сверчков подбрасывал уголь лопатой, тащил граблями из дальних углов трюма. Часто отдыхал. Задыхался, потел, хватал сырой воздух с угольной горечью, как целительное средство.
Матросы в покрытых угольной пылью липких брезентовых плащах ходили по мосткам и по палубе. Высоко на командирском мостике стоял равнодушный ко всему штурман. Младший механик, проходя, сунул Сверчкову кусок серого хлеба, на котором угольными пятнами отпечатались все пять его пальцев.
Сверчков тут же отставил лопату и, сев на уголь, стал жевать рыхлую корку.
Люди с красными звездами не понукали работавших. Иногда они брали у заключенных лопату и сами гребли уголь.
В полдень просвистали отдых. В четыре увезли заключенных обратно в морские казармы. Здесь повеселевших людей ждал дымящийся суп с невыбранной воблой и паек – фунт серого, еще теплого хлеба и две банки мясных консервов на человека.
Это был лукуллов пир для Сверчкова. Он лег в этот день спать с ощущением сытости и теплоты в желудке. Это было почти блаженство. Он вспоминал виденных в детстве землекопов, которые после рабочего дня валились спать, не выпустив еще ложку из плохо разгибающихся черных пальцев. Он вспоминал каменщиков, в июльскую жиру поднимавших козу с пористым кирпичом на леса пятого этажа и засыпавших на солнце, раскрыв ему навстречу черную щель рта. Он думал: не в этом ли счастье жизни? Панацея от всех душевных и телесных страданий, Заслужить немудрым и тяжелым трудом право на такую святую усталость, когда пища и сон превращаются в нектар и забвенье…
Перестал думать и уснул.
Грузили уголь пять дней, и у Сверчкова создался запас консервных банок. Он продолжал съедать по одной банке в день, но теперь и этой пищи не хватало. Через несколько дней голод грозил вернуться во всей прежней силе…
Но в серый день с низким небом за решетчатым окном, когда еще в газете под кроватью оставалось две банки, Сверчков был вызван в контору.
Человек, который ожидал Дмитрия Александровича, ходил по комнате вокруг тонконогого и шаткого стола. У него была шапка волос, походившая на незаконченное воронье гнездо, полные губы и впалые щеки. Руки его, тонкие, вероятно слабосильные, все время были в движении. Они куда-то спешили, они поспевали быстрее хозяина. Кивком головы он поздоровался со Сверчковым, сбегал в соседнюю комнату и принес второй стул. Сел, положил локти на стол и предложил Сверчкову папиросу.
Сверчков не успел почувствовать в следователе неврастенического человека, все время подергивающего носом и перебирающего пальцами. Перед ним уже сидел человек с собранным внутренним хозяйством. Неяркие и небольшие серые глаза глядели даже проницательно.
После обычного опроса: имя, возраст, семейное положение – следователь спросил:
– Вам предъявлено какое-нибудь обвинение?
Сверчков хотел было возмутиться, как возмущался он в первые дни заключения: Но из этого ничего не вышло.
– Нет… никакого… – подумав, спокойно сообщил он.
– Ну, это хорошо.
Сверчков пожал плечами.
Следователь полистал какое-то скудное дело, все из клочков и списков, и спросил:
– Как вы к нам относитесь?
Сверчков понял, что дело идет о Советской власти.
– Я вам не враг. И мне очень обидно…
– Не нужно обижаться, – перебил следователь. – Если только действительно не враг… Вы не состояли в какой-нибудь противосоветской организации?
– Решительно ни в какой.
Казалось, следователь поверил Сверчкову. К тому же листки и списки, видимо, не свидетельствовали против Дмитрия Александровича.
– Прекрасно. Я ценю ваше желание уверить меня в этом. Знаете, – откинулся он на стуле, – мы, большевики, тем и сильны, что у нас больше друзей, чем мы даже сами об этом думаем. Мы находим все новых каждый день. В самом неожиданном человеке сидит в каком– нибудь закоулке его души большевик. Только он, так сказать, в цепях… не на свободе.
Следователь встал. Сверчков сидел, а он ходил по пустой комнате и говорил, отпустив на волю быстрые руки. Сверчков подумал, что теперь следователь в своей настоящей роли.
– Ведь вы – интеллигентный пролетарий. Вам, в сущности, так легко стать союзником настоящего пролетария. Таких, как вы, привязывают к буржуазному обществу две вещи…
Сверчков решил, что следователь отнес его к одной из категорий, уже выявленных чекистской практикой, и вымученно улыбнулся. Но следователь не обратил внимания на улыбку Сверчкова.
Вы в будущем могли рассчитывать на твердый оклад, квартиру из пяти комнат и в тайниках души лелеять надежду на слепой случай, который вознес бы вас еще выше. А в школе вам преподнесли историю вашего народа и всего человечества в таком виде, что все это рисуется вам во вполне благопристойном виде. Но подумайте, как все это мелко…
Дальше все походило на статьи газет, речи Чернявского…
Сверчков сказал, что он немного знаком с марксизмом и уже давно находится под влиянием знакомых большевиков. Например, товарища Чернявского… Он решил давно идти работать к большевикам, и вдруг… арест.
Сверчкову казалось, что здесь следователь должен устыдиться. Но следователь остановился у стола, подумал и решил:
– Вот это хуже…
Сверчков смущенно замолчал.
– Иметь готовое решение… такие связи, здоровье – и быть вне Красной Армии!.. Когда решается судьба революции. Еще попасть под арест. Мне это непонятно.
Его худые пальцы вздрагивали на краю стола.
– Если вместо Красной Армии вы примкнули к людям, которые готовились использовать формирование Народной армии против нас, – вы мало поняли в марксизме. Вам нужно еще смотреть, учиться. Надо понять. – Следователь даже притопнул ногой.
– У вас тут и то насмотришься! – воскликнул Сверчков.
– А что?
– Да так, вообще… – промямлил он, и следователь, посмотрев на него внимательно, сказал:
– Я, кажется, понимаю… Ну ладно, – встряхнул он кудлатой головой. – Завтра, самое позднее послезавтра, вы выйдете на свободу. Позвольте мне дать вам один совет.
– Я слушаю.
– Идите инструктором в Красную Армию. Нам предстоит большая война. За нами – миллионы, и мы будем защищать республику, нашу Родину, нашу прекрасную страну.
– Я согласен, – сказал Сверчков.
– Отлично… – следователь показал широкие, крепкие, но прокуренные зубы.
Глава XV
БУГОРОВСКИЕ
В маленьких комнатах, оставшихся Бугоровским от роскошного бельэтажа, водворилась «жизнь сквозь слезы». Так неожиданно выразилась тихая, неизобретательная Нина. Коридоры были до потолка завалены вещами и мебелью. У стены, мешая ходить, высились горки стульев, шкафы и этажерки. Антресоли ломились под тяжестью глобтроттеров, сундуков и баулов. Шторы на окнах целый день были опущены, как будто хозяева решили отгородиться от самого света и воздуха, которым дышала ненавистная революция. Ложились рано, но засыпали только под утро, когда уже проходило время обысков и налетов, и потому вставали поздно, с тяжелой от непроветриваемых помещений головой.
Мария Матвеевна плакала неслышными слезами весь день. Она могла измочить дюжину платков. Глядя на нее, время от времени плакала Нина. Ей было жаль родителей. Жаль прекрасной отнятой у ее семьи квартиры, жаль золотистых рысаков, реквизированного автомобиля, но чаще всего у нее выступали слезы при воспоминании, как плакал на её глазах живой, энергичный, всегда веселый и самоуверенный отец.
Это случилось за столом. Оставшаяся у Бугоровских повариха Марья внесла миску с супом и сказала:
– Не знаю, чем завтра плиту растоплять. Дрова комитет взял на учет. Вы бы, барин, пошли спросили. Чтоб на вашу квартиру дали сарайчик какой.
Ножом полоснуло по сердцу банкира Бугоровского невинное слово «сарайчик». Он хотел крикнуть Марье: «Что ж, я буду заниматься дровами для плиты?» – но не успел, захлебнувшись в большом и страшном сознании, что ему придется заниматься не только сарайчиком, но и подметками, и картошкой, и если эта добрая женщина покинет их – то и готовить кашу на примусе. И это после Государственной думы и Предпарламента! Подбородок Виктора Степановича дрогнул, словно собирался отвалиться вовсе, он уронил ложку, всхлипнул и вышел в кабинет. В столовой ели суп пополам со слезами.
И Марья рыдала щедрой старушечьей слезой тут же в столовой, облокотясь о косяк двери.
Не плакала одна Елена. Она съела суп, немного мяса и, уйдя к себе, принялась за акварель, как будто ничего не случилось. Единственное в квартире открытое и незанавешенное окно было в ее комнате. Не надевая шляпы, Елена отправилась к Евдокимову на весь вечер.
На пустынной площадке седьмого этажа она стояла долго. Окно показывало бесчисленные прямоугольники крыш. Над самым куполом далекого собора неслись клубчатые облака, и колокол гудел тяжело и непокорно.
Уже месяц как они близки, но Николай никогда не знает, придет ли в этот день к нему Елена и что вообще толкнуло в его объятия эту девушку. При ней он болтал без умолку, и уголь проворно летал по большим листам. Появлялись неожиданные фигуры, тела, фасады, ветви ив. Так пианист берет аккорды в помощь мыслям и фразам напряженной беседы у рояля… Он рвал листы ватмана и доставал новые. Когда Елена уходила, Николай вздыхал с облегчением, но потом опять мучительно ждал ее прихода, боялся уходить из дому, боялся, чтобы она не застала его без воротника, за едою, за бритьем. Елена приходила, шла к мольберту, осматривала очередную работу и, кутаясь в платок, замирала «в своем углу».
Она была хороша, как ни одна женщина, какую он когда-нибудь знал. Иногда ее платок, согнутые колени, носки туфель вылетали из-под его карандаша, но эти бумаги, листы альбома он сейчас же бросал в огонь и никогда не рисовал ее лицо.
В самый неподходящий момент он вспоминал ее в блистающем лаком ландо с золотистыми рысаками, в желтой нарядной машине, в парижском выходном костюме – и не мог представить себя рядом с ней. Здесь, в мастерской, в большом платке, она была иная. Но и здесь он не знал никаких путей к ней, и, если у него стучало в висках при воспоминании о ее волнующей красоте, если он был один, он кричал себе громко: «Эй, Колька, не распускаться!» А если это случалось на людях – он отходил в сторону, не договорив фразу…
Он знал, что революция наносила удар за ударом ее отцу. Но ему не жаль было Бугоровского, как не жаль было всех вообще миллионеров в мире…
Однажды, проходя по улице, он увидел, как лакей и девушка проносили через двор на черную лестницу вещи Бугоровских, а в окнах бельэтажа мелькали необычные фигуры в платочках, фуражках и кепках.
Елена пришла к нему в тот же вечер. Так же сидела на тахте. Так же молчала и слушала. И мелькнувшая в нем жалость к ней показалась ненужной. Она, казалось, не участвовала в этих событиях. Она присутствовала, как статуя или как портрет из галереи предков, равнодушный к падениям и взлетам людей новых поколений. И когда Николай спросил ее, удобно ли будет ей теперь, она ответила:
– Еще не прижилась, не знаю.
Но в этот день она не уходила долго. Евдокимов устал говорить. Елена даже репликой не отвечала на его рассказы. Было темно, и внезапно он услышал ровное дыхание девушки. Елена спала. Тихо, почти беззвучно, но глубоко. Вероятно, она устала за эти дни. Николай, стараясь не шуметь, смотрел на гостью. Волосы, слегка небрежные на висках. Длинные пальцы собрали платок. Мягкие круглые колени. Она впервые показалась уютной, домашней. Это была «Усталая женщина», не раз просившаяся на полотно и откладываемая за отсутствием модели.
Евдокимов снял со стола альбом, но было так темно, что уголь не взял бы эти тени без линий. Ровно поднималась грудь девушки. Ночь осенняя, с тяжелым, близким горизонтом, легла на прямоугольники домов. Он хотел было встать у тахты на колени, но девушка вздохнула, открыла глаза и посмотрела в окно.
– Это славно. Заснуть в гостях.
Может быть, она подумала еще что-то, но поднялась и стала прощаться. В этот вечер у нее были ленивые и теплые руки.
На другой день Елена пришла поздно, как никогда не приходила.
– У нас все плачут, – сказала она. – А я не могу ни плакать, ни сочувствовать.
Впервые, как другу, она принесла ему свои раздумья.
Николай усадил ее на тахту и сам не ушел к мольберту, не зажег свет – он поджидал ее в сумерках, уже отчаялся и глядел на улицу с высоты своего стеклянного гнезда, утратив ощущение времени.
– Вы сочувствуете революции, Елена Викторовна? – вдруг спросил он.
– Я? – удивилась она чрезмерно и тихо засмеялась. – Какой вы мальчик. – И вдруг пальцы ее легли на его руку.
Это было невероятно, и это было могущественно, как ток. Замирая, он смотрел ей в глаза, почти невидные в темноте, думал с тоской, что вот сейчас она снимет пальцы и у него не хватит смелости их удержать. Но Елена не убирала руку – он сам взял ее ладонь, и тогда началась та первая, на всю жизнь незабываемая игра, в которой участвовала вся его воля, вся нежность, вся боязнь, вся неловкость и вся страсть…
Елена оставалась до конца неожиданно, невероятно покорной и ушла от него только утром, такая же внешне спокойная, – тогда как он был измучен, как никогда в жизни.








