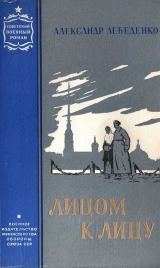
Текст книги "Лицом к лицу"
Автор книги: Александр Лебеденко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 38 страниц)
Извозчик вертел в руках керенки и посматривал нерешительно на успевшие страхом утвердиться в психологии псковичан офицерские погоны.
Без всяких вещей, с газетой в одном кармане и с парой купленных на вокзале лепешек в другом, Воробьев отправился в Нарву. Его не успокоила «демократическая казнь». Пароход Северо-Западной армии выходил из гавани с чересчур ясно выраженным креном. Еще хуже, если кладет на оба борта. Он прислушивался в пути к разговорам. Еще никакая власть не сумела наложить печать сдержанности на раз заговорившее славянство. Командование Северо-Западной армии поносили открыто и не боясь окрика, потому что власть эта ютилась на центральных площадях Пскова, Гдова и Нарвы, в тени эстонских пушек и мешков американской муки, и только карательные отряды носились от деревни к деревне.
Воробьеву казалось, что не было еще ни Февраля, ни Октября, и это ропщет русский мужик, для векового терпения которого война оказалась слишком решительным испытанием. Несуетливые, аккуратные эстонцы, с разрешения командования, скупали по селам и у станций прошлогодний лен. Фунты, получаемые в Лондоне и Гулле за пачки этого льна, должны были стать основанием Ревельского банка, выпускавшего бумажные кроны.
Нарва, нерусская и неожиданно живописная, была пришиблена к земле хмурым небом. Тяжело и мрачно поднимались средневековые стены могучей крепости. С другого берега грозил ей закованный в камень Иван-город.
Полковник Маркевич был знаком Воробьеву еще с тех времен, когда его «клюква» – заработанный на японской войне анненский темляк – служила приманкой маленькому Петру Демьянову. Это был бесхитростный, профессионально честный воин русских царей, как и многие давно уже с ужасом увидевший, что в своих воинственных мечтаниях он одинок, а кругом действуют герои «Поединка». Он написал вызов на дуэль Куприну, просидев ночь над пятью немудрыми и все-таки нескладными фразами, а утром сжег весь ворох бумаги и сразу оборвал напряженные ночные занятия, которые должны были привести его в Академию генерального штаба, как-то внутренне опустился и весь налился обывательским безвредным скептицизмом.
Он сухо покашливал, не отпуская изо рта сигареты, и все время растягивал пальцами воротник зеленого кителя, хотя его большой и беспокойный кадык и так гулял в свободных пространствах.
Полковник заставил Воробьева долго и обстоятельно рассказывать о Петрограде, о знакомых, о нравах в Красной Армии. Воробьев, который рассчитывал узнать от этого видного представителя штаба Родзянки, что делается в Северо-Западной армии, то и дело умолкал в вопросительной позе, но полковник сейчас же засыпал его новыми вопросами.
– Ну, а у вас как же? Я плохо понимаю, что здесь творится, – не выдержал Воробьев.
Полковник едва не разорвал ворот.
– Обживетесь – поймете. Сразу, действительно, не схватить. Мы здесь – только пластырь, горчичник. Дела делаем не мы. И здесь ничего не решается. Вы это помните. Мы – полк, брошенный для демонстрации, для отвлечения сил и, может быть, на верную неудачу. – Он застучал пальцами по тонкой доске стола. – Поэтому, в случае чего… Вы не расстраивайтесь. Свой долг мы выполним, а дело сделают другие.
– Но как же случилась эта… майская неудача под Петроградом? Ведь были захвачены уже форты Кронштадта?..
Полковник нервно смял недокуренную сигарету.
– Неудача эта крупнее, чем многим кажется… Это знаменательная неудача! С треском провалился серьезно продуманный, неплохо подготовленный, хорошо организованный план. В нем должны были принять участие силы, далеко превышающие мощь армии Родзянки. Ты бы ахнул, если бы я рассказал тебе, какие звенья должны были принять участие в падении Петрограда, какой комбинированный удар был задуман!
– Ну и что же?
– Что же?.. Ответный удар, вернее, целая серия ударов были нанесены нам с такой решительностью и с такой целеустремленной планомерностью, что можно подумать, будто весь план Юденича и всех, кто стоит за ним, – полковник многозначительно поднял кверху желтый, прокуренный палец – ты понимаешь, что это значит? – как будто все эти, в величайшей тайне отработанные планы лежали на столе красного командования.
– Но разве у нас нет воли к победе, порыва?..
– Поживешь здесь – увидишь, – наливаясь обычным скептицизмом, с явной целью свернуть этот разговор сказал Маркевич… – Есть, конечно…
– А как у Колчака, Деникина?
– Я знаю только то, что есть в газетах. Сведения идут долго, через Стокгольм, Париж, Лондон.
Ясно было, что полковник знает больше. Воробьев опустил голову. Никакая ни личная, ни общественная цензура не задерживает то, что может принести всем сочувствующим радость и бодрость…
Он ехал в Ревель, чтобы привести себя в порядок, с пачкой писем от полковника Маркевича к членам «Русского комитета». Он начал сознавать необычайную для него раздвоенность. Он был со своими – и не испытал еще ни одного дружеского пожатия, и ни у одного человека не видел в глазах огней, с какими, по его. мнению, шли люди Пожарского и Минина к Москве. Он призывал на помощь трезвость, чувство реального. Нарва и Псков – это еще не все. Есть Ревель, Гельсингфорс, Новочеркасск, Ростов и Киев, связанные с союзниками, с могущественными победителями.
Какой-то офицер «под мухой» бранил свое командование и большевиков одними и теми же словами, с равным азартом. Воробьев хотел было проучить болтуна, но снисходительное сочувствие к нему всего вагона и рана лишали его решимости.
Ревельские гостиницы превратились в общежития. Здесь было больше генералов, чем в Ямбурге, и больше офицеров, чем в Пскове. Его принимали с той подчеркнутой вежливостью, которая как бы говорила: а мы все те же, уравновешенные, спокойные баре, в Ревеле, как в Петрограде, и хотя нам не до тебя, но на пятнадцать минут выдержки у нас хватит.
Бугоровского он застал в постели. Должно быть, вследствие температуры Виктор Степанович был говорлив, нервен и долго не отпускал Воробьева.
Рассказ о Елене он слушал с отсутствующими глазами. Его остренькая бородка едва шевелилась на шелковом воротнике пижамы. Может быть, дочь его, оставшаяся в большевистском городе, была последней и самой невообразимой связью с прошлым. Это была какая-то не уступленная врагу, исключительная позиция, семя дуба, брошенное в землю, которую, может быть, суждено покинуть навсегда. Она была любима не личной, но фамильной, родовой любовью, при которой неуместны тревога и страх.
– Может быть, вы хотите остаться здесь? – спросил он Воробьева, и легкая тревога прошла в его глазах.
– Почитаю местом своим передовые позиции, – строго ответил Леонид тоном когда-то читанных суворовских реляций, смутно сознавая при этом отдаленность источника, к которому он прибегал.
– Дайте я вас поцелую…
Жиденькие слезы часто пошли по опалым щекам. Несдержанно он стал бранить Родзянко, Юденича, отсиживающегося в Гельсингфорсе, Русский совет, Парижский комитет, Деникина, и только о Колчаке отозвался с такой же неуемной восторженностью. Должно быть, он хранил это имя как последнее прибежище своих надежд.
Все семейство обедало у постели больного. Говорили о ценах, о ревельском театре, о русских эмигрантских газетах, об эстонской «картофельной республике», как будто не было ни Елены, ни Петрограда. Нина, совсем взрослая, некрасивая и еще более элегантная, приветливо смотрела на Воробьева, смущенного своим костюмом, но тем не менее Леониду казалось, что он гостит у разоренных родственников, которым он должен помочь и которых он обязан утешить.
Он взял тон уверенности в победе. К концу обеда он был уже готов принять участие в обширной демонстрации, самом мерзком изобретении современной войны, потому что она требует от бойца всего – крови и жизни, и не сулит ничего, кроме утешений, почерпнутых в учебниках тактики.
Когда на несколько минут он остался с Бугоровским наедине, Воробьев все же спросил его, перейдя на тон серьезный и доверительный:
– Виктор Степанович! Я оторвался. Я плохо разбираюсь. Скажите, что же намерено теперь делать Северо-Западное правительство? И кто здесь в конце концов хозяин?
Бугоровский долго молчал, поглаживая потерявшую свою законченную форму бородку.
– От вас я не вправе скрыть… Вы идете пролить кровь… Готовится новый удар по Петрограду. Сейчас начинается второй тур гражданской войны. Главный удар теперь на юге. Этот Деникин… Его поддержат союзники. На него делает ставку Черчилль. Возможны десанты на севере, на Черноморье. Новое усилие сделает Колчак. Обещаны артиллерия, снаряжение, снаряды, патроны. Ведь этого добра у союзников на миллиарды. Мертвый капитал. Он требует себе выхода. Даже танки и самолеты. В новом, обширном плане и мы имеем свое место. Но не хочу от вас скрывать и то, что, по крайней мере здесь, под Петроградом, я не питаю больших надежд. Силы нашей армии, возможно, будут больше, чем в мае, но те блестящие позиции, какие мы имели в тылу у врага, уже невозвратимы. Но пусть это вас не смущает, – приободрился Виктор Степанович. – Наша задача – оттянуть на себя как можно больше сил врага и помочь Деникину захватить Москву. Впрочем, генерал Юденич уверен в том, что Питер будет взят, – заключил он и опустил голову на подушку.
«И этот, как и Маркевич, заражен духом упадка, он говорит теми же словами, – подумал Воробьев, – все это не сулит успехов».
– А хозяин? – вдруг вспомнил о втором вопросе Бугоровский. – Хозяин далеко. Тут все приказчики, да, да, приказчики… И я, и все они, – язвительная усмешка пробежала по тонким и высохшим губам этого опытного биржевого игрока и финансиста. Его мысленный взор следил за поездами и пароходами, увозившими золото и долгосрочные обязательства старушки Европы к далекому подножию статуи Свободы. – Помните русскую сказочку о мертвой голове? Так вот Америка – это медведь «всех вас давишь». Остальные, даже Англия, даже Черчилль и Клемансо, не так страшны, как добродушно улыбающийся дядя Сэм.
Бугоровский говорил теперь закрыв глаза. Воробьев понимал, что он беседует сейчас сам с собой, словами оформляя свои тревожные, назойливые и неприятные мысли. Забыв о том, что слушает его человек, который пойдет в бой за обманчивые, подсказываемые лжецами цели, он исповедовался в смертном грехе, самое упоминание о котором превращало всю жизнь его, всю прошлую, настоящую и будущую деятельность в зловещую кучку пепла.
Глава XVII
ГОРЯЧАЯ ЗЕМЛЯ
В местечке дивизион пробыл несколько недель. Смерть изменника-командира, бегство Воробьева и Коротковых, арест Сверчкова – все эти события очистительной грозой пронеслись над дивизионом. Но прошло несколько дней, наполненных работой по приведению части в порядок и отдыхом, и жизнь наладилась.
Местечко было многолюдное. Дивизион прибыл сюда, как приходит раненый в палатку врача. Здесь было тихо и мирно, как в глубоком тылу. Здесь было озеро. На озере – заросший зеленью остров. На острове стояли развалины крепости, которую, по преданию, защищали польские конфедераты в 1863 году. В местечке были тенистые сады и главная улица с наглухо заколоченными магазинами, по которой по вечерам парами ходили девушки. Здесь был расположен штаб дивизии, и сюда регулярно приходили газеты.
Слухи о падении Петрограда, Тулы и даже Москвы оказались вздором. Самый страшный враг – Колчак – был отброшен в Сибирь.
Рабочая Республика Советов дралась решительно и жестоко на всех фронтах, и не могло быть и речи о падении власти Советов.
В первые же дни стоянки дивизион получил снаряды, табак, обувь. С Восточного фронта пришли бодрые, победоносные подкрепления. Среди них были герои Перми и Царицына. Они принесли с собой дух уверенности в своем превосходстве над врагом.
Красное командование понимало, что Пятнадцатая армия нуждается не только в отдыхе, но и во всестороннем оздоровлении. Политотделы дивизий получили задание максимально использовать передышку.
Уже было ясно для своих и для врагов, что политическая работа в красных частях делает чудеса. Она поднимает бойцов до высоты и доблести тех героических красногвардейских, матросских и партизанских отрядов, которые брали Зимний, защищали Царицын, громили Колчака, удерживали Астрахань.
Бабин вызвал Алексея в штаб.
По широкому тракту, который вел к станции, тянулся нескончаемый обоз. Ездовые последней телеги с ленивым лукавством разговаривали с женщинами, которые шагали босиком вдоль канавы, забросив на плечо башмаки на резинках. Красноармейцы уговаривали их сесть на телегу. Бабы не соглашались, но не спешили вперед и не отставали. Алексей прислушивался к затейливому флирту возниц и крестьянок и думал о Вере. Пехотный командир без ординарца догнал его. Спросил прикурить и поехал рядом. Он бодро поднимался и опускался в седле. Свежие крепкие ремни, веселая новая фуражка подчеркивали его подтянутую фигуру. Он смотрел вперед и, казалось, вовсе не интересовался Алексеем. Алексей отвечал ему сдержанным молчанием. Но вскоре командир выдал себя. На самом деле он уже страдал оттого, что этот грузный военком не спрашивает его, откуда он и как сюда попал. Полк, с которым он высадился на ближайшей станции, был подобен скале среди мелких волн тыла этой еще не знакомой ему армии. Москва приодела победителей Колчака, снабдила всем необходимым и еще раз накрепко уверила, что все они герои и знамя их полка больше не склонится ни перед каким врагом.
Узнав, что перед ним боец Восточного фронта, Алексей засыпал его вопросами, больше не заботясь о собственной солидности, и командир рассыпался перед ним в радостной, немного наивной похвальбе, какая свойственна много перенесшему и уцелевшему солдату.
Кама, Белая, Кунгур, Шадринск, Курган. Тысячи километров славного похода. Ободряющий дух побед. Сквозь пургу, солончаки, болото, морозы. Радость деревень, скинувших с плеч кошмар карательных отрядов. Бурные встречи с партизанами.
Зависть клубилась в сердце Алексея. Вспомнился партизан Седых… его отвергнутые соблазны. Несомненно, и его лихая бригада переживала те же изменения, и теперь выросшая из нее стройная дивизия совершает чудеса храбрости и стойкости.
Политотдел дивизии стоял на краю местечка. В раскрытые окна низкого дома тянулись ветви яблонь и рябин, а навстречу им неслись звуки машинок, голоса лекторов и докладчиков. Опыт боевого года становился предметом изучения.
Около примерного плана работы политотдела, вывешенного в коридоре, толпились политработники, и начальник политотдела сказал, что партия, как всегда, придает огромное значение работе по плану всех армейских организаций.
Теперь Алексей при составлении плана обстоятельностью и упорством удивил даже Каспарова. Он уже знал: из вялых рук выпадает самое лучшее оружие.
Сергеев, по совету Каспарова, написал в армейскую газету заметку о фланговом марше и об измене командиров. Редакция прислала Сергееву несколько номеров газеты с его статьей и предложила осведомлять ее впредь о жизни части. Выступая на собраниях, Сергеев никогда не упускал случая козырнуть своими связями с армейской газетой.
В конце июня в дивизион прибыл политрук. Он никогда не затруднялся в выборе методов работы. Он заявил было Алексею, что без плана работать лучше. Но Алексей был непреклонен. И, расчесывая непокорную гриву, политрук засел за план. У него были синие глаза, рыжие волосы, картавый говор и веселый нрав. Он привез с собой ворох песен и рассказов, молодых, как породившая их армия, легенд. На канцелярскую двуколку он погрузил ящик с брошюрами и книгами. Вечерами на дворе вслух читал газету. Только прослушав все новости, красноармейцы шли на темные улицы под липы, где ждали их девушки, как всегда и всюду неравнодушные к людям с оружием и накопившейся страстью. Политрук окончил партшколу в Петрограде. Он был убежден, что мир в основном теперь понятен ему, и был горд этим ощущением, как и разнообразными знаниями, которые внушали ему пылкие и настойчивые агитаторы школы. Он бывал искренне разочарован, когда оказывалось, что слушатели уже осведомлены о том, что он собирается преподнести им как новое. Он бывал в Москве и Петрограде, слушал Ленина, Свердлова и Фрунзе. Он старался подражать вождям и то говорил горячо и увлекаясь, то медленно ронял слова, полные веса и значительности. Его хорошо приняли не только красноармейцы, но и молодые командиры.
Почти ежедневно дивизион посещал инструктор политотдела. Это был сосредоточенный, остроносый, остроликий человек. Он напоминал Алексею старшего инженера цеха, который подолгу стоит у машин, присматриваясь к движению каждой детали.
Алексей чувствовал, как на него и на его часть, не останавливаясь, изливается поток энергии и организующей мысли. Он подчиняет себе, не дает застыть на месте, не позволяет опуститься. Это инструктор, политотдел, штабы, в свою очередь, чувствуют такое же воздействие сверху. Оно идет из обильного и неустанного родника. Скорей всего из Кремля, от самого Ленина. Смешно было вспомнить старую армию, где хранились традиции, как бы нелепы они ни были в новой обстановке, а все свежее казалось враждебным и губительным. Здесь все изменялось, все росло, все укреплялось во имя победы.
На другой день после ареста Сверчкова к Алексею пришел Веселовский.
Хмуро и молча Алексей предложил ему табурет. Но Веселовский остался стоять.
– Я пришел поговорить серьезно, товарищ военком.
Алексей кивнул головой.
– То, что случилось в дивизионе, можно истолковать так, что все офицеры против Советской власти и, следовательно, командирами быть не могут.
Алексей поднял на него глаза. Только что он говорил на эту тему с Каспаровым.
– Так вот, – приближаясь к столу, заявил Веселовский, – я пришел вам сказать от имени своего и Климчука, что мы осуждаем поступки Синькова и его сообщников, уверяем вас, что нам вовсе не были известны их планы и мысли, и обещаем вам доказать, что мы хотим и сумеем помочь Советской власти в борьбе с белыми…
Это звучало в одно и то же время торжественно и искренне.
Климчук, который задержался было в сенях, тоже вошел в избу и стал рядом с товарищем.
Лето жаркими днями, черными ночами, зорями, от которых огневело озеро, отражавшее черные зубцы крепостной стены, перекатывалось над местечком. Впервые за все время Алексей писал Вере часто и без того стеснения, которое лишало их переписку установившейся между ними простоты и доверия. Вечерами под окнами его домика проходили парочки. Красноармейцы добродушно высмеивали любовные неудачи и успехи товарищей. К Веселовскому приходила жеманная девушка, дочь аптекаря, гордившаяся крохотными носовыми платочками и стыдившаяся разбитых туфель. Гармонист Крикунов сложил о ней частушки, которые пел на мотив «Разлуки».
Алексей не был красив, но он был виден, крепок и статен. Местечковые девушки не обходили его взглядом. Не в его характере было тосковать или томиться беспричинно. Он был из тех, для кого любовь как жажда, которой бессмысленно сопротивляться. Но Вера бесконечно осложнила и вместе с тем упростила для него этот вопрос. Ни одна женщина на свете не могла ему подарить ощущений, какие он испытывал с нею. Раз поднявшись на высоту большого, взволнованного чувства, он не хотел больше переживать вполовину. Самая память о Вериной ласке уже была дороже наслаждения с другой.
Каспаров, единственный, кто знал о любви и думах Алексея, посоветовал ему попроситься на побывку в Петроград. Но смешно было и думать об этом. Времени не хватает съездить в штаб с личным делом…
В июне пришло письмо от сестры. Это был первый вечер, когда Алексей не работал. Настя писала, что Вера ждет ребенка. Это уже заметно, но Вера все просит не писать Алексею.
Никогда еще не думал Алексей, что у него скоро может быть сын. Первая мысль была не о ребенке, а о Вере. Отчетливо подумалось, что у него есть жена. Крепкая связь! Где-то там, в большом городе, по пустой квартире ходит красивая, легкая женщина, носит под сердцем его ребенка, думает о нем.
Алексей любил в Вере красивую женщину, любил слабое, всеми оставленное существо, которому он предложил свою мужскую помощь, любил ее необычайную правдивость и искренность. Но временами ему все еще казалось, не случайна ли эта связь с интеллигентной, прежде такой чужой женщиной?
Теперь все эти струйки завязались в крепкий узел. Стало уверенно и спокойно.
Он написал Вере письмо, выдал Настину тайну, разрушая заговор женщин с той уверенностью, какую дает только радость. С красноармейцем, ехавшим в Петроград, он послал им сверток с маслом, сахаром, мукой, истратив на посылку двухмесячный комиссарский оклад. Красноармеец привез ему ответное письмо и несколько пачек табаку – подарок Веры.
Алексей ежедневно с жадностью читал газеты. По-прежнему на юге и на востоке шли бои, и по-прежнему Северо-Западный фронт оставался спокойным. Он сам стал склоняться к мысли, что недельная поездка в Петроград не повредит делу. Втайне он думал, что теперь будет удобно проситься на другой, более активный фронт. Он посоветовался с Каспаровым, заготовил бумажку и поскакал в штаб. Но ему не пришлось даже заговорить о своей просьбе. Бабин встретил его в коридоре, взял за плечо и повел в свой кабинет. Сюда был вызван начальник политотдела, и Алексей вышел из кабинета с мандатом военкома артиллерии дивизии.
Месяц прошел в ознакомлении с частями, разбросанными на большом участке. Рапорт был отправлен в Петроград на Крюков канал в качестве вещественного доказательства его стремления к Вере.
Разлука становилась тягостной и беспокойной. Она доставляла минуты мучительной истомы, которая переходила бы в тоску, если бы ей давали волю. Теперь приходилось не только выполнять план политработы, но и требовать выполнения его от других. Под давлением штаба и политотдела армии Алексей торопил командиров и военкомов батарей, как будто передышка вот-вот должна оборваться и все части Северо-Западного фронта вновь призовут к действию.
В октябре газеты принесли весть о том, что Юденич снова двинул войска на Петроград. Момент был выбран не случайно. Переговоры Советов с Эстонией послужили ширмой. Командование Седьмой армии переоценило наступившее спокойствие. Поддержанные английским флотом и эстонской армией, белые войска быстро двинулись вперед. На закрытом собрании в политотделе Алексей узнал, что белыми уже взят Ямбург. Хорошо снабженные, с артиллерией и танками, они устремились вдоль железнодорожного пути к Гатчине.
Дивизия получила приказ командзапа быть готовой к нанесению удара с юга на север, во фланг и тыл белой армии.
Начались бешеные дни, наполненные сборами, маршами, походами, мелкими, но упорными стычками.
Пали Веймар, Волосово, Копорье, Елизаветино и, наконец, Гатчина. В это же время Деникин шел на Орел. Колчак, отброшенный в сибирские степи, вновь занял Тобольск.
Какая участь постигнет Петроград, город, не склонивший голову ни перед блокадой, ни перед голодом и холодом, ни перед угрозами германцев и английского флота?!
Ночь заглядывает в высокие окна. Может быть, Вера сейчас открывает форточку и гул выстрелов стелется над крышами темных домов. А на чердаках, в подвалах люди, сброшенные волею большинства, опять, как в мае, точат ножи, чистят наганы для расправы, для удара в спину. Может быть, жена его завтра станет бездомной, гонимой, будет ввергнута в темницу с ребенком, еще только бросившим первый взгляд на мир. Ведь на площади и проспекты Петрограда первыми ворвутся люди, которые убили и изуродовали Карасева, повесили генерала Николаева. Они ненавидят революцию и боятся ее, как сапа. Когда обнаруживают сап, сжигают трупы коней и самые конюшни. Известью заливают землю, на которой они стояли…
Какая участь постигнет тебя, Петроград, если белые, хотя бы на один день, станут твоими хозяевами?! Что станет с твоими улицами, предместьями, заводами, с людьми, предки которых камень за камнем построили тебя?! С людьми, служившими тебе без права взглянуть в твое лицо, не покинувшими тебя, когда ты оскудел и измучен! Свежий номер армейской газеты разворачивали как телеграмму, пришедшую глухой ночью. Но и газеты были редки. Дивизия Алексея пробивалась с боями на север, чтобы нанести врагу фланговый удар и отрезать его от баз и руководящих центров. Враг, бросивший лучшие силы на Петроград, не в состоянии был остановить этот напор. Он отступал, глубоко обнажая фланг Алексей знал, что он участвует в самой опасной для белых операции, но все-таки он заплатил бы любую цену, лишь бы быть сейчас не здесь, а там, под Пулковом, стоять между врагом и городом, зная наверняка все худшее и лучшее, не терзаясь между надеждами и сомнениями.
Пало Детское Село. Письма больше не шли из Петрограда. Дивизия Алексея рвалась к Луге. Кто скорее, кто раньше?! Как горяча земля под ногами сражающихся за себя, за сына, за революцию, за будущее человечества!
Сверчкова арестовали, потом везли под конвоем в товарном вагоне, потом допрашивали с большими промежутками, которые казались ему невыносимой мукой. Он просиживал в оцепенении долгие дни и нескончаемые ночи. Временами он понимал, что включен в большое, сложное, многолюдное дело, и это сознание то приносило ему облегчение, то, напротив, углубляло его отчаяние.
Следователь полагал своим долгом обосновать обвинение и, естественно, считал, что все усилия Сверчкова будут направлены к тому, чтобы оправдаться во что бы то ни стало. Но Сверчков еще ни на секунду не сумел посмотреть на свое положение трезво и попеременно становился то союзником, то неистовым врагом следствия.
Факты были расположены обвинением в строгом порядке. Они, как шахматные фигуры, заняли свои исходные угрожающие позиции на листах обвинительного акта. Сверчкову издавна были известны контрреволюционные настроения Синькова и Воробьева. Ночью в овине он узнал, что настроения эти нисколько не изменились, что офицеры затеяли заговор. Сверчков отлично представлял себе все последствия такого заговора. Он – бывший офицер и прекрасно знает, что такое заговор на фронте. Его письмо к Вере свидетельствует, что он даже представлял себе, кто именно падет первой жертвой. Умолчав о заговоре, он предал интересы Красной Армии. Он – виновник вооруженного столкновения, едва не кончившегося смертью военкома. Если бы это было обычное уголовное преступление, он и тогда не избежал бы скамьи подсудимых.
Вывод: так мог поступить только убежденный, злостный контрреволюционер, враг Советской власти и Красной Армии.
Всем духом своим Сверчков бросался в бой с подобным выводом. Если бы он был врагом революции, он тысячу раз мог бы бежать на Дон, в Сибирь, в Архангельск. Мог перейти к белым на фронте. Но у него не было даже колебаний. Он – сын бедных родителей. Реакция, царизм были ненавистны ему с детства. Его семья и он сам испытали на собственной шкуре могущество богатых. Он помнит трагическую смерть отца и узловатые от работы и ревматизма руки матери. В офицерской среде он был белой вороной. Его любили солдаты…
Но для следователя трибунала вся эта аргументация была подвержена сомнению в каждом своем пункте и, что самое главное, шла как-то мимо. Следствие вовсе не обязано пускаться в пучины психологических исследований. Понять – оправдать: эта формула хороша для философа, но не годится для суда и следствия. Суд, как каботажное судно, идет от маяка к маяку, от факта к факту. Факты все были на месте, и совесть следователя была спокойна. Он выполнял свой нелегкий, но, безусловно, необходимый долг.
Иногда он приоткрывал перед Сверчковым завесу большого дела, в котором Сверчков занимал весьма скромное место.
Это был новый большой заговор в пользу Юденича, который и сейчас рвется к столице. Это был дьявольский план сильно ударить в спину защитникам Петрограда. Синьков был в связи с Живаго и через него с Гельсингфорсом и Ревелем. Дефорж и Малиновский входили в штабную организацию, возглавляемую эсеркой Петровской и начальником штаба Седьмой армии Люндеквистом. Живаго, эсеры и Люндеквист находились в тесной связи с агентурой посольств, со всей шпионской сетью исконных врагов русского народа, стремившихся превратить Россию в колонию, закрепив ее экономическое порабощение целой системой кабальных договоров с будущими правителями страны, своими ставленниками.
Глобачев проник даже в клубную секцию Политуправления. Заговорщики мечтали поднять восстание в момент, когда солдаты Юденича подойдут к Обводному каналу. Глава заговора, Люндеквист, сам составил план наступления белых, которому и следовал штаб Юденича. Заговорщики заблаговременно образовали правительство, которое должно было расставить виселицы на всех перекрестках города и устроить судилище, рядом с которым суды Тьера показались бы в истории только первым скромным предупреждением.
Сверчков немел перед трагической связью своих колебаний и этими фактами, которые казались ему в устах следователя раскатами грома. Он опускал голову и, оставаясь один, казнил и мучил себя так, как не мог бы измучить его самый немилосердный приговор. Он вершил свой высший суд над собою. Маленькими и пошлыми казались Сверчкову его душевные порывы, которые он, подобно нахохлившемуся воробью, подставлял навстречу мировой буре. Он завидовал юноше Веселовскому, который входил в новые дни без всякого надрыва, без отравляющей тоски по прошлому. Теперь он, чтобы быть не только в прошлом, но и в будущем, уничтожал в себе гордость. Но ему по-прежнему не удавалось почувствовать землю под ногами. Он видел себя в большой, бурно несущейся реке без руля и без весел. Оба берега летят мимо. Он между ними. Он ничей. Обоими отвергнутый, никому не потребный. Впереди – туман и в нем случайная скала, о которую суждено ему бесславно разбить свою голову.
Судьи почувствовали эту внутреннюю драму человека, сидевшего на скамье подсудимых. На совещании подвели итог всего того, что можно было бросить на чашку весов в оправдание подсудимого. К тому же подоспевшая к этому времени победа на фронтах гражданской войны сделала их снисходительными.
Условный приговор выслушал заросший, расчесывающий грудь человек, уже до смерти измученный самим собой. Условная свобода не подняла его головы и не прояснила глаз. Дерево было подрублено у самого корня.
Но он пообещал судьям, что к концу условного срока у них не будет оснований раскаиваться в проявленной снисходительности.
Он вышел из зала суда на улицы Петрограда с решением ехать в любую деревню и искать исцеления в простом труде на лоне природы.
Глава XVIII
ДВА ПЕТЕРБУРГА
По старому шведскому преданию, Карл XI подарил обширные, завоеванные в устье Невы земли своему приближенному, графу Стенбоку. Места были дики и без людны. Каждую осень рыбаки приневских деревушек уходили от наводнений до Дудергофских высот. Стенбок решил, что на дареных землях лучше всего построить охотничий замок.








