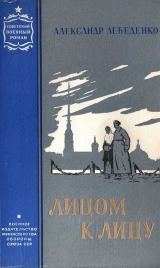
Текст книги "Лицом к лицу"
Автор книги: Александр Лебеденко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 38 страниц)
В воскресенье школа шла в Эрмитаж. Восьмимесячный скудный срок учебы не пугал молодых педагогов и не снижал духовной жажды курсантов.
– Вы тоже в первый раз? – подозрительно спросил Веру Алексей.
Он никогда еще не был ни в одном музее.
Но Вере трудно было определить, сколько раз она забывалась в этих залах, обретая в себе острые ветерки пробужденной фантазии.
В воскресенье Алексей еще на рассвете съездил в казармы, вернулся рано и предложил Вере пойти в Эрмитаж вместе.
Он пробежал залы дворца пехотным шагом. На стук его каблуков оглядывались старушки сторожихи. Он то и дело терял спутницу, задерживавшуюся перед любимыми картинами, и возвращался, напряженным взором отыскивая ее в толпе.
Со стен смотрели чужие, как на иконах, ни на кого не похожие, невероятные лица, мужчины в кружевных актерских воротниках со шляпами в нелепо торчащих перьях, раздетые силачи и женщины с невиданным обилием тела. Каждый из них был любопытен и на улице собрал бы толпу зевак, но здесь их было слишком много, и через час Алексей откровенно зевнул, доставив искреннее удовольствие какой-то паре бывших. (О, если б можно было заснять для заграничной печати этого варвара, забредшего в музей!..)
– Скажите, – подвел он Веру к полуразвалившемуся и отделенному веревкой от прохода елизаветинскому дивану, – на этой мебели сидела сама императрица?..
Заметив откровенный зевок быстро расправившегося с фламандцами Алексея, Вера спросила спутника, не довольно ли на первый раз. Он согласился и радостно помчался к выходу, как бы боясь, чтобы девушка не передумала. Он оживился в вестибюле.
Сторожа в волчьей шубе до пят он спросил, сколько здесь комнат и сколько дров выходит за зиму, дважды пробежал вверх и вниз мраморную лестницу и осторожно пощелкал по колену нагую нимфу.
На улице он предложил пройти, если еще не поздно, в музей, где собраны картины русских мастеров.
Вера покорно двинулась к Михайловской площади.
В Русском музее Алексей направился к большим полотнам, в которых сюжет выступал на первый план, как победитель, заслоняя собою, под флагом творческих жертв во имя целого, краски, тона, исступленную войну художника с материалом.
Здесь Алексей не торопился. Шепотом и чуть стыдливо он расспрашивал Веру, и девушка прилежно рассказывала ему о Фрине, о стрельцах и Петре, об Ермаке и Екатерине, о Помпее, Флоренции, Угличе и Ливадии. Не выстраиваясь в прагматический ряд, спутанные во времени, отрывистые и неточные сведения, неизвестно как пришедшие к нему, оживали в этих картинах художников, которые были для него в первую очередь дружеским, ярким рассказом о настоящем, прошлом и будущем. Его вместительная голова поглощала не уставая. Он работал всеми мышцами своего духа, как отставший, но не теряющий надежды на победу бегун.
Но у поленовских и шишкинских полотен он стал рассказывать Вере о своей деревне, и Вера поняла, что краски прокладывают себе путь к его чувству, еще не расчищенному опытом и размышлением.
Звонок застал их в средних залах второго этажа. В веселом разговоре стояли они у раздевалки и пешком отправились на Крюков канал. Алексей зашел было в угловую, но телефонный звонок внезапно потребовал его в часть.
Вера читала «В людях» Горького и думала, что Алексей тоже не упадет, не принизится в жизни.
Глава XVI
ЧЕСТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
Клячонка внесла Алексея и Синькова прямо в центр конского двора. Двор был густо замешан кашицей зеленоватого снега и осенних грязей. Был он так обширен, что лошади на коновязях, раскинутых по его краям, казались бусинками, нанизанными на бечеву. Белая кобыла носилась из угла в угол, за нею с уздечками в руках спешили трое красноармейцев. Кузнец, громко вздыхая, работал у ворот. Низкие, приземистые конюшни дышали гниющей соломой, прелью и конской мочой.
– Не сдавайте только позиций, – предупредил, ступая в грязь, Синьков.
Алексей мотнул головой. Был у него такой, еще солдатский, задорный жест кудрями. Ему ли не знать цены коню в артиллерии!
Ордера предъявляли в управление конского запаса. Начальник, высокий узколицый и желтолицый юноша, видимо бывший офицер, и большой плоскогрудый усач военком вели переговоры, не присаживаясь к столу.
– Сто семьдесят лошадей? У нас налицо не хватит. В два-три приема. Мы получаем и сдаем партиями.
– Партиями, – взмахнул усами военком.
– Товарищи, – пододвинулся к начальнику ремонта Синьков. – Большими партиями без выбора я лошадей брать не буду.
– То есть как это?
– Тяжелая артиллерия – это не обоз. Прошу вас разрешить мне каждую лошадь отбирать отдельно, конечно, с вашими людьми.
– Это невозможно. Да и ни к чему. Мы лучше знаем, что у нас есть и какая лошадь в каком состоянии.
– Вы гарантируете нам первоклассных артиллерийских лошадей?
Начальник управления конского запаса снисходительно улыбнулся:
– Откуда же они возьмутся? Как вы думаете? Дадим лучших.
– Вот мы и поищем лучших совместно.
– Вы первые с такими претензиями.
Алексей отошел с военкомом.
– Чего твой-то уперся?
– Да и твой-то тоже!.. – взлетели кверху усы.
– Пушки возить – не кухни. Правильно он говорит. Не за свое…
– Да и мой не за Австрийскую империю…
– Вот давай вместе и посмотрим.
– Ну, пущай смотрят вместе, – сдались вдруг усы. – И так бы не надули…
Три дня с утра до вечера сидел Синьков в управлении конского запаса с ветеринаром и старшиной. Алексей, с первого дня став комиссаром при Синькове, понял, что дело в верных руках, Получив назначение командиром отдельной батареи, Синьков удвоил рвение и сосредоточил все внимание на подборе конского состава и бойцов. Аркадий обходил конюшни после каждого свежего привода из окрестных деревень или со станций. Он ласкал понравившегося ему коня, лез ему в рот, осматривал копыта, пальцами перебирал сухожилия, ощупывал бабки, коленные суставы. Верховых он сам выезжал на дворе или предлагал проехать Федорову. Федоров ухарски вскакивал на коня без седла и, размахивая, как ярмарочный цыган, локтями, улюлюкая, разбрасывая веера грязи, летел от конюшни к конюшне. С начальником запаса Синьков свел знакомство… Покончив с работой, он шел к нему с военкомом в кабинет, мыл руки зеленым мылом, пил чай с пайковым хлебом. Все трое любили лошадей, наперебой рассказывали, как кто из них единственный раз в жизни упал с лошади, где видел скакуна, единственного в своем роде, как была на фронте единственная по красоте кобыла, к которой приценивался великий князь. «Единственных» было так много, что начальник запаса успел за рассказами проболтаться Синькову, что на днях ждут привода мобилизованных лошадей из заневских немецких колоний. Вот там-то и будут настоящие артиллерийские кони.
Синьков стал вяло производить прием, а в нужный день явился на рассвете и захватил полпартии кормленых, весело играющих жеребцов. Алексей был положительно счастлив. Он сказал Синькову, что с первого года войны не видел таких упряжек.
Все ездовые были теперь у дела, чистили, расчесывали, водили на ковку, готовили подстил. Лихо гремя по булыжникам города, водили теперь инструкторы на прогулку батарею, а каптенармусы ездили «на своих» в интендантство, в хлебопекарню, в районный военкомат. Через неделю Алексей и Синьков вывели батарею на прогулку в полном походном строю.
Синьков ночевал теперь на батарее. Обежав казармы и конюшни, он забирался к Коротковым, на теплые кожухи. Здесь же, в каптерке, они кормили его кашей, поили чаем. Здесь же, в теплом запахе хлеба и постного масла, он принимал красноармейцев, с прижимом выдавал сапоги, торгуясь, как на базаре, менял обмундирование, принимал чиненную батарейными шорниками упряжь и тут же укладывался на ночь, сняв только сапоги и расстегнув ворот гимнастерки.
Алексей с гордостью докладывал Порослеву о новом командире. Порослев принимал слова Алексея как должное. Это ведь он выдвинул Синькова, как лучшего строевика, несмотря на противодействие Алексея. И, значит, не ошибся. Он не замечал, что, расхваливая Синькова, Алексей и теперь выпытывал, нет ли все-таки у Порослева сомнений в новом командире.
В политуправлении округа, при выдаче комиссарского мандата, Алексею было сказано: «В кратчайший срок необходимо добиться, чтобы батарея стала боеспособной частью, готовой двинуться на любой фронт по первому приказу».
…Три года империалистической войны… Легкая бригада в Галиции действовала как часы… Третьим номером в суматохе беглого огня Алексей разбил палец. Кровь текла, завернулся ноготь. Он тряпочкой обернул палец и продолжал подавать снаряды, как механизм. И еще внутри что-то стонало: «Бей его, черта, в хвост и в гриву! Скорее, скорее!» Пушка прыгала и плевала в небо огнем, сталью и дымом… Где это было? Под Злочевым, что ли?
Русскому народу угрожал враг, стремившийся захватить богатства страны, поработить ее население. Он хотел использовать техническую отсталость способного, талантливого, но лишенного человеческих прав народа, возглавляемого неумелым и неумным, безынициативным правительством. Но гордый и самолюбивый народ дал врагу жестокий отпор.
Не его вина в том, что хозяева страны – помещики, министры, генералы – бросили его в бой с голыми руками против вооруженного до зубов противника. Народ на деле убедился в том, что уберечь свою национальную самостоятельность, отцовские и дедовские земли он может, только сбросив своих негодных хозяев, в великом братстве рабочих, тружеников земли и угнетенных народов.
Сперва инстинктивно, а потом и всем разумом поняла солдатская масса эту великую мысль.
Теперь Алексей пойдет на фронт комиссаром, и его основная задача будет заключаться в том, чтобы батарея работала настолько же лучше той галицийской, насколько ведущая его и его людей идея выше, обширнее, благороднее традиционного патриотизма царских полков.
В большом овальном зеркале казаринского кабинета, среди портретов статских и тайных советников, перед ним стоял плечистый парень в зеленой гимнастерке, туго перетянутый широким ремнем. Лоб крепкий, серые глаза, густые брови.
«Похож ли я на комиссара?» – думал Алексей.
Если бы его спросили, за что ненавидит он своих будущих врагов, он, вероятно, ответил бы не сразу. Ненависть жила в нем так, как сердце живет в груди, – неотделимо. Он не мог бы вспомнить, когда впервые она зашевелилась в сознании. Когда первый услышанный им в семнадцатом на митинге большевик собрал и выбросил эту ненависть в словах, Черных, стоявший в одном из дальних рядов, даже вскрикнул и навсегда запомнил не только слова, но и лицо этого большевика. Тысячи людей, которых он встречал в казарме, на собраниях, на заводах, в квартире Федора, на демонстрациях, на митингах, разделяли и поддерживали эту ненависть, как угли взаимно поддерживают жар.
Питерские рабочие – партия за партией – отправлялись на север, на восток, на юг.
Случилось то, что должно было случиться: теперь пойдет на фронт и он.
Не просто храбрость и выносливость, не только твердость и гнев, но умение бороться современными средствами войны – вот что потребуется от него на фронте. Сотни людей и еще дюжина офицеров, восемь гаубиц с пудовыми снарядами, которыми можно превратить в решето огромный дом, в пожарище – деревню…
Он был уверен в себе как в бойце, но не было в нем такой же полновесной уверенности в том, что он сумеет умно и точно управлять техникой и людьми, в том числе и такими, которые у него на подозрении.
Были получены лошади, и настало время, когда каждую ночь его могли поднять с постели и в двадцать четыре часа отправить на фронт. Время стало еще дороже. Оно было подобно воде во фляжке путника; пересекающего пески. Алексей ложился поздно, вскакивал со светом. Не пивши чаю, не слушая протестов Насти, бежал в казармы.
Однажды ночью пустынная квартира огласилась стоном. Алексей молотил тяжелым кулаком кровать и мягкий ковер на стене. Когда в кабинет вошла Настя, глаза его горели, он утирал ручником пот со лба, а пальцы все еще отказывались разжаться.
Настя дала ему воды, перестлала постель и, нашептывая по старой привычке что-то о царице небесной, устроилась тут же на полу. В дверь заглянуло испуганное лицо Верочки и скрылось. Тогда Алексей окончательно пришел в себя.
Прежде он легко относился к недостатку специальных знаний. Ведь эту гаубицу он знал, как свою постель. Теперь сознание своей неполноценности в сравнении с любым офицером не давало ему покоя. Он знал теперь, почему раньше одних учили много, других мало, и чувствовал себя обворованным.
Он достал описание сорокавосьмилинейной гаубицы и принялся разбирать чертежи. Но формулы и термины баллистики закрывали от него какой-то простой смысл. Он принудил себя обратиться к Сверчкову с просьбой помочь ему. Сверчков взялся за обучение комиссара с энтузиазмом, но, уяснив на практике, что Алексей понятия не имеет об алгебре, геометрии и даже о тройном правиле и пропорциях, осел, ослаб и вяло стал доказывать, что нужно начинать не с артиллерии, а с арифметики. Алексей угрюмо качал встрепанной головой. Он понимал, что Сверчков прав.
Но, развивая свою мысль, Сверчков увлекся и стал доказывать, что бесплодно заниматься одним предметом, хотя бы арифметикой. Нужно заняться самообразованием вообще: географией, историей, физикой, иначе же всякие знания, в том числе и политические, висят в воздухе, а человек, повторяющий одни лишь выводы, похож на обученного скворца.
Алексей внезапно разозлился и замолчал. Вслед за учителем остыл и ученик. Занятия оборвались сами собою.
Но Алексей не мог примириться с неудачей. Его страшила мысль оказаться в плену у специалистов. Сверчкову он больше не верил. Общая подготовка – дело хорошее, но стрелять из пушек можно и не зная истории Рима. Еще большой вопрос, знает ли географию Синьков, но, говорят, бьет он наверняка. Алексею нужны были точные знания: как построить веер, как вычислить по карте расстояние до цели, как пользоваться таблицей шрапнельных трубок. Его практическая голова с негодованием отвергла длительный, запутанный путь, предлагаемый Сверчковым. Он готов был заподозрить умысел.
У Веселовского было открытое лицо с удивительно спокойными серыми глазами. Алексей спросил его: можно ли научиться стрелять, не зная математики?
– Артиллерист, который должен работать с любым орудием в любых условиях, без математики не обойдется, – ответил юноша. – Раньше курс артиллерийского училища проходили в три года. Мы с Климчуком потратили на это дело восемь месяцев и все-таки стреляем. Теперь есть краткосрочные курсы – всего четыре месяца. При нужде – можно научиться стрелять и скорее.
«При нужде» – это соответствовало всем мыслям Алексея.
– Хотите, займемся, – просто предложил Веселовский.
Он умело отделял сложную теорию от практических моментов, и Алексей почувствовал к нему благодарность. Многие прежде таинственные действия командиров получили в его глазах определенный деловой смысл.
Беседуя с Веселовским, Алексей все больше понимал, что его новые знания помогут ему ориентироваться в действиях инструкторов, но заменить командира батареи он сможет не скоро.
Какая-то легкая надежда носилась в сердце Алексея: не смогут ли старые фейерверкеры целиком заменить инструкторов? Хотя бы в критический момент.
Это были крепкие, уверенные в себе ребята. Они знали свое место в бою, свое орудие, работу номеров, телефонистов, разведчиков. Но пристрелка – это было дело офицерское, хитрое и недоступное.
Партия сознательно делала ставку на честных специалистов. Этот лозунг Алексей принял, сжавши зубы. Кроме Борисова, он не видел на фронте офицера, которому он, не задумываясь, доверил бы свою судьбу и жизнь товарищей. Он знал, что и Порослев верит не всем офицерам. Было время, когда Алексей готов был выступить против привлечения специалистов вообще, но его убедил Чернявский. В военных школах обучаются сейчас рабочие и крестьяне. На это нужно время, а враг не ждет.
Чернявский рассказал Алексею, как французы-санкюлоты заставляли королевских генералов сражаться с пистолетом у виска. Эго рассказывал ему еще на фронте Борисов. Об этом он прочел в истории Французской революции, и образ комиссара Конвента потряс воображение Алексея. Чутьем он понял нечеловеческую трудность этой позиции и ее историческую необходимость.
Ему придется держать свой комиссарский наган у виска Синькова… У командира батареи синие прожилки на бледной коже и светлые, лениво вьющиеся волосы, глаза как ввинченные живые стеклышки, большею частью пустые и умеющие смотреть мимо. Порослев взял с Алексея честное слово, что он постарается сработаться с Синьковым, но он не знал, чего стоило Алексею дать это слово.
За военную выправку, за щегольскую фуражку, за резкий командирский голос, за звон неснятых шпор, за гордо поднятую голову, за пригнанные по ноге сапоги, за тысячу как символических, так и случайных мелочей, из которых сложилось в сознании Алексея представление об офицере-враге, – он невзлюбил Синькова с первых дней. Аркадий был самым нежелательным гостем Алексеевой квартиры, и эта неприязнь росла. Встречая Синькова на пороге, он едва сдерживался, чтобы не крикнуть «вон!». Он видел, что Синьков и Воробьев платили ему тем же, и мысленно жалел, что здесь не фронт, не август семнадцатого года…
Он видел ясно, что Синьков стремится к Вере. Он искренне считал, что связь с ним была бы гибелью для девушки, которая казалась ему лучшей из всех женщин этой среды… Она была скромна, тиха и правдива. Она была бедна и не воспитывала в себе ненависти к революции. А этот гад целыми вечерами шипит в ее угловой комнате и издевается над тем, что дорого Алексею. За то, что она слушает его, Алексей готов был невзлюбить и ее, но это чувство отлетало при первом взгляде в ее спокойные серые глаза. У нее были мягкие, пушистые волосы, она была легка, как подросток, и обидеть ее нельзя было даже мыслью.
Когда на Дон, к Каледину, к Краснову, заструился из столицы офицерский и юнкерский поток, он ждал, что Аркадий и Воробьев сбегут на юг. Он поручил Степану следить за квартирой Зегельман. Он сам расспрашивал смешливую Куделю. Сбежал Ульрих фон Гейзен, но прочие офицеры, казалось, и не думали покидать столицу. Зато Степан выследил Куразиных, которые околпачили самого Алексея.
Но когда решался вопрос о назначении будущего командира отдельного дивизиона и Порослев назвал фамилию Синькова, Алексей вынужден был согласиться. Решительно и неоспоримо Синьков занял первое место среди инструкторов. Не ожидая ни приказа, ни напоминания, он делал все, чтобы батарея была снабжена, укомплектована, способна двинуться на фронт. Казалось, это действует службист, вернувшийся в привычную атмосферу и ради своих службистских радостей забывший все остальное. Наконец, он популярен среди красноармейцев. Это подкупало бывшего унтер-офицера царской армии. Он как бы вновь соглашался выделить из среды офицеров тех, кто не глядел волком, не кичился золотыми погонами, – может быть, из таких и получатся честные специалисты.
Не одного Синькова коснулись великие перемены эпохи. Религиозные убеждения, привычки, взгляды – все побывало под жерновами этих двух лет. Кто знает, может быть, такие, как Синьков, еще послужат революции. Но кобура Алексеева нагана всегда будет отстегнута.
Синьков упрочил бы эту неприязнь, если бы попытался, подобно некоторым инструкторам, втереться в доверие к комиссару, стать с ним на дружескую ногу. Он польстил Алексею, приняв его назначение как должное, но он не изменил в отношениях с ним тон, установившийся на Виленском в запасном дивизионе. Это была деловая вежливость, целиком снимавшая вопрос о личных отношениях. Это не Малиновский, не Дефорж, размышлял Алексей, и не Сверчков. Любуясь смелостью и сметкой, с какими Синьков насаждал порядок и, не поднимая голоса, приучал часть к своим и комиссарским приказам, он все более убеждался, что в этом человеке что-то изменилось, как меняются части в механизме, и следует помочь ему забыть о выпавших пружинах и винтах.
После особенно подкупившего Алексея успеха с ремонтом конского состава он сам предложил более доверительный и более товарищеский тон. Синьков принял его тактично и спокойно. Тогда впервые Алексей позвал его к себе. Они приехали на бричке звездной ночью. Тьма не позволила Черных увидеть судорогу, прошедшую по лицу Синькова. Он молча последовал за Алексеем в квартиру, в генеральский кабинет с развешанными по стульям рубахами и шароварами комиссара. Синьков сидел в глубоком кресле и курил. Черных поставил чайник и, заглушая жаркое шептание примуса, рассказывал ему о том, что брестская бумажка уже разорвана. Синьков, оказалось, не читал еще газет.
Сквозь звуки примуса, сквозь голос Алексея из коридора доносилось шарканье Настасьиных валенок. Когда раздался стук каблучков, Синьков подумал, что Алексей позовет пить чай и Веру. Но одновременно с примусом угас и шум в коридоре.
Теперь за Алексеем и Синьковым приезжала одна бричка. Аркадий к семи часам сбегал в казаринскую квартиру – для кратких совещаний с Алексеем. Несколько раз он видел Веру у ее дверей. Она заметно избегала встреч с ним. Но встретиться пришлось. Батарея переходила с Виленского в отдельное помещение. У Алексея в кабинете собиралось по пятнадцать – двадцать человек. Участились встречи командного состава. Синьков и Сверчков оставались после всех. Настя заваривала малиновый чай, и Алексей, довольный успехами формирования, приобрел вновь часть той веселости, какую принес с фронта. Деловые разговоры заканчивались громким смехом. Он долетал и в угловую, и Вера принимала его как признак установившегося мира.
Однажды, когда приехал Порослев, пришли Аркадий и Сверчков, она вступила в кабинет по приглашению Алексея и подала руку Аркадию, как будто ничего не случилось. Все эти люди готовились ехать на фронт, и это обстоятельство уравнивало в ее глазах дурных и хороших.
Глава XVII
ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ РАСПЯТИЯ
В середине девятнадцатого столетия на Первой линии Васильевского острова, напротив церкви св. Екатерины, поднявшей неуклюжую колокольню над всем латинским кварталом Петербурга, православнейший русский царь основал католическую духовную академию, гнездо иезуитизма, этой куртизанки, периодически смущавшей покой самодержавия и русской знати.
В честь православного царя иезуиты воздвигли дом в виде большой буквы Н. От линии до линии, через весь квартал архитектор Михайлов Второй протянул два параллельных корпуса, соединенные полукруглой перемычкой в два этажа. Рассмотрев на плане свои царственные инициалы, государь был польщен. Он не думал о том, что эта величественная трехэтажная литера будет видна только птицам, равно безразличным к идее самодержавия и его собственным заслугам перед легитимизмом.
Но легче было проповедовать immaculata conceptio в Африке и Китае, чем в революционном Петрограде. Варшава Пилсудского сулила новый расцвет ордену, и воинствующие католики покинули город на Неве. Дом опустел и был разыскан царским капитаном Аркадием Синьковым, рыскавшим по всему городу в стремлении освободиться от опеки командования запасного дивизиона.
Батарейцы наглухо заперли холодную, как погреб, домовую церковь, верно хранившую сумрак и запахи всех божьих домов, поставили в аудиториях нары и койки, опростали и заняли под лошадей все сараи и еще в старом епископском парке разбили коновязи, приделав дощатые навесы к высокой каменной ограде.
В перемычке, делившей двор пополам и разбитой по числу студентов на двадцать четыре кельи, поселились каптенармусы, старшина, фейерверкеры, писаря и те из батарейцев, кто был ловчее и более склонен к уединению.
Прежде в каждой келье стояла одна железная кровать, стол для занятий, аскетический табурет. Большое белое распятие склонялось над кельей из восточного угла. По странной склонности ума или лености предыдущие постояльцы – польские легионеры – превратили кельи в уборные. Батарейцы убрали горы нечистот и заделали глазки в дверях, служившие академическому начальству для наблюдения, дабы уберечь студентов от рукоблудия и чтения современных книг, носительниц мирских соблазнов. Теперь в духоте от хорошо натопленных печей ютились батарейцы по трое и четверо.
Епископская квартира в центре здания и правое крыло были заперты. Солидные сургучные печати в большом количестве повисли на необыкновенно высоких дверях. Шел слух, что комнаты до потолка забиты мебелью, платьем, коврами, велосипедами сбежавших в Речь Посполиту членов польской духовной колонии. Высокий пробощ в черной сутане до полу, как подбитая летучая мышь, носился в сумерках по коридору со связкой ключей и с лицом заложника и кандидата в мученики. Он был изысканно вежлив, не уставал держать два пальца у полей котелка, но красноармейцы легко угадывали, как клокочет гнев в этом прямом, как флагшток, человеке.
Искреннее восхищение красноармейцев вызвали подвалы. Они тянулись от улицы до улицы под аудиториями, квартирами, кельями и церквушкой и от цементного пола до сводчатого потолка были наполнены ящиками выпитых бутылок всех марок – от скромного кагора до вдовы Клико.
Застарелый винный дух властно носился над этими памятниками коллективных оргий и единоличных меланхолических возлияний.
– Мильен бутылок, – определил с размаху Федоров.
– А мы-то, – уныло вторил ему Серега Коротков. – Что мы, тьфу, пьем на пасху да на святки. Вот это герои!
Винный дух щекотал ноздри, и батарейцы верили, что есть в подвалах тайники с запасами не распитого ксендзами и легионерами вина. Ночами с огарками рыскали меж ящиков, гремели стеклом, принюхивались и выстукивали полы и стены. Алексей поставил караул у входа в подвал и сам проверял, чтобы часовые не принимали участия в бесплодных поисках.
Первую от входа келью заняли Савченко и Фертов. Здесь сразу же организовался штаб по борьбе с охранными печатями. Страх перед Алексеем и перед Советом мешал действовать открыто. Но ночами они забирались на чердаки, крышами проходили на жилую лестницу правого крыла. Раздобыли пилку, клещи и долото. Пробощ в белых кальсонах под крылаткой совершал ночные обходы, а по утрам, с лупой в руке, осматривал печати. Он надоедал Синькову и Черных. «Жолнежи гвоздями портят замки и царапают печати…»
Теплее, светлее и грязнее всего было в комнате Коротковых. Дородные парни в овчинных тулупах, в папахах и валенках ворочались в тесной келье, как верблюды в клетке уездного цирка. Они набросали на койки и на пол связки казенных кожухов, одеял, тряпья. Под столом, прикрытый фанерным листом, стоял бочонок постного масла. Под койкой Сереги в сером мешке хранился расходный сахар. Початый каравай для опоздавших не уходил со стола. От него щипали и отрезали почетные коротковские гости. В дни выдач стол придвигался к двери. Из-за него, как из-за прилавка, Коротковы отпускали бойцам, сбившимся в коридоре, порции хлеба, махорки, сахара и соли. За инструкторскими пайками приходили жены и матери, постепенно привыкавшие к теплым платкам и демократическим плетеным корзинкам. Командирский паек отвозил на квартиру Синькова сам Игнат Коротков. Поставив в угол мешок с крупами, сахаром, мукой, он пускался в беседы с командиром. Немногословные и настойчивые, как удары океанской волны, они были с обеих сторон насторожены в духе деревенской вековой дипломатии, где смысл ясен обоим и слово, как музыка, только облекает настроение. Не застав Синькова, он сдавал паек по записке Куделе, топтался в коридоре и на кухне, просил воды и, улучив момент, мелко для своей мохнатой огромности хихикал и щипал девушку. Коротков предложил и Алексею завозить паек на дом. Черных на ходу кивнул головой, и Настя на другой вечер спросила брата, почему это стали так много выдавать муки и сахара. Может быть, это потому, что он теперь комиссар? Для наглядности она показала ему увесистый мешок. Алексей похлопал ее по плечу и сказал: «Ну, будем есть пироги», – но тут же помрачнел и выругался, потому что до сознания его дошло, что все это коротковские штучки, что это – против всех законов, что Коротков и Синькову и другим командирам по холуйской привычке, наверное, отпускает лишку. Это значит, что его, комиссара, могут упрекнуть в недобросовестности. Он предложил Синькову сменить каптенармусов. Но Аркадий резко заявил, что Коротковы – опытные ребята, он за них ручается, и если Алексей что-нибудь заметил, то следует устроить ревизию. Мысль о ревизии пришлась Алексею по душе. Как это он не додумался сам? Альфред говорил ему, что он устраивает в школах ревизии очень часто – «иначе примазавшееся жулье унесет окна и двери», – но посоветовал ему в случае ревизии вызывать представителя от штаба и от Совета.
Ревизия обнаружила у Коротковых ничтожные нехватки в фунтах и золотниках, устранявшие мысль о хищениях, и Коротковы высоко подняли голову. Они подняли ее еще выше, когда у фуражира, которого выдвинул сам Алексей, недосчитались тридцати пудов овса и воза сена. Парень клялся, что он дает конюхам без счета, потому что у него нет фуражных весов, но Алексей застыл в смертельной обиде. Его надул приглянувшийся ему голубоглазый парень! Он подкупал ясностью глаз, тихостью и тем, что не походил ни на одного известного ему фуражира старой армии. Алексей отстранил фуражира приказом, и дело должно было перейти в только что образованный военный трибунал.
Чтобы показать умение признавать свои ошибки, Алексей согласился назначить фуражиром Серегу Короткова.
Большею частью командир и комиссар приезжали на батарею вместе. Синьков еще в воротах кричал что-нибудь дневальному или подвернувшемуся красноармейцу, выскакивал из пролетки на ходу и уносился в конюшни, к Коротковым, в помещения, приспособленные под цейхгауз, в прачечную, под которую освободили часть подвала. Его голос доносился из глухих коридоров, легкие его шаги, быстрые и уверенные, заставляли скрипеть доски старых полов. Его всегда сопровождала свита красноармейцев, он вел себя с ними фамильярно и, казалось, дружески, но мало-помалу приобретал вновь командирский тон.
У него не было постоянного места, комнаты, кабинета, чаще всего он сидел у каптенармусов. Писарь Горев, тупой и неподвижный, одолеваемый застарелой болезнью, ютился около кухни, потому что здесь было тепло. Канцелярия его помещалась в промасленном полотняном портфеле, к которому он приспособил обыкновенный висячий замок. Портфель, в свою очередь, помещался в сундучке вместе с личными вещами писаря. Синьков носил бумаги во всех тринадцати карманах френча и бриджей. Когда он разыскивал какую-нибудь расписку, казалось, он готовится раздеться до белья. Сверчков как-то сказал ему раздражительно, что командиру и комиссару следует иметь кабинет и канцелярию. Кабинет и канцелярия были для Алексея словами из лексикона разрушаемого мира. У Алексея были такие же тринадцать карманов и не меньше подвижности, и он, ничего не сказав Сверчкову, пустился в очередное плаванье по коридорам и проходам бывшей Академии, в которой пахло теперь лошадиным потом и квашеной капустой. Порослев, посетив батарею и не найдя угла, где можно поговорить наедине с военкомом, обозвал все это партизанщиной. Это словечко на время заменило ему все выражения неодобрения. Алексей вспомнил о личной канцелярии и улыбнулся.








