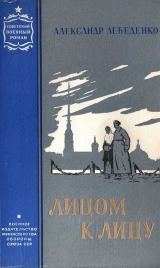
Текст книги "Лицом к лицу"
Автор книги: Александр Лебеденко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 38 страниц)
Андрей Куразин не подал уходившему Синькову руки…
Воробьев был не менее зол, но трезв. Военный завод прекратил работы за отсутствием сырья. Поручик, связанный с агентурой иностранных фирм непрерывной цепочкой, протянувшейся от Лондона и Нью-Йорка до Стокгольма и Гельсингфорса, был сыт, обеспечен валютой, летал по делам завода в Або, Ганге и Хапаранду. Попутно привозил мелкую контрабанду. В счет будущих благ оказывал мелкие услуги лейтенантам и атташе союзных армий, еще не покинувшим разбросанные по Петрограду посольства. Встретив товарища, он предложил Синькову поселиться вместе.
Тереза Викторовна отдала друзьям бывший зал, самую большую комнату, разделенную легкой аркой. Офицеры спят в дальней половине, освобожденной от всякой мебели. Здесь с окон и стен снято все мягкое. Здесь – бивуак, только две походные койки и физкультурный коврик на полу для французской борьбы. Это – стиль Воробьева.
В другой половине – тахта, ковер, фотографии, стол, крытый тканой скатертью, колода карт, хрустальный кувшин, гитара на стене. Если бы не фронтовые снимки и прибитый к стене гвоздем офицерский золотой погон – она напоминала бы комнату одинокой курсистки. Это – стиль Синькова.
Справившись с хозяйским хлебом, Воробьев достает из-под кровати чемодан. Там колбаса, грудинка, шпик, завернутый в пергаментную бумагу. Леонид Викторович отделяет большой кусок грудинки. Синьков достает из шкафа круглый хлеб, и они оба уписывают по гвардейской порции с примерным аппетитом.
Довольно похлопав себя по бедрам, Синьков мечтательно говорит:
– Хлеб наш насущный даждь нам днесь.
– Хватит и на завтра, – трезво заявляет, посмотрев на чемодан, Воробьев.
– Поменьше бы возил духов, – бурчит Синьков.
– Не хлебом единым… – показывает веселые белые зубы Воробьев.
– Такой носорог – и пятнадцатилетний ребенок… Уголовное дело.
– Увы, – рассуждал Воробьев, застегивая тугой ворот кителя. – Умная девчонка, хожу, как кот вокруг молока. Романтик из меня плохой, но вот, представь, – зацепился. Ни разу в жизни не был влюблен, но в такие времена хочется чего-нибудь экстравагантного. Должна же и нам дать кое-что революция.
– Мне больше по вкусу маман… – играя зубочисткой, говорил Синьков. – Но мне не нравится, что и та и другая заметно входят в наш бюджет. А деньги, как и гельсингфорская грудинка, – на исходе.
– Я больше не пойду на черную биржу, – мрачно говорит Воробьев. – Мы с тобой слишком неповоротливы. Вообще все это противно, мерзко, грязно, и, я уверен, на черной бирже каждый третий – агент…
– Но как же быть тогда с перчатками Маргариты и чулками для Анастасии Григорьевны?
Когда Воробьев сердит, с ним опасны шутки, но он сдерживается.
– Уж лучше принять предложение этого дьявола… гельсингфорского полковника. Освобождать Финляндию, потом Эстонию от красных.
– Какое тебе дело – победят серые или черные бароны? Лезть в прибалтийскую неразбериху, ничего не понимая. Германские дивизии, английские подлодки, эстонцы, латыши, финские добровольцы – чертово колесо. Протянешь палец – оттяпают всю руку…
– Все это проще. Гельсингфорс – это ближайшая дыра на белый свет, и там имеется прозаическая возможность купить, чтобы потом продать. Жить больше нечем. А жить надо. Просто, как оконное стекло. Будущая Россия, будущий порядок – это для тех, кто останется жить. И я прежде всего хочу остаться в живых. Я не дворянин, не сын помещика или капиталиста, я вчерашний мужик, у меня дьявольский аппетит к жизни, и я не чувствую себя кандидатом в могилу.
Большой, тяжелый, он встал и замахал руками:
– Чтобы дожить до лучших дней, я готов ехать в Шанхай, в Бомбей, в Ревель, грузить муку, овес, чулки, фуфайки, духи и пудру на баркас, на подводу, на аэроплан, на самого черта… И ты мне не читай политическую мораль, слышишь! Ты сам не силен в ней. Я сыт политикой, в особенности домашней, по горло. Сейчас я признаю единственный вид ее – наган, и еще лучше – пулемет. Только для такой политики я согласен бросить все и идти до конца.
– Леонид! – с необоримой кротостью, вполголоса перебил его Аркадий. – Незаметно для себя ты становишься митинговым оратором.
– Поди ты к черту, – шумно рассердился Воробьев.
– Я могу тебя уверить – дело идет к нагану и пулемету. Они уже гремят и сегодня…
– Где, ради бога… кроме твоего воображения?..
– По всей стране. Мы их не слышим за шумом этого города.
– Из подворотни? В спину?
– Загремят и на полях, но где раньше – мы не знаем. Может быть, здесь, в столицах, может быть, на окраинах, куда бегут офицеры…
– Бежит тот, кто не хочет сражаться… Бегут по домам.
– Неверно. Многие бегут туда, где есть возможность найти солдат, опереться на казачество. Они создают великую российскую Вандею.
– Тогда чего же мы сидим здесь?
– Я тысячу раз объяснял тебе свою точку зрения. Только здесь, в Питере, где все началось, все и кончится. Питер решил наше поражение, он решит и нашу победу. Возьмут Ростов, Киев, Самару, Харьков – ничего не изменится. Возьмут Москву, Питер – пой тогда панихиду по революции. Надо отсиживаться здесь, ждать и следить…
– Ты против вылазки в Гельсингфорс?
– Нет. Но до сих пор я предпочитал купцов лейтенантам и атташе. Теперь я вижу – надо серьезнее посмотреть на вещи. России не подняться без иностранной помощи, так же как и Западу не прожить без русских рынков… Да и черт его знает, где у них кончается купец и начинается дипломат.
– А уж шпионы – все.
– Разумеется.
– А о расплате ты думаешь?
– Даром ничего не делается.
– Разбазарить то, что собирали отцы и деды веками?
– Сохранить то, что возможно…
– Гадко все это…
– Найди другой выход.
– Значит, опять через озеро, по болотам.
– Через озеро и через Иваныча, и лучше всего – не откладывая, завтра.
Воробьев зевнул, расстегнул воротник и упал на кровать, заскрипевшую под его тяжелым телом.
Глава XII
ИВАНЫЧ
Два высоких небритых парня с мешками защитного цвета за спиной протолкались в вагон Финляндской дороги и заняли места у окон. Их рыжие ушанки с пышными помпонами высоко поднялись над серыми платками молочниц. Нагруженные бидонами, мешками, корзинами, женщины ругали занявших так много места мужиков, но, утрамбовавшись на лавках, на полу, на собственных грузах и пригревшись, постепенно успокоились и завели шутливый разговор с молодцами. Молодцы курили, читали газеты, поддразнивали молодок. При случае они складно и энергично ругали буржуев, которые довели страну до разрухи, а заодно и комиссаров, которые хотят вогнать народ в гроб. Наговорившись, дремали, склонив головы друг другу на плечо.
Они вышли на маленькой пустынной станции, поправили мешки и, не спрашивая дорогу, солдатским добрым шагом вошли в лес. К ночи они стучались в окно высокого дома с коньками и резным крыльцом на краю лесной деревни, что задами и огородами сбегала к белому полотнищу замерзшего озера.
За дверью зашелестел, захрипел простуженный голос:
– Кто такие?
– Открой, Иваныч.
Хозяин, должно быть, узнал голоса. Дверь приоткрылась. В безмесячной тьме Иваныч ощупал взором гостей и только тогда впустил в избу. Как пустая коробка, звенел мерзлый сруб, скрипел стругаными лестницами под шагами людей. Иваныч зажег в светелке коптилку, прикрыл окно серым и пыльным рядном. Девчонка в валенках выше колен побежала с маленьким, много битым самоваром. Иваныч усадил гостей за стол, крытый зеленой клеенкой. Был он лохмат и сух. Волосы вились, как редкая поросль на худой земле. Пергаментные руки держал на столе перед собой. Один глаз его зарос бельмом и был недвижим, оттого другой, колючий, ищущий, казался слишком живым и блудливым. Никакой радости приезду гостей он не выразил. Говорил, теребя бороду пальцами, жаловался. Ни рыбачить нельзя, ни торговля не идет. Голытьба шумит. Сама ничего не делает, другим не дает. Которые немцами грозятся, которые комиссарами…
Когда подали чай с медом и маслом, Синьков спросил:
– Не соскучился, Иваныч? Сознайся.
– Чего ж скучать? – ответил, уводя бегающий глаз, старик. – Конечно, людям хорошим рады.
Через комнату, вежливо поклонившись, прошла девушка в городских ботинках, с косой до колен, гладко чесанная на пробор и с серыми глазами. Она напоминала царевну Васнецова, которую увозит Иван-царевич на сером волке.
– Эх, дочь у тебя, – не выдержал Синьков. – И где ты подцепил такую?
Иваныч встал, прошел к дверям и крикнул вслед скрипучим шагам на лестнице:
– Ложись, Агния, и карасин не жги.
– Имя какое, – прошептал Синьков Леониду Викторовичу. – Лес. Озеро. Злой старик. Вот это романтика. Что твоя Маргарита!
– Ну так что ж, завтра можно? – спросил он, когда Иваныч сел на свое место.
Иваныч молчал, потом, переложив руки, ответил:
– Не знаю, как и сказать…
– А что, следят?
– Следят оченно.
– И раньше следили.
Иваныч оставил реплику без ответа.
– Много ходят? – спросил, помолчав, Воробьев.
– Нету делов – не ходят, – тряхнул головой старик.
– Нам лучше. Слушай, друг. Мы пробудем недолго Дней пять-шесть и домой. Будь готов.
Старик сидел как деревянная, одетая в тряпье и разрисованная кукла – даже глаз замер черной булавочной головкой – и вдруг заметил:
– Хорошо, чемоданчики не взяли. Заграничная кожа глаз режет. Мешки способней.
– Тебя напугали, старик, – сказал Воробьев. – Можно подумать – государственную границу переходим.
– А как же?
– Ну ладно. Только вот что. За нами сани пришли, а то и двое.
– Саней не будет, – отрезал Иваныч и опять увел глаз к окну.
– Почему? Как же тогда быть? Не на плечах же.
– В карманах… Не гонитесь за материей. Сахарин, кокаин ноне идут. Сахарин на Сытном по четыре рубля. А кокаин девка берет, которая… та, без цены…
– Со всякой дрянью возиться… – отвернулся Воробьев.
– Как угодно, – сухо заметил старик.
Синьков встал и заходил по комнате, насвистывая.
– Зря свищешь, Аркадий Александрович, – тихо сказал старик.
– А, черт. – Синьков опять сел на стул. – Вот что, Иваныч, что случилось? Почему нельзя сани? Что ты сидишь как китайский бог?
Старик опасливо перекрестился.
– Неможно становится, Аркадий Александрович. Голова дороже денег. Надо переждать…
Синьков взял старика за рукав.
– Петька Гарбуз в охране?
– В охране.
– Ну, так что же? Поссорились?
– Голова дороже денег, Аркадий Александрович. Намеднись двоих пустили налево. Чека наезжала. Начальство сменили. Один бывший офицер есть. Сам ночами по льду ходит.
– Черт. Попался бы мне, – вскинул руки Воробьев.
– В городе мобилизация… Армия объявлена…
– Какая армия?
– Большевицкая… Вы что ж, али не слыхали?
– Так, значит, нельзя? – спросил Синьков.
– Да… можно… – Глаз забегал, как наэлектризованный. – А только долго не засиживайтесь. И процент уже не тот, и царскими больше половины…
– С ума сошел!..
– Зачем же, – переложил руки старик. – Вы уйдете – лови вас, – а мы на месте. Обратно, мы при этом деле и ничего больше не знаем, – он замотал головой. – А у вас оно – вроде пристяжная… Вы свое на другом наверстаете.
– Ничего не понимаю… О чем ты мелешь?
– Все может быть, Аркадий Александрович. Только мы ни в финские, ни в германские дела не желаем. Мы сидим на месте. Коммерческий оборот какой? Покуда можно – пожалста… А только остальное все… Мы никак… – Старик отвел рукою. – Постелют вам тут. Спите позже. А к вечеру поговорим. – Он встал и вышел из комнаты. Девочка взбежала в светелку с матрацами и серыми простынями.
Раздеваясь, Воробьев спросил шепотом:
– Набивает цену, что ли?
– Другое место найдем, – ответил Синьков. – И этот старый черт пустился в политику. Какие-то намеки… Приплел германцев… Чуткий, пес. Но все-таки не угадал… Фунт лучше марки.
Казалось, утро еще ухудшило настроение старика. Его обычное немногословие граничило теперь с молчанием. Но, выйдя из светелки, он гремел отрывистыми приказаниями, а дом молчал, как сераль разгневанного деспота. Агнии не было видно. Офицеры старались шутить, пытались чувствовать себя как в гостинице, но это плохо удавалось. Настроение нижнего этажа проникло в светелку. Приходилось думать, что раздражительность Иваныча вызвана вескими причинами.
В полдень кто-то постучался в дверь внизу. Воробьев выглянул в окно, отогнув край рядна, но уже никого не было. В нижних комнатах шел приглушенный разговор, явно не предназначенный для постороннего уха. Потом опять скрипела дверь, и двое, размахивая руками, прошли к калитке. Меховые шапки скрывали лица. Из-под истертых шинелей выглядывали короткие размятые валенки.
Иваныч поднялся в светелку скрипучим хозяйским шагом, не глядя, подошел к окну, оправил рядно и уронил:
– Отложить бы…
Эта мысль была нестерпима. Все расчеты призывали рисковать. Нужда могла придавить, испакостить жизнь… Во всем этом было так же много прозы, как и в поисках хлеба из-под полы. Вряд ли Маргарите понравилась бы эта светелка и девчонка в валенках с ноги богатыря. Но для Демьяновых эти поездки легко облекались в романтические уборы. Иванычи, купцы и лейтенанты оставались неизвестными. В глазах знакомых, не посвященных во все детали этих похождений, все оправдывал романтический риск…
– Скажи, Иваныч, в чем дело?
– Неспокойно…
– Где, на границе?
– В Выборге, Гельсингфорсе… Красные наступают.
– Вот что. Но поезда идут?
– Вчера свистали.
Синьков и Воробьев разом пожалели, что невнимательно читали газеты. Слышно было, идут какие-то забастовки и стачки… Но где их теперь нет, этих стачек? Затем – какая армия? Что плетет старик?..
– Что-нибудь серьезное?
– Ночью я выходил на озеро… Стрельба. Пушки…
– Я за то, чтобы идти, – внезапно решил Воробьев.
Синьков понял, что Леонида Викторовича манит эта перспектива начавшегося, возможно еще не законченного боя. Сам он предпочел бы запастись более точными сведениями и обсудить этот вопрос обстоятельнее, но просто сказал:
– Хорошо. Пойдем. Там увидим…
Иваныч вышел из светелки и вскоре прохрустел валенками по запорошенному снегом огороду…
Двое спускались на грязноватый прибрежный снег, стараясь ступать меж сугробов. Ветер подкуривал сухой снежок, гнал низкие черно-синие тучи. Берег исчез в какие-нибудь пять – десять минут. Впереди – густо замешенная тьмою даль. Ветер взрывает тяжелые полы бекеш и длинных, до пят, маскирующих на снегу, белых балахонов. Он замирает в складках и потом вдруг шевелится в рукавах, как холодная змея. Все тело вздрагивает. Уши мерзнут, то и дело надо снимать рукавицу, смотреть на компас-браслет и растирать лицо. Закрыть уши нельзя, нужно слушать, как слушает зверь в пустыне.
«Как волки…» – думает Синьков и ощупывает наган за бортом бекеши.
«Война не кончилась… – размышляет про себя Воробьев. – Разведка в тыл, по снегу. И нет проклятой проволоки и мозглых окопов. И какая ненависть…»
Он дышит емкой грудью. Нарочно открывает рот навстречу холодной струе.
Впереди тьма. Ни огня, ни искры.
Глава XIII
О НЕКОТОРЫХ ЛЮДЯХ ВОСЕМНАДЦАТОГО ГОДА
– В каком ухе зазвенело? – озабоченно выглянула Пелагея Макаровна из своей комнатенки.
Алексей стоял перед кухонным зеркалом, засиженным мухами так, что все отражавшееся в нем казалось изображенным пунктиром.
– В среднем, надо полагать…
– Крученый ты весь. Всех вас теперь покорежило. Нет того, чтобы сказать по-людски.
– Разве важное загадали, Пелагея Макаровна?
– То б сказала, а теперь не скажу. Иди, куда шел.
Она сердито застрочила на машинке.
– Иду к брату да там и останусь, раз вы ко мне немилостивы.
– А ты к кому милостив? – перестала шить Пелагея Макаровна. – По ночам с ружьищем шатаешься, людей пугаешь. Одно беспокойство с вами.
– Вот и я говорю, – появилась вдруг из коридора Настасья. – С фронта приехал и опять как на войне. Боюсь я за него, Пелагея Макаровна. Каждую ночь лампаду жгу. По обыскам, по охранам… Как будто бы другого дела нет. На что тебе чужое? И то хоть бы себе, а то кому – неизвестно.
– В политике вы, сестрица, не бухгалтер, – сказал Алексей и шагнул за порог.
На бляшке, украшающей узкую скрипучую дверь, черным по желтому изображено: «Старший дворник». Человек в песочного цвета куртке копается в необъятной книге. Перед ним на скамье Степан. Алексею нравится этот встрепанный парень лет двадцати со всеми признаками революционного темперамента.
– Все забываю прописаться, – протянул бумажку Алексей. – В квартире номер шесть.
– Теперь все больше выписуются, – сказал человек в песочной куртке. – А прописка – один анекдот. – Он безнадежно махнул рукой. – В шестой, это что ж? У Казариновых? Места много. А вы к кому?
– Если нужно, я могу со службы, из Совета, принести ордер. Сестра в услужении была у Казариновых – Настасья Черных.
– Ордерок принесите… на будущее… А только места там хватит, – лукаво ухмыльнулся старший дворник и прибавил: – И места и добра. А вы – что же… человек подходящий. И армейский и в Совете, говорите, работать будете. И, надо быть, еще партейный?
– Конечно…
– У нас бы в домовом комитете приняли участие, – вмешался парень.
– Комитет этот… может, будет, может, нет, – раздумчиво процедил дворник. – А за тобой бы глаз нужен, – покосился он на Степана.
– Да и за вами, Иван Сильвестрович…
– Ну, будя, – недовольно сказал дворник. – Тебе, Степан, дай зацепку, ты потянешь…
– Я на старом месте живу…
– А я на новом, ну и что? – откинулся в креслице дворник. – Семнадцать лет в подвале кости ломало. У тебя окно на солнце, а у меня под ворота… У нас дом строили, – обратился он к Алексею, – как на железной дороге. Все четыре класса. На улицу – первые господа. По десять комнат и окна на солнышко. Во двор есть подешевле. Во флигеле – рабочие живут – коридор такой: каждому кухня да комната. А нас, дворников, прости господи, и не по-людски. Негде бок согреть – где у помойки, где под крышу закинули. Так и едем к господу богу, в царство небесное…
– То ты плачешь, то ты крутишь, – рассердился парень. – И говорю, в Совет пойти, комитет оформить, как в доме номер десять, и всех буржуев по шее. А то я бы и дом этот взорвал к черту, чтоб и не пахло им!
Он вскочил со скамьи и так замахал руками, что Иван Сильвестрович подался со стулом к окну.
«Ну, и ты в политике не так силен», – подумал Алексей и вышел. Насчет этого дома и у него ночами роились планы. Взрывать, конечно, не к чему, но буржуев потеснить давно пора…
Политика была теперь главное в жизни Алексея. Она наполняла всю его жизнь. Командовала каждым его движением.
Политики здесь, в этом городе, было гораздо больше, чем на фронте. Не затухали огни в барском особняке, занятом Советом, не отдыхала большая, как в церкви, дверь массивного дуба с медной ручкой, которой можно было проломить голову слону, и не затихала жизнь в помещении команды.
Усачи-красногвардейцы, помнившие еще 1905 год, фронтовики, гордившиеся своей ролью застрельщиков в дни Февраля волынцы, рабочие, выделенные в район завкомами, коммунисты и беспартийные – были тем инструментом, с помощью которого Совет производил ломку общественных отношений и быта в своем районе.
Сперва стрелком, потом командиром взвода, Алексей кипел вместе со всеми в этом котле. Фронтовой опыт и партийный билет выдвигали его в эти быстрые и решительные дни. Под командой боевика-красногвардейца или кого-нибудь из членов райкома – чаще всего вездесущего Альфреда Бунге – он носился на грузовиках и кашляющих от натуги легковых машинах по неспокойному городу, все больше удивляясь его величине, лабиринту его улиц, квартир, чердаков и подвалов, где жили, ютились, таились сами и прятали свое добро два миллиона людей, не похожих один на другого.
На фронте Алексей делил окружающий мир на офицеров и солдат. Были, правда, офицеры, которые стояли за мир без аннексий и контрибуций и за большевистское братание, и были солдаты, готовые нашить на рукав адамову голову и золотой треугольник. Но таких было немного, их знали в лицо, а в остальном были две волны, пущенные навстречу друг другу.
Здесь же, в городе, шляпа, кепка и безликое штатское пальто прикрыли все отличия рухнувшего режима и тысячи людей одели несвойственные им маски. И здесь были две волны, губительные друг для друга, но город нарушал их прямолинейное движение. Этот первый город царей и первый город революции кружил их в своем незатихающем лабиринте, то сбивая в черные дымящиеся вихри стычек, то успокаивая на время в больших, многоквартирных домах.
Ученый и начитанный прапорщик Борисов, первый сказавший Алексею, что Россию очистит революция, знал, что человек происходит от обезьяны, но не знал, не чувствовал, что за Февралем последует Октябрь. Разве не лучше его, еще на фронте, понял ход событий не закончивший и приходскую школу фейерверкер Алексей Черных? Разве сбили его с толку дивизионные говоруны-эсеры? Разве он растерялся в дни корниловщины? Он приехал в Петроград, гордый этой установившейся прямолинейностью своего пути, но в первый же день заслужил упрек в недисциплинированности от Альфреда Бунге, от человека, проходившего через новизну и сложность этих дней, как нож проходит через петли хитро исполненного узла.
В эти месяцы он понял, что события в стране идут более сложным путем, чем на фронте. Работа Совета – это не кавалерийская скачка с препятствиями, которые надо брать на всем скаку, это война, в которой применяются все виды оружия социальной борьбы, от мягких полумер до прямого насилия, с учетом расстановки сил, места и времени.
Он понял, что не всегда различает лицо врага и рукопожатие друга. Были в этом городе люди, у которых слова не походили на дела. Были люди, у которых два языка – для дня и для ночи, для своих и для чужих. Были люди, которые походили на ящики с двойным дном. Были люди, которые смеялись и над красными и над белыми. Были люди, которые молились Христу и точили нож на шею ближнего. И еще понял Алексей, что с разными врагами приходится вести разные разговоры.
Это было то, что он понял, но принял не сразу. Сердце его, раскрытое революцией для энергичных порывов, для сильных желаний и прямых ударов, еще не умело переключаться на ритм разумной осторожности и расчета.
На его глазах разрушалась священная власть офицеров. Солдатская рука впервые остановила бег войны. Пал царь. Пали помещики.
Казалось, все было возможно. Казалось, всякий, кто подсказывает осторожность, – или предатель, или трус. И большевики громко и смело клеймили робких и двуличных. За это он полюбил их раньше, чем узнал и понял программу партии.
Почему же в этом городе нельзя расправиться со всем, что осталось от прежнего строя? Почему сидят в своих гнездах не убежавшие еще аристократы? Почему, если можно было одним ударом отнять земли у помещиков, нельзя разделаться с городскими богачами? Всей деревней, с кольями, с винтовками шли на усадьбу. Почему же городская милиция охраняет дома и квартиры богачей?
Ему объясняли.
Богатые городá с их фабриками, заводами, храмами науки не должны достаться победившему пролетариату в развалинах. Они должны служить новому обществу, но по-иному, лучше, чем служили старому. Бунтовщик разрушает. Разрушив, успокаивается и подставляет шею под новое ярмо. Революционер, разрушая, думает о созидании. Он сберегает все, что необходимо, все, что может еще послужить свободному человеку. Он рассчитывает, планирует. Он смел и осторожен в одно и то же время.
Крестьянская хозяйственность приходила на помощь рабочей деловитости. Алексей наблюдал. Он слушал, как говорят на эту тему вчерашние рабочие, сегодняшние руководители Советов и партийных организаций.
В один из первых дней службы в Совете, придя вместе с Бунге на заседание в кабинет брата Федора, он увидел в первых рядах стульев троих человек, которые по облику и по покрою одежды не походили ни на новых, ни на старых хозяев особняка. Бородачи, для которых усы и борода не просто волосы, но символ и иерархическая ступень. Налитые, могучие плечи двоих и худоба третьего, разная одежда и разный цвет глаз – все это не мешало признать в них людей мошны, вызванных райисполкомом скорее всего на суд и расправу. С бородачами говорил сам Федор. К удивлению Алексея, разговор не походил ни на суд, ни на расправу.
– Так вот, граждане. Договориться надо, – убеждал бородачей председатель. – Ваши и наши интересы в этом пункте совпадают.
Легкий смешок засел в самых углах губ Федора, а глаза были серьезные. В пальцах он перебрасывал толстый фаберовский карандаш.
– Правильно изволите заметить, – медленно тянул худощавый, должно быть вожак тройки. – Но как теперь расстройство транспорта и подвозу нет, то и пару не будет. А в холодной бане какое ж мытье?
– Мыться людям нужно, а запасы дров у вас есть. Так вот…
– Еще в декабре запасы сожгли, – буркнул бородач-тяжеловес. Худой метнул в него взор ядовитый и пронзительный.
– Это, может, у господина Вахрушева имелись запасы, – поспешил он отгородиться от товарища.
Толстяк задвигал плечами.
– А чем же январь топили? – быстро вмешался Федор.
– Покупали… себе в убыток… – плакал толстяк.
– Можно обследовать, – развел руками худой. – Уже смотрели.
– Это при банях, а в прочих местах? – выстрелил председатель.
– Какие же прочие места?
– Союз банщиков укажет.
Теперь задвигались все трое.
– Через неделю дрова вам подвезем, – сказал Федор.
– Найдете ли?
– Фабричные возьмем. Не ваша забота. А до того топить все бани через день. Под личную ответственность. У кого окажутся запасы и баня будет закрыта, передадим в Чека. Мы не дадим вам завшивить город…
Проходили все трое мимо. Алексей готов был схватить любого за ворот. Лучше всего худого… Тонконогий комар. Самый вредный.
– Возжаются очень, – сказал он Бунге.
– Полагаешь? – буркнул латыш в воротник.
– Худой этот. Злоба в штанах…
– Хм! Разбираешься… Что бы ты сделал?
Но заседание продолжалось.
– Предлагаю поставить вопрос о подготовке перехода районных частновладельческих бань в ведение райсовета, – громко сказал Федор.
– Разве сразу нельзя? – спросил Алексей.
– Не все фабрики взяты у хозяев, не то что бани. Понял?
Пробегавший мимо юркий человек, в мягкой шляпе, с повязкой на одном глазу, остановился:
– По Марксу – мелкое, недоразвитое капиталистическое хозяйство не поддается социалистической экспроприации. Вот еще как у рабочих дрова отвоюете?
– С вашей помощью, господин Воинов, – спокойно сказал Бунге, козырнув двумя пальцами. – Консультант, меньшевик, – объяснил он Алексею.
– Опять громят погреба, – продолжал между тем председатель. – На Пушкинской двоих ранили. Окна в домах перебиты. Есть данные, что там не без содействия эсеров и анархистов. Ничем не гнушаются… Верно, что это дело поручено вам, товарищ Бунге, с полномочием, в случае необходимости, применять силу?
Альфред чуть заметно кивнул головой.
– Что не заходишь? – бросил Федор на ходу. – Не я, так Ксения дома. Дорога известна.
– Зайду. Под выходной, пожалуй, – ответил Алексей.
Позже он узнал, что Федор ездил на большой завод, расположенный в районе. Дрова получены были не без боя. Рабочим был обещан вход в бани вне очереди.
Банщики запомнились Алексею, как запоминаются первые задачи на сложение – на пальцах, на яблоках. За банщиками потянулся ряд сложных вопросов, которые огромный город не позволял решать ударом сплеча.
Бунге, казалось Алексею, все знал, все понимал. Как аэроплан в облаках, он шел, не сбиваясь с пути, верный своему курсу. Алексей видел кругом немало речистых, сильных и властных людей, которых выдвинул рабочий класс и которым сам Алексей соглашался подражать, но Бунге в его глазах все больше становился похожим на ротного командира на походе, чей шаг верен для всех рядов и чей голос единственно вправе повернуть и даже остановить ход колонны.
Бунге сам ничего не рассказывал о себе, но о Бунге говорили много. Сын рижского рабочего с «Проводника», он потерял отца в дни расправы, вихрем пожаров и карательных экспедиций прошедшей после пятого года от Риги до Ревеля. Подросток остался у дяди – тупого и нехозяйственного крестьянина, стремившегося превратить племянника в бесплатного батрака. Мальчик, уже начавший учиться, во что бы то ни стало хотел вернуться в школу. Дядя сказал, что скорее пропьет с соседом эти деньги, чем даст их на никому не нужное дело. Альфред покинул деревню и вернулся в город. Он поселился на базаре, который кольцом рундучков и дощатых лавчонок обошел православный собор. Днем он за медяки носил покупки задыхавшимся толстым хозяйкам. Ночью спал в деревянном ящике торговца железным старьем. Осенью в ящике было так же мокро, как и на площади, а зимой Альфреду перехватило горло, и разговор его перестал отличаться от кашля. В деревню к дяде его не вернул бы и страх смерти, а больше во всем мире не было угла, где бы его знали по имени. Из ящика, куда он натаскал кучу тряпья и соломы, подобранной на Сенном базаре, хозяин выгнал его и стал запирать пустой ящик. Альфред перенес свое тряпье под лестницу церковной колокольни, где его не замечал полуслепой звонарь, единственный посетитель в зимнюю пору этого одинокого православного сооружения в протестантском городке. Здесь, у ограды собора, встретил его старый социал-демократ, посещавший Бунге-отца, – Чернявский. В существе, больше всего напоминавшем прибитого к земле холодом и голодом щенка, Чернявский не узнал бы сына погибшего боевого товарища, но Альфред назвал его по имени-отчеству, относившемуся к одному из давно утраченных паспортов, и Чернявский остановился.
Прекрасный подпольный работник и отвратительный портной, Чернявский перешивал на подростков дедовские шаровары, ставил, не считаясь с расцветкой, заплаты третьей степени на места, на которых горит не только лодзинский, но и рижский материал, чинил штаны за счет жилетов и юбок, делая все это, чтобы не обременять партийную кассу. Он вынужден был брать дешевле всех конкурентов, чтобы не потерять практику, и, приобретя клиентуру, в самый неподходящий момент снимался с места и переезжал в другой конец Прибалтийского края. После письма, переданного с оказией, или подозрительного посещения околоточного начальства все начиналось сначала…
Альфред был возвращен в городское училище. Он учился прилежно и не тосковал по товарищам, меняя школы и города вслед за добровольным опекуном. Окончив городское училище, он расстался с учением на этот раз без всякой драмы. Он шел за Чернявским, как заблудившийся в лесу мальчик идет за указавшим дорогу прохожим. Чернявскому не пришлось ни в чем переубеждать Альфреда. Они походили на два соединенных сосуда, большой и малый, и опыт жизни, знания и убеждения, как влага, в свой час переливались из одного в другой.
– Если мой котелок варит, то твой хорошо переваривает, – смеялся иногда Чернявский.
Под руководством Чернявского начал свою революционную деятельность Альфред.
Он нисколько не удивился, когда узнал, какую полную энергии и опасности жизнь вел скромный «портной».








