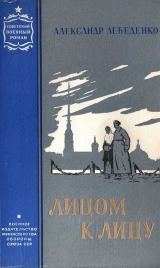
Текст книги "Лицом к лицу"
Автор книги: Александр Лебеденко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 38 страниц)
Ульрих был принят в сводную офицерскую роту, входившую в отряд полковника Георга. Здесь он встретил таких же озлобленных, монархически настроенных офицеров, которые считали себя мстителями и добровольно просились в карательные отряды. За бокалом вина в ревельских барах они вслух мечтали об аллеях виселиц от Ямбурга до Лигова, о Варфоломеевской ночи в Петрограде, о походе на Москву, навстречу Деникину, и, не стесняясь, издевались над эстонской «картофельной республикой», в столице которой они сколачивали Северо-Западную армию, армию без тыла.
Ульрих пил много, как никогда раньше, быстро хмелел и, ослабевший, валялся в номере гостиницы, где он ютился втроем с товарищами по роте.
13 мая во главе разведчиков он участвовал в первом ударе, который внезапно наносил красным корпус Родзянки. Его отряд сбил заставу 167-го стрелкового полка красных и овладел переправой через реку Плюсу. Отряды Палена и Балаховича сбили не ожидавшие нападения заставы 53-го и 163-го полков.
Фронт на Нарове был прорван.
Все дальнейшие события подтверждали прогноз Бугоровского и штаба Родзянки. Руководимое зиновьевскими и троцкистскими ставленниками командование красных позволило офицерским отрядам разбить по частям оборону междуречья. Овладев междуречьем, этой природной крепостью, высаживая под прикрытием английской эскадры десанты в тылу красных, поддержанные на левом фланге войсками эстонского диктатора генерала Лайдонера, белые устремились к фортам Кронштадта и к Пскову.
Разведка приносила сведения о том, что Зиновьев, внося панику в ряды защитников Петрограда, отдал приказ эвакуировать город, колыбель революции…
Леонид Иванович Живаго еще с юношеских лет любил белые ночи. Особенно хороши они на набережных Невы. Затихшая стальная вода сливается с прозрачной глубиной неба. Гигантские дуги мостов, нанизанные на бечеву берегов ряды дворцов и невысоких особняков дремлют в голубовато-розовой северной дымке. Зеркальные окна глядят таинственно, не загораясь будничными огнями, словно хозяева богатых жилищ покоряются призрачности этих часов и не хотят ни читать, ни предаваться делу наживы, ни даже говорить. Покоренные красотой северного города, отвоеванного у суровой природы, они склоняются перед нею, и она им мстит, этим завоевателям, завораживая эти улицы, проспекты, каналы, погружая их в дремоту света, – не день и не ночь, не жизнь и не смерть, какое-то чувствующее небытие.
Сколько воспоминаний связано с этим городом, с этой рекой! Теперь он стал для него лабиринтом, полным опасностей. За каждым углом таится враг. В глазах иностранных «друзей» каждую минуту следует читать позорную снисходительность или замаскированную лукавую вражду. Эти квартиры – шахматная доска с грозными фигурами, не склонными к пощаде или шутке так же, как и он сам не собирается шутить. Он и его друзья. При мысли о них кривая усмешка искажает лицо. «От врагов мы, может быть, и избавимся, – подумал он. – Но какое небо избавит нас потом от друзей?»
Но сейчас без них нельзя ни шагу. Кто думает о слишком далеком будущем, тот рискует ничего не сделать сейчас.
Жизнь его долго шла крутым и бодрым подъемом. Потому слишком обидно чувствовать сейчас себя мелким винтиком, зависящим от упорно движущихся маховых колес и шестеренок. Медленно шагая по гранитам набережной, он вспоминал свой очередной разговор с этим фруктом из Кливленда. Это жирное ничтожество все чаще говорит с ним так, как говорят хозяева с батраками.
Леонид Иванович остановился у спуска к реке. Как низко припали к земле крепостные стены на том берегу. Легкий шпиль Петропавловки как будто колеблется в светлеющей дымке северной части горизонта. Не хочется идти в посольство. От одних хозяев к другим. Впрочем, в эти дни, когда гремят орудия белых на подступах к Кронштадту, не приходится размышлять. Но даже и в эти решающие дни кливлендский бык требует от него картин, фарфора, редких книг, в которых он не смыслит ни аза, хороших акций. Эти заокеанские друзья еще хуже англичан, требующих в первую очередь агентурных сведений и вербовки новых кадров для восстания в тылу у большевиков.
На пустынную набережную из Мошкова переулка вышел патруль. Живаго инстинктивно потрогал боковой карман, где было удостоверение личности, выданное посольством, и пошел навстречу трем военным с винтовками. Далекие выстрелы и разрывы тяжелых орудий говорили о значительности этой ночи, затаившей в себе события, разделившие людей этого города на два непримиримых лагеря.
– В посольство идете? – спросил начальник патруля. – Ну идите, идите, – и он отдал документ Живаго.
Какая-то нарочитость в этих простых словах насторожила Леонида Ивановича. От зашагал быстрее. В глубине Мошкова ему бросилась в глаза фигура часового, словно здесь был склад или цейхгауз. Вот и Троицкий мост. Инстинктивно он пошел прямо к памятнику Суворову. У низких дверей обширного здания двигались какие-то тени.
«Неужели посмели?» – подумал Живаго. Зубы его непроизвольно застучали в нервной спазме. Теперь он видел, что и у входа на Миллионную стояли часовые. Марсово было пустынно. Он вошел в четырехугольник гранитов памятника жертвам Революции. Из заднего кармана он вынул толстый пакет и хотел было зарыть его в рыхлой земле цветника, остановился, подумал и, оглядев поле у истоков Садовой, быстро зашагал дальше. На углу Инженерной он предъявил документы другого иностранного консульства. Почти тут же его задержал большой отряд, в котором военные были смешаны с рабочими и даже вооруженными женщинами. Им он показал удостоверение, выданное инструктору клубного отдела Политуправления Петроградского военного округа.
– Вы что же, артист? – спросил его матрос-подводник.
– Я фотограф, – ответил Живаго. – У нас кружки любителей фотографии.
– Ну-ну, дело неплохое, – согласился матрос.
У ворот консульства спокойно сидел на табурете человек с усами необычайной длины, бывший чиновник удельного ведомства.
– Как у нас, в порядке? – спросил Живаго.
– А разве что?.. – обеспокоился сторож.
– По другим ищут…
– К нам не пойдут – тут друзья… Хотите поспать? Я до утра.
«Друзья! – думал Живаго, подымаясь по черной лестнице. – Сейчас схватили за ногу, возьмут и за глотку». Он постоял, не входя в комнату швейцара, повернулся и вновь вышел на улицу.
«Если посмели там, посмеют и здесь», – решил он про себя.
– Я лучше к Георгию, – сказал он сторожу. – В такую ночь там спокойнее.
Георгий – это была личность, знакомая всему Петрограду. Бывший гвардейский офицер, правда военного времени, сын и племянник крупных бакинских нефтяников какими-то особыми поворотами судьбы оказался членом партии большевиков, комендантом одного из центральных районов города. Высокий, стройный, легкий, словно созданный для формы черного или царскосельского гусара, он держался со всеми людьми веселым простофилей, душой-парнем, отзывчивым, гостеприимным, необидчивым, бабником, забулдыгой. Он располагал в районе тремя огромными квартирами в лучших домах, набитыми стильной мебелью, картинами, гигантскими коврами, фарфором и прочим добром. Говорили, что одна из этих квартир принадлежала его отцу, другая дяде и третья, поменьше, ему самому. Самая большая посещалась всеми застрявшими в городе и вечно сновавшими между севером и югом южанами с ловкостью, заставлявшей предполагать у них наличие шапок-невидимок.
Все эти обстоятельства казались если не таинственными, то подозрительными, но при столкновении с Георгием всякий начисто отказывался заподозрить в этом простодушном парне человека ловкого и себе на уме. Он был вхож во все учреждения и институты города, вплоть до Смольного. Появлялся без дела, ни у кого ничего не просил и всем готов был услужить.
Когда Живаго в три часа ночи постучал в квартиру Георгия, ему сейчас же открыла дверь старуха армянка. Георгий где-то «на операции», а товарищ может зайти. Там только свои. Он может лечь спать в кабинете. Из большой столовой доносились голоса. Гортанный, чужой язык. Попадались знакомые слова: Смольный. Америка…
Живаго прошел в кабинет – нарядную комнату в виде большого толстого Г – и лег на огромный угловой диван, над которым склонилась высокая, почти до потолка, лампа. Под ее абажуром могли спрятаться четыре человека. Леонид Иванович накрыл лицо шитой бисером подушечкой и подумал, как выгодно иногда замечтаться в белую ночь…
Ксения шла с отрядом Выборгского райкома. Эта белая ночь напоминала ей чем-то довоенные пасхальные ночи, когда старушки шли к Сампсонию с куличами и яйцами в белых платочках, со свечами, которые следовало зажечь после полуночи. Маленькой девочке казалось, что ночные улицы с толпами пешеходов, заполнившими тротуары и мостовую, похожи на рисунок из сказки и затаили в себе возможность необычного, предчувствие чуда. Став взрослой, она вспоминала об этих ночах как о наивной, детской игре в таинственное, которой бабушки, тетки, соседки отдавались со всей силой неугасаемо жившей в них надежды.
Ксения знала, что есть приказ об обыске в буржуазных кварталах города, для чего мобилизованы все коммунисты и комсомольцы, не ушедшие на фронт, что всем идущим на обыск предложено взять с собой оружие, что на мостах стоит охрана, проверяющая документы, что над Финским заливом идет артиллерийская дуэль между фортами и кораблями Балтфлота. Но какая именно роль предстоит ей и ее отряду, она не знала, как не знала и подробностей положения на фронте. Степан летал теперь почти ежедневно в разведку к финским берегам, к Биорке, где крейсировала английская эскадра. Отсутствовали и братья Ветровы. В райкоме весь день царило оживление. Отец запер свой кабинет на ключ, взял винтовку и пошел во главе отряда с особым заданием.
У величественной арки сената отряд Ксении встретил коменданта района. Он был на велосипеде с зажженным фонарем, хотя на улице было почти светло. Его попытки быть серьезным могли развеселить камни, а остроты возмутить глупостью самого равнодушного человека. Он наклонялся к самому лицу Ксении, сверкая белыми хищными зубами, и при этом звонил зачем-то резким, мелко дребезжащим велосипедным звонком.
– Чего он дурака валяет? – громко спросил молодой рабочий с «Розенкранца».
Но это нисколько не смутило Георгия. Он шел во главе отряда, положив руку на седло велосипеда.
Придя на указанное комендантом место, отрядники окружили пикетами целый квартал и дом за домом обходили с обыском. Сперва неумело, смущаясь, теряясь в выборе квартир и плане поисков, потом все увереннее и успешнее, они на ходу вырабатывали однообразный подход к делу. В каждом доме были коммунисты, их семьи, сочувствующие. В дворницкой с их помощью намечались наиболее подозрительные квартиры, где обыск проводили планомерно и настойчиво. Не прошло и двух часов, как Ксения и ее товарищи убедились на деле, как необходим был этот обыск аристократических и буржуазных кварталов.
Револьверы, винтовки, патроны, даже гранаты были припрятаны иногда неловко, наивно, иногда хитро и находчиво, но самая манера упрятывания и маскировки показывала, что это было не случайное, завалявшееся, попавшее в квартиру в годы войны оружие, но сознательно приобретенное и спрятанное до нужного дня с нарочитой целью и заранее обдуманным умыслом.
В одном из дровяных сараев большого углового дома, под грудой мусора, под рогожами, какие служат для обивки дверей, найден был пулемет в полной исправности, даже со свежей смазкой. Нашлись и патроны к нему. Они были найдены в ящике под старыми книгами на бельевом чердаке, принадлежавшем трем квартирам. Невозможно было определить, кто именно хотел превратить этот дом в очаг мятежа и смерти, но ядовитый зуб квартала был вырван.
В небольшой квартирке обитала одинокая пожилая женщина, вдова убитого при штурме Ново-Георгиевска офицера. Она работала сестрой милосердия в большой больнице. В нижнем ящике безобидного комода, на крышке которого шествовали по кружеву семь слоников счастья, стремившихся к голубой бездне зеркала в серебряной раме, были найдены двадцать два револьвера и пистолета разных систем с патронами. На вопрос – откуда такое обилие? – сестра сказала, что муж ее коллекционировал оружие. Но на вопрос, почему она не сдала его, несмотря на строгий приказ и неоднократные предупреждения, ей нечего было ответить. Она замкнулась в озлобленном молчании, и, когда ее уводили, глаза этой «милосердной» женщины красноречиво говорили, что она хорошо знает, кто, когда и зачем собрал эти «безделушки» в невинном вдовьем комоде.
Когда подошла очередь роскошного дома Бугоровского, Ксения сказала:
– Ну, здесь я могу быть проводником.
Тщательно была обыскана комната Изаксона. Здесь не было оружия, но была изъята обширная переписка, блокноты с адресами, телефонами, письма в конвертах заграничного происхождения, подозрительные брошюры на разных языках.
В квартире Демьяновых обыск встретили горделивым презрением.
– Пожалуйста, ищите, – промолвила свысока Анастасия Григорьевна. – Здесь женщина и дети…
Каково же было ее изумление, когда ее пригласили посмотреть на не скрывшуюся от зоркого глаза Ксении тайную комнату-кладовую Петра. Фотографии бесстыдно красовались на стенах, на ящике стеклографа лежала свежая стопка каких-то размножаемых Петром стихов, здесь же был найден старинный, заржавленный смит-и-вессон с патронами, финский нож и фехтовальная рапира.
– Это что же? – спросила Анастасия Григорьевна.
И по лицу ее можно было понять, что видит все это она впервые.
– Мама, – пренебрежительно сказала Маргарита. – Петру нет еще восемнадцати. Это мальчишеские шалости.
– И это шалости? – спросил пожилой рабочий, поднимая револьвер.
– Я не понимаю, что это такое, – одновременно пренебрежительно и испуганно сказала Анастасия Григорьевна.
– Ладно. Акт мы составим, а там разберутся.
Во дворе стройным рядком за номерами прислонились к высокому брандмауеру дровяные сарайчики, крытые черепицей. Виктор Степанович не терпел центрального отопления.
– Это смерть для стильной мебели, – говорил он квартирантам, – это хорошо для квартир с рыночным убранством.
В раскрытом настежь крайнем сарайчике, среди щепы и опилок, было найдено много пустых обойм и металлических ящиков, в которых, видимо, еще недавно хранились патроны. Кто-то успел, может быть, только накануне, в дни, когда уже на Нарове и Плюсе гремели орудия, унести их в другое место. ЧК предстояло определить дальнейший путь боевых запасов этого маленького цейхгауза.
У одной из квартир большого дома со многими дворами комендант района остановился, поиграл французским ключом и дурашливо, как и все, что он говорил и делал, предложил:
– А вот и мой вигвам. Здесь живет и работает ваш покорный слуга в компании с работником Чека Базаньянцем. Закуски не обещаю, но бутылочку выдержанного вина – гордости Армении – могу предложить.
– Нет, нет, – строго сказала Ксения. – Не дурите, товарищ. Пошли дальше.
Так ускользнул от обыска и опроса Леонид Иванович Живаго – у него в заднем кармане брюк были списки, адреса и телефоны, которые должны были стать частью плана заговорщиков на ближайшие дни. Он заснул главарем разветвленного заговора, проснулся атаманом без шайки и оружия. Это стало ему ясно в первые же часы нового дня. Исчез даже мистер Тенси. Участие его в событиях этих дней было исключено. Но паук настойчиво начал ткать новую паутину. Не было Тенси – оставался битюг из Кливленда, продолжавший спокойно закупать четвертую тысячу Рембрандтов для просвещенных меценатов Чикаго и Нью-Йорка. Новые ниточки потянулись от консульства дружественной державы. Ядовитая головка осталась, членики паразита продолжали нарастать.
Усталые, измученные, но довольные успехом, участники обыска собрались в райкоме.
– Молодец, дочка! – сказал Федор Черных. – А мой трофей ты видела? Пушку нашли в румынском посольстве. В каретном сарае.
– Ну, а посольских? Отпустили?
– Отвели в более спокойное место.
– Имейте в виду, – сказал Федор собравшимся в его кабинете товарищам, – по предварительным данным, мы в эту ночь, проведя массовые обыски по мудрому приказу партии, изъяли оружие в количестве, почти равном вооружению корпуса Родзянки, и арестовали многих, если не всех, главарей подготовляемого мятежа. Какой страшный удар нанесен врагу! Спутаны его планы. Сколько рабочих жизней спасено! Наши бойцы на фронте могут не опасаться теперь удара в спину.
Глава XIII
УЛЬТИМАТУМ
– Штаб полка свернулся. А в окопах перед нами, почитай, никого нет.
Разведчик Форсунов приставил к стене карабин и вытер пот рукавом. Его широкое в скулах рябое лицо обнаруживало неподдельную тревогу.
– Чего треплешься? – сердито спросил Алексей.
– Не треплемся, товарищ комиссар. У них пулеметная команда. И, говорят, слева никого нет…
– Ты кого видел? – спросил Алексей и, не дождавшись ответа, приказал: – Катай на передки: запрягать!
– Давно запряжены, – объявил Синьков. – Вот что, военком, я думаю, на походе придется держать позади цепь разведчиков с пулеметом. Если тридцать шестой оторвался, то тыл и фланг у нас открыт. Это ясно.
– Я в штаб, – поднялся комиссар.
– Где ты его найдешь?
– На шоссе где-нибудь…
– Смотри не влипни.
Это было чрезвычайно рискованно – оставить батарею в такой момент, но у Алексея в кармане лежала полевая записка, призывавшая его в Особый отдел штаба группы, которая вместе с письмами от Ветровых, Альфреда, Порослева и Веры, согласным хором требовавших от него осторожности, сбивала его с толку, и ему казалось, что, не повидав товарищей из штаба, он будет дезориентирован, лишен уверенности во всех своих действиях и подвергнет часть еще большему риску.
Во всех письмах говорилось о Синькове. Это ему предлагалось не доверять, за ним следить. Это он вдруг стал угрозой, заставившей всех петроградских друзей Алексея написать ему одновременно. Оставалось предположить, что петроградская ЧК раскрыла в деятельности Синькова или, может быть, в его прошлом такие вещи, какие несовместимы со званием командира красноармейской части. Разумеется, и вызов в штаб связан не только с осложнившейся обстановкой, но и с вопросом о Синькове. В Особом отделе он получил бы разгадку этих предостережений. Неясное предупреждение друзей вылилось бы в точную директиву командования.
Когда впервые он увидел Синькова и Воробьева инструкторами Красной Армии, он готов был кричать, как человек, заметивший забравшихся в жилой дом воров. Понадобились многие увещевания Альфреда и Порослева, которые доказали ему, что специалисты нужны сейчас Красной Армии, что в массе они оправдывают доверие революционного командования. Тогда неприязнь перешла в ледяное, напряженное, выжидательное отношение. Понадобились необычайные служебные и боевые успехи Синькова, чтобы лед этот начал таять. Он уходил, как уходят снежные покровы полей и рек медленной, недружной весной. Отдавая должное заслугам Синькова, Алексей глушил в себе чувство ревности. Но разве мог он сказать, что оно ушло бесследно? На походах Синьков все чаще заговаривал с ним как человек, присматривающийся к обстановке. Какие-то сомнения расшатывали его офицерско-дворянское упорство. Алексей уже не в первый раз наблюдал действие эпохи на самые твердые души. Он был доволен победой близких ему людей над таким неподатливым врагом. Он был рад победе над собственными, как ему начинало казаться, предубеждениями.
Что бы ни заставило петроградских товарищей насторожиться – они не могли знать о последних переменах в настроениях Синькова. Он втянулся в боевую жизнь, и если даже он пришел на фронт с недобрыми намерениями, то, может быть, теперь готов серьезно пересмотреть свои взгляды.
Во что бы то ни стало следовало побывать в штабе!
Отдельно от писем друзей воспринималось письмо Веры. Оно полно было женской тревожной заботы. Требование об осторожности не выходило за круг естественных мыслей жены и подруги. Но она просила его отнестись серьезно к письмам Альфреда и Ветровых – следовательно, она знала об этих письмах. И было в этом письме нечто новое, что накладывало на все события свой неизгладимый отпечаток, как сумерки накидывают на горы и реки свою сизую вуаль. Это письмо спутывало для Алексея все его, казалось бы, ясные мысли.
Вера писала:
«…Да убережет тебя судьба от человеческой злобы! И подумай только, как тяжело было бы мне узнать, что тебе нанесен вред из-за меня. Я не хотела тебе этого говорить, потому что для меня самой – все это прошлое, забытое и ненужное, то лишнее, что хотелось бы вытолкнуть и из воспоминаний. Аркадий… Я не знаю, как говорить с тобою об этом. Я всегда его не любила, но он заставил себя возненавидеть. Я боюсь, что он может оказаться злым и мстительным. Я была бы счастлива, если бы вы не были вместе…»
Стоило вспомнить эти строки, прочтенные в седле, и со всей силой поднимались в сердце Алексея прежние мысли. Они захватывали и соблазняли своей определенностью и жаром. В их свете многое становилось понятно. Но странно, эти размышления неизменно отводили совсем в другую сторону. Значит, вся неприязнь, какую он замечал со стороны Синькова еще на Крюковом канале, была вызвана не столько политической обстановкой, как он думал, сколько ревностью.
Личные мотивы во все времена только усиливали, обостряли политические и деловые страсти, но в эту эпоху щеголяли пренебрежением ко всему личному, и в Алексее был силен дух этого превознесения общественного над личным. Он витал над райкомами, над лекционными залами, над казармами и библиотеками. Не снижая остроты личных настроений, он опять толкал Алексея к мысли о совершающейся перестройке Синькова, о ценности этого человека как командира.
К тому же кому мог он при этих условиях доверить проверку донесения разведчика, слишком серьезного, чтобы отвергать его целиком, слишком опасного, чтоб можно было сразу принять его на веру?
– Ты понимаешь, – отозвал его в сторону Синьков, – если это верно, то путь на восток для нас закрыт. Оттуда надо ждать всяких неприятностей, а на север – это означает фланговый марш около ста километров по единственному годному для артиллерии пути, среди болот.
– Я вернусь быстро или пришлю разведчика, – буркнул Алексей, глядя в сторону, – а вы двигайтесь на север не спеша.
Синьков заметил тревогу комиссара, он был еще слишком молод, чтобы отказать себе в удовольствии, в противовес этой тревоге, подчеркнуть свою выдержку и самообладание.
Алексей ускакал, предупредив Каспарова о необходимости величайшей осторожности.
Батареи вытягивались на шоссе. Крестьяне стояли у канавы редким рядом, смотрели вслед отъезжавшим ящикам и фурманкам. Кони выносили гаубицы через дренаж по набросанным жердям и переходили в тяжелый размеренный шаг. Шоссе приобретало голоса. Скрип телег, стук кованых колес, человечья перебранка. Впереди и позади батареи шли отдельные двуколки каких-то связистов и обозные телеги с красноармейцами или с мобилизованными крестьянами на облучке.
Уже обоз выбрался на шоссе, а Синьков все еще рассматривал карту вместе с командирами батарей. Красными крестами шел фронт, отмеченный по вчерашней сводке. Кресты пересекали шоссе у деревни Тригор, мягко сворачивали к северу и дальше шли в десяти – двадцати километрах к западу от шоссе, которое пересекало здесь большое болото, белой пустошью светлевшее на карте.
– Девяносто километров нам нужно проскочить, как в шапке-невидимке, – сказал, вставая и укладывая карту в сумку, Синьков. – Это номер! А если фронт уже сдвинулся, тогда извините…
– Послать сперва разведку? – предложил Сверчков.
– А самим ждать? Чего же можно дождаться?
– А свернуть с шоссе нельзя? – спросил Воробьев.
– В болото? – Синьков криво улыбнулся.
– На что же ты рассчитываешь, Аркадий? – спросил Воробьев.
Синьков широко шагал по халупе, укладывая в карманы и в сумку последние вещи.
– Идя по шоссе, мы обязательно наткнемся на наши пехотные части. Они все устремятся к шоссе. И за ними мы нырнем в тыл.
«Неизвестно только в чей», – подумал Воробьев и мысленно одобрил план Аркадия.
Шоссе режет деревушку на две неравные части и опять уходит в белеющий березками, темнеющий соснами и осинами лес. От болота тянет густой, жаркой струей прели.
Батарея тарахтит по избитому еще в годы войны шоссе. Позади и на западе, где должен быть фронт, лесное молчание. Оттого у всех тревога. Где он, этот фронт, если его больше не обозначает ружейная и пулеметная стрельба? Он может оказаться на любом участке шоссе. Может быть, где-нибудь впереди офицерский пулемет, спрятанный в канаве, уже подстерегает дивизион. Тогда – гроб. С гаубицами не нырнешь в зыбкий заболоченный лес.
Командир, против обыкновения, едет позади обоза, отдавая на ходу все новые приказания. Должно быть, схожие мысли бродят в голове командира и красноармейцев. Ездовые каждоминутно подстегивают лошадей.
– Федоров, возьми двоих разведчиков и поезжай впереди батареи. Держитесь в четырех-пяти километрах. В случае чего – гони назад. Смотреть зорко!
– Есть, товарищ командир! – кружит на месте Федоров. – Айдате, ребята!
Разведчики рысью уходят вперед.
– Правильное дело, – говорит ездовой телефонной двуколки, коммунист, бородач Иван Климов.
«Правильно», – думает Каспаров, шагая у первого орудия.
– Александр Павлович, проедьте по батареям, – предлагает Синьков Климчуку. – Опросите, у всех ли огнестрельное оружие в порядке. Номера, чего доброго, и стрелять-то не умеют. А мы пехотные учения не проводили. Прозевали…
«Правильно, – опять думает Каспаров. – Но только не всем нужно бы давать это оружие. И мы прозевали».
Телефонист Панов на ходу тянет за рукав Холмушина.
Холмушин, мелкий и юркий, шел, размышляя про сапоги. Шагать девяносто километров, а подметка уже сейчас не держится. У каптера в мешке пар двадцать английских крепких ботинок. Беспартийному уже дали бы новые, а партийцу и просить неловко.
– Ты что? – спросил он, оборачиваясь к Панову. И так напористы были мысли о сапогах, что не заметил напряженного взгляда товарища. – У тебя еще совсем хорошие.
– Чего? – осекся Панов.
– Сапоги, говорю, хорошие. А вот, гляди…
Грязная портянка подметала пыль.
– Тут и в сапогах, понимаешь… уйдем ли? Командир разведчиков услал вперед, и Алешка, комиссар, ускакал.
– Занозисто, – перестал думать о сапогах Холмушин.
– А енти, Савченко и Коротковы… в нужник вчера ходили разом, час сидели. Несварение, говорят. И теперь по батарее бегают, шушукаются.
– Крутют.
– Кабы чего не выкрутили.
– Коротковых деревня близко. Останемся, говорят, а вам, дорогие товарищи, досвиданьечко. Повуевали и хватит. Леволюционный солдат за свое, говорят, должен воевать, а не за чужое.
– Вот сука! Его ж белые повесят.
– До того не дошел. Темнота!
Холмушин больше не думает о сапогах. Он думает о белых, о нависшей над ним угрозе, еще о том, зачем это он вступил в коллектив. Ему одиноко и не с кем поделиться мыслями.
Савченко забрался на каптерский воз и балагурит.
– Мировая революция как настанет, всех командиров по шапке. Какой такой ты есть командёр? Головой в болото!
– А ежели красный командир? – поддразнивал Груздев.
– Охрой зады вымажем, для отличия.
– А белым?
– А белых на березки…
– Ты один командиром останешься…
Савченко заложил палец в рот, хулигански свистнул, потом сотворил звук, как будто раскупорил бутылку.
– За нами поспешай, товарищ, не прозеваешь. Скоро всю эту шуру-муру к козьей бабушке! А житье будет наилучшее.
– А когда скоро? – приставали красноармейцы.
– Может, завтра, может, послезавтра, а может, и в чистый четверг…
Позади на шоссе нарастал быстрый цокот копыт.
Шапка у Алексея держится на ремешке, кудри отяжелели от пота. Разведчик в тридцати саженях – не поспевает. У лошадей удила в пене, крупы черные от пота.
Комиссар задержал коня и поехал рядом с командиром.
– Нашел штаб?
– Штаб полка у хутора Пенкина. Насобирали человек семьдесят. Два пулемета. Пойдут на восток лесной дорогой.
– А на шоссе никого?
– Местами еще держатся, но уходить надо что силы. В два дня уйти бы.
– Не выйдет. Коням не выдержать. Пятьдесят километров в сутки…
– Все-таки шоссе.
– Все равно.
– Подпряжем верховых на смену… командирских… Весь фураж стравим. Обоз, в случае чего, бросим. Надо уйти.
Синькову неприятно слушать. Такие решительные меры должны исходить только от него, опытнейшего командира.
Форсунов, ездивший с Алексеем, догнал старшину.
– Далеко ездили, что ли? Кони употели.
Форсунову чрезвычайно хочется изложить все новости, но он еще не знает, как начать, чтобы вышло пофорсистее.
– Ну чё там, говори, – махнул старшина нагайкой через плечо.
Форсунов сперва вынул кисет и, положив повод на луку седла, обеими руками принялся крутить.
– Рига тю-тю, и Петроград – поминай как звали!
– Да что ты? – побелел и опустился в седле старшина. – Чье же это дело?
– Белый, говорят, с англичанином. Наши от Риги побежали, да прямо в Петроград, а он за ними на аэропланах да на миноносцах, а командиры, которые из офицеров, с ими. И уже, говорят, Путиловский горит.
Старшина обернулся – не слушает ли кто, и спросил недоверчиво:
– А может, тебе кто прокламацию считал?
– В штабе, со станции приехали. Хотели на Псков железной дорогой, а их завернули. Нет на Псков движения. Поезда обратно на Россию идут. Вот тебе и прокламация! – обидчиво закончил Форсунов. Источники у него были самые первые.
– Ты, парень, все же прикуси язык, – посоветовал старшина и немедленно на ухо сообщил все это Игнату Короткову.
Игнат велел Сереге сложить все вещи в мешок и переобуть домашние, крепкие сапоги. Потом он сел за кустом, будто по нужде, и вышел на дорогу, когда во главе второй батареи показался Воробьев.
– Ну, ваше благородие, дошли мы, кажись, до ручки…
Воробьев пересел в седле на бок и постарался отъехать от разведчиков.
– А что такое, Игнат Степанович?
– Говорят, Путиловский горит и наши побежали из Риги прямо в Петроград, а англичане на аэропланах за ними…
– Чепуха какая! Кто вам наболтал, Игнат Степанович? Как это из Риги в Петроград?
– Люди со станции вернулись. На Псков движения нет, – обидчиво заметил Коротков.
– Ну, это другое дело. Псков могли занять эстонцы. Но откуда же могли взяться англичане?
– Да уж кто там кого, не знаю. А только, видно, комиссарам будет крышка.
Он вытер усы и посмотрел на командира. Но лицо Воробьева не выдало внезапно забурлившей радости.
– Не знаю, Игнат Степанович, не знаю, но если что случилось – узнаем.
– Ну, а ежели нас с этого болота и не выпустят? Энто ведь как Осовец-крепость – поставил пулемет, и ни входа, ни выхода.
Воробьев, закуривая, задержал лошадь. Так можно было не отвечать Короткову. Разведчики балагурили, но в то же время внимательно слушали, о чем беседует командир с бывшим каптенармусом.








