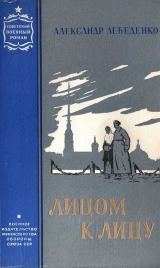
Текст книги "Лицом к лицу"
Автор книги: Александр Лебеденко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 38 страниц)
Разговор клонился в сторону неприятную и скользкую.
– Ладно, Ульянушка, утром зайду к вам.
Задорин ни слова не сказал Алексею, когда тот вернулся в избу, но, уже сидя за своим столом в Совете, многозначительно заметил:
– Тут у нас без тебя многое переменилось. Помещика нет, но зато кулачья предостаточно.
– А Совет на что? – спросил Алексей.
– Говорил я тебе, Совет у нас – вывеска, – рассердился Задорин. – Совет будет, когда кулаков выгоним.
В Андреевой части бодровской избы было много книг и ковров. У Бодровых тоже стояли вещи, которые только революция могла забросить в дымную и низкую крестьянскую избу. Эти вещи не сливались с бытом. Они были приставлены к былой бедности, вправлены в нее, как яркие лоскутья в поношенную одежду. Алексей принял все это так же, как шведские шкафы и кожаный диван в генеральской квартире. Из разговора Порфирия, в котором подлая робость переплеталась с неудержимым детским хвастовством, он понял, что и здесь по-своему ломается психология былой терпеливой бедности.
Свалившееся богатство вызывает в Порфирии не радость и чувство свободы, а жадность и смешное маленькое честолюбие, которому еще нет выхода.
Но чем больше смотрел Алексей на увядшие щеки Ульяны, на ее детей-подростков, на ее исковерканные работой руки, тем больше ему хотелось дать что-то от себя этому дому. Ведь здесь его утешали еще в ту пору, когда за каждую ласку он готов был заплатить полновесной любовью, так как была такая ласка редка, необычна и мимолетна.
– Сеяли сей год мало… – говорил Порфирий. – Чго взяли в экономии – тем живы. Собирался я Федору куль муки подкинуть, все-таки сват. А теперь возьмете – не знаю, как и самим хватит…..
– А как мы в городе? – спросил Алексей. – Фунт на едока, да и то только на красноармейца.
– В городе работа другая.
– Вы как же помещика делили? – спросил Алексей.
Но Бодров не охоч был до таких разговоров. Косогов строго наказал ему хранить тайну, хотя она никак не могла сохраниться в большой деревне. Не пойман – не вор, но вражда докукинской бедноты к Бодрову, вдруг оказавшемуся ловкачом, поднималась еще сильнее, чем к заведомому хищнику, мироеду Косогову.
Порфирий рассказывал Алексею, как поп увещевал прихожан и как жгли дом управляющего, ненавидимого деревней больше самого помещика.
– Так что ж, Алеша, – жалостливым тоном спросил он, провожая гостя за околицу, – что нажили, то опять.
– Кормить-то армию нужно. Всего два вагона с большой деревни. Останется, я думаю.
– Как брать… Если бы со всех поровну… А нам бы только подняться. Сам знаешь, как жили. Васька нас в богатеи произвел…
Был он худ и сгорблен, тяжело дышал беззубым ртом и смотрел жадно и жалостливо.
Сочувствие к нему, а еще больше к Ульяниной семье переполняло Алексея. Это не Косогов. Если революция принесла ему достаток, то это справедливо. Алексей был убежден, что так думает вся деревня. Мужики не обидят Бодровых. Бедность и голость их долгие годы были у всех на виду. Значит, ему будет легко отстоять Порфирия.
Но, когда на собрании стали составлять список богатеев, фамилия Бодрова стала вровень с фамилиями Хрипиных и Косоговых. Косогова ненавидели, но зато и боялись, Бодрова хлестали, не оглядываясь.
Алексей счел это несправедливым и вскипел:
– Одно дело Косоговы, другое Бодровы. Косоговы, как пауки, напились чужим. А Бодровы только вылезли из нищеты.
– Оно конечно, – сказал Степан Сломко, сын кузнеца, которого пороли в 1905 году казаки. – Свой своего тянет.
– А ты не видел, как Бодров всю жизнь в рваных портках бегал? – запальчиво крикнул Алексей. – А теперь ему кое-что перепало – на то революция.
– Не один Бодров в лаптях ходил, – степенно заметил председатель, проведя рукой по бороде, – и не то плохо, что он попользовался. А то плохо, что он без мира у помещика взял.
– А ты видел? – запальчиво перебил Бодров.
– То и плохо, что никто не видел. Не то плохо, что ты пользовался. А то плохо, что ты против мира к Косоговым потянулся.
– Ах, змей, сукин сын, – слышным шепотом произнес Задорин и закачал головой.
– То плохо, что ты продукт спекулянтам продаешь. Да плохо то, что вы с Андрюшкой-охвицером как волки на деревню глядите.
– Ты бы в местные драчки не путался, – шептал между тем Алексею Буланов. – Что тебе Бодров, сват или брат?
– Жена его мне тетка, – буркнул Алексей. Он распалялся все больше.
– Тогда и вовсе не дело, – сказал Буланов и отодвинулся от Алексея.
Но у Алексея уже вскипела кровь. Где, как не в этой деревне, знает он все, что творилось во все годы его детства и юности? Разве не понимает он, кто чем здесь дышит? Разве кто-нибудь может внушить ему, что Порфирий Бодров не прав, взяв, что сумел, у помещика? На кого ни взгляни в этом собрании, все ему дальше и подозрительнее, чем Ульяна, столько страдавшая от Арсакова, теплая душа, единственный человек, от которого он знал ласку и о которой он от отца и матери слышал только доброе.
Когда голосовали список богатеев, он, почти единственный, голосовал против введения в список Порфирия Бодрова.
Увидев, что начальник продотряда голосует против своих же продотрядчиков и коммунистов, богатеи зашептали. По собранию прошел слух, что берут несправедливо, сверх нужды и закона, греют руки.
Многие уходили с собрания с тревогой, думали, как припрятать добро, как утаить хлеб, кому из соседей сбыть на время скотину.
Беднота уходила довольной. Буланов заявил, что согласно распоряжению губпродкома часть собранного зерна будет роздана неимущим.
В этот вечер на деревне появилось много самогона. Парни ходили группами с гармонью, балалайками, воинственно и задорно выкрикивали частушки. Они кружились у здания Совета, и в песнях, в перебранке часто звучала угроза.
На улице Задорин, не смущаясь присутствием продармейцев, посмотрел на Алексея недобрым взглядом и сказал:
– Спасибо тебе, ты помог нам. Вышло – мы Бодрова по злобе прижимаем. Нас на чистую воду вывел. Всех богатеев обрадовал. Теперь нам совсем легко будет Совет из кулацких рук вырвать.
Алексей столбом встал на середине улицы. Он хотел ответить горячо и сильно, но Буланов сказал, не повышая голоса:
– А ведь он прав.
Сделав над собой усилие, Алексей зашагал дальше.
– Когда мы, фронтовики, вернулись, – настойчиво продолжал Задорин, – мы Бодрова в Совет ввели как своего, а от него одну беду видели. Никто на нас так не нападал. Мы и лодыри, мы и охальники, мы и пьяницы. Советскую власть он честит крепче Косоговых. Андрюшка-поручик его направляет. Того Бодрова, что был, нет. Нет, товарищ Черных, забудь!
Алексей отказался идти к Задориным и отправился ночевать в Совет.
Ночью произошло наихудшее. Кто-то пустил по деревне слух, что начальник отряда будет давать облегчение тем, кто его попомнит. К Марии Черных на выселки то и дело стали забегать докукинские хозяйки с куском полотна, с лукошком яиц, с курочкой или крынкой меда, с серебряным царским рублем.
Буланов заметил этот поход еще вечером, отправился к Задорину, и они решили строго говорить с Алексеем.
Услышав о подарках, Алексей сорвался со скамьи и побежал к матери. На большом столе под иконами громоздилась куча добра. Из-под серого полотенца виднелись караваи, тугие мешки, желтые кружочки яичек. Мать, старая, почти беззубая, костлявая, как выносливая, но уже замученная лошадь, стояла у окна и думала смутную думу: уж не принес ли ей господь в сыне счастье?
Алексей сорвал полотенце, швырнул его в угол и не своим голосом крикнул:
– Какой черт это все нанес? Как смели вы принимать, мама? Опозорили меня. Все раздать обратно, слышите!
Алексей стал разбрасывать мешки и свертки по избе, потом надвинул на глаза фуражку и убежал в поле.
Он долго ходил над рекой. Свежий ветер успокоил его, и он решил, что Буланов прав: вся беда заключается в том, что он поехал с таким деликатным делом в свое родное село. Алексей решил оставить в Докукине Буланова с частью отряда, а самому ехать по другим деревням, и чем дальше от Докукина, тем лучше.
Буланов не согласился с Алексеевым решением. Он не умел ему объяснить, как следует поступить, и только кивал головой и говорил:
– Неладно…
Задорин держался сурово и молча.
Алексей настоял на своем и уехал. Теперь он держал себя в руках. Всюду, куда приезжал, предварительно совещался с партийцами и проводил разверстку твердой рукой.
Революция предоставила крестьянству половину российских земель и угодий, прежде принадлежавших помещикам. Она отдала им богатые усадьбы, скот и инвентарь барских экономий. Теперь, в критический момент, она требовала от них хлеба, чтобы прокормить отряды красногвардейцев, матросов и партизан, защищавших Республику, молодые полки Красной Армии и работавшие на оборону промышленные центры.
Этот расход был также необходим, как семена, без которых не может быть урожая. И тем не менее взять хлеб в деревне в эти дни было бесконечно трудно.
Во многих деревнях еще не были организованы комитеты бедноты. Советы во многих волостях оставались еще от времен, когда вся деревня единым фронтом шла против помещика и исправника. Октябрь изменил смысл и формы социальной борьбы на селе, но беднота еще не везде взяла в свои руки власть, чтобы навсегда соединить свою судьбу с судьбой пролетариев города.
На собрания, созываемые продотрядом, приходили всей деревней. С напряжением слушали вести о приближении и удалении красных фронтов. Резолюции о помощи Красной Армии хлебом принимались единогласно. Но хлеб был не у всех, и здесь начинались долгие, ожесточенные споры. Сказывались семейные, соседские связи, страх и оглядка на крепких хозяев.
Продотрядчики говорили хозяевам о долге перед революцией.
Хозяева отвечали, что добыли все это – и волю и землю – своею собственной рукой.
Их упрекали в равнодушии к рабочему классу и к исходу гражданской войны.
Они кричали что сыновья и братья их в Красной Армии. Разглаживая бороды, роняли замысловатые фразы, смысл которых был неуловим.
Кулаки подстрекали хозяев на сопротивление, восстанавливали их против бедноты, которая была освобождена от разверстки…
Встреча обеих частей отряда произошла на станции. В одном из тупиков стояли вагоны с зерном и теплушка для продармейцев. Было теплое, ясное утро. Буланов спал. Алексей сел на нары и весело разбудил товарища.
Буланов долго растирал глаза, откашливался и закуривал. Он словно хотел отдалить какой-то неизбежный разговор.
Его рассказ о Докукине показался Алексею вымыслом. Но тяжелое молчание продармейцев и еще не зажившая рана на затылке у самого Буланова не позволили думать о тяжеловесной шутке.
Порфирий Бодров, вооружившись топором, отказался пустить к себе продармейцев. Тоненьким, смешным и страшным голоском он кричал, что лучше сожжет все добро, чем выдаст его грабителям. Когда Буланов пытался убеждать его, Бодров, не слушая, твердил, что Алексей уехал жаловаться на Буланова и Задорина и, пока он не приедет, никто не должен сдавать хлеб. В избе громко плакали дети.
Когда продармейцы силой вошли во двор, несколько пьяных парней забросали их из-за забора камнями. Буланов вынужден был арестовать троих. Это были близнецы Хрипнны и их товарищ по фронту Степан Яковлев.
В ту же ночь на улице ранили продармейца Василия Сметанина.
На другой день из города прибыл отряд ЧК. Были арестованы Бодров и Филипп Косогов. Андрей Бодров бежал накануне. В его комнате нашли маузер, из которого был ранен Сметанин.
Ветром этих событий сдуло веселость Алексея. Правда, он не был в эти дни в Докукине, но ведь это он сам вызвался ехать в Докукино, это он разделил отряд, это он дал повод подозревать Буланова в самочинных действиях. Следовательно, это он был виновен в ущербе, который нанесен был Задорину и его товарищам, отвоевывавшим Докукино у кулаков для революции.
Но еще и на собрании в райсовете, где отряд отчитывался в своих действиях перед представителями фабрик и заводов, Алексей считал, что эти мысли – только для него самого.
Выступавший в прениях Чернявский твердо заявил, что считает виновным во всех событиях начальника отряда Алексея Черных.
– Ты забыл ленинские заповеди о работе в деревне, – говорил Чернявский. – Опираться на бедноту, устраивать соглашение с середняком. Ни на минуту не прекращать борьбу с кулаком. Ты нарушил все три заповеди разом.
В постановлении райсовета было сказано, что Алексей Черных «не проявил должной большевистской выдержки, обнаружил неграмотность в вопросах деревенской политики партии, дискредитировал деревенскую парторганизацию и тем объективно способствовал кулацко-офицерской контрреволюции».
Там же говорилось и о выполнении продотрядом задания, и о признании Алексеем своей вины, и о других его добрых качествах. Но все это не утешало Алексея.
– С твоим выдвижением мы поспешили. Ты еще сырой человек, – сказал Алексею председатель райсовета. Он смотрел на него незлыми глазами и даже крепко, как молотом, ударил по плечу. Но это было горько и обидно. – Если ты захочешь, то, конечно, станешь хорошим партийцем. Но если заупрямишься – ни черта из тебя не выйдет.
Внутренне Алексей был оскорблен и унижен. Он считал себя еще на фронте подлинным революционером, и никакие сомнения в этом никогда не посещали его. Он ушел с заседания взволнованным, недовольным собою и другими. Одиноко шагал по городу. Лег спать с горькой обидой в сердце. Проснулся в неясной тоске.
Солнечный день вернул ему равновесие.
Чего бы это ни стоило, он должен, он обязан добиться уважения Чернявского, Альфреда, председателя, всех этих людей, с которыми объединяет его партия.
Каждый день был суров и пристрастен к людям, делавшим историю, вставшим в партийные ряды.
Каждый день был как экзамен.
Но каждый оступившийся мог рассчитывать, что ему помогут подняться для новых усилий,
Глава VII
НЕВЕСТА ПОРУЧИКА ФОН ГЕЙЗЕНА
В феврале, марте, апреле каждый день к Ульриху приходила Вавочка.
В белорусских халупах, в блиндажах, приколотая большой канцелярской кнопкой к бревну или коврику, неизменно висела над постелью фон Гейзена ее карточка. У нее были чуть рыжеватые волосы, кругленькое личико и широко раскрытые, подкупающие, добрые глаза.
Карточка нравилась товарищам Ульриха, и поручик, не скрываясь, гордился невестой.
Но теперь личико Вавочки осунулось. Волосы были плохо причесаны. А один глаз у нее немного косил, что не было заметно на карточке. Но все же и сейчас девушка была привлекательна.
Когда Вавочка пришла в квартиру профессора в первый раз, Ульрих торжественно пригласил Сверчкова, купил цветов и попросил у горничной Маши белую скатерть с серебристым шитьем.
Вавочка была рада приему, пила из плоского бокала золотистый икем, смеялась и с робким кокетством склоняла голову к плечу смотревшего победителем Ульриха.
А потом жених и невеста сидели на шелковом диванчике в большом зале. Не зажигая света, они глядели в окно, раскинувшее за большими фикусами морозные узоры, и целовались.
Ульрих был счастлив. Пусть дядя подольше сидит на Кавказе. В чопорной квартире профессора фон Гейзена наживется теперь легко и свободно. Ульрих рад был Сверчкову, товарищу по фронту. Он настоял на том, чтоб Дмитрий Александрович покинул свою комнатенку на Васильевском. Он пригласил поселиться в квартире дяди супругов Катульских, дальних родственников мадам фон Гейзен. Ульрих готов был собрать в этих пустых комнатах всех веселых и жизнерадостных друзей. Его не пугала бедность. Он молод, неприхотлив и энергичен. Дядя и тетя могут быть спокойны за свое добро. Он не прикоснется ни к одному сундуку, ни к одной тряпке.
Катульским он предоставил детскую. Сам со Сверчковым поселился во втором кабинете. Здесь окно глядело в стену, в полумраке стояла выброшенная из первого кабинета отслужившая мебель. Парадные комнаты оставались нерушимы, и пыль могла беспрепятственно укладываться на цветы, гардины и старые книги.
Вавочка стала приходить каждый вечер, и Ульрих уже не покупал цветов. Вместо вина пили жидкий чай с черным хлебом. Однажды Вавочка ушла только утром, и Сверчков, подбежав в белье к окну, видел, как Ульрих без шапки провожал ее по пустынному двору к воротам, держа за руку.
На другой день Вавочка пробежала двор одна. Не оглядываясь, она смотрела в землю.
Сверчков делал вид, что не замечает перемены. Он сам стал называть девушку не Варварой Сергеевной, а Вавочкой.
Вавочка знала теперь, что лучшие бриджи Ульриха пошли за семьдесят рублей, что у Сверчкова на бедре – большой незаживающий фурункул от недоедания, что сапоги у обоих приятелей просят каши, но негде достать кожи, а без материала заказчиков мастера больше не берутся чинить сапоги.
В апреле Катульские устроили бал. Документы, по которым супруги и их приятель Шевский могли репатриироваться в Польшу, были наконец готовы. Снисходительные профессора, конечно, примут у них дипломные проекты не в очередь, и они приедут в Варшаву инженерами-электриками, обладателями ценной специальности.
Вечером пили чай. Был подан мед в хрустальной вазе. Рыжие пряники на том же меду были приготовлены самой пани Катульской. Шевский где-то раздобыл банку варенья из морошки с орехами. На четырехугольном блюде были красиво уложены ломтиками тающие в янтарном жиру копченые сельди.
Катульская превосходно пела. Катульский погасил все огни, кроме маленькой, укрывшейся под синим колпачком лампы, и играл вальсы. Шевский кружил по очереди Катульскую и Вавочку. Довольный, как сытый кот, он, точно музыки Катульского было недостаточно, обмурлыкивал своих дам, стараясь прижаться теснее.
Ульрих курил в углу. Ему тоже хотелось танцевать, но он боялся, что рядом с Шевским, на котором платье сидело с особым шиком и который так свободно вальсировал на квадратном аршине, он в сапогах и обносившемся френче будет выглядеть деревянным истуканом. Он пронесся с Вавочкой тяжелым вихрем по залу, задел каминный экран, заявил, что на фронте разучился танцевать, и затих на весь вечер.
Шевский решил устроить вальс с фигурами. Увлекая за собой танцующих и нетанцующих, он понесся вприпрыжку по всем комнатам профессорской квартиры.
Напрыгавшись, насмеявшись, гости разошлись по углам. Ульрих заметил, что Шевский, обмахивая Варвару веером Катульской, увел ее в профессорский кабинет. Ульрих сейчас же пошел за парой. В темной комнате, у кожаного углового дивана, стоял Шевский и на согнутой – как будто он играл на скрипке – руке его, далеко закинутая назад, лежала голова Вавочки. Шевский методически наклонялся к ее губам и опять глядел сверху в опрокинутое лицо девушки.
Ульрих стукнул дверью и пошел в свою комнату.
Вавочка вскрикнула и устремилась за ним, покинув Шевского в мрачной комнате наедине со скелетами кошки и человека.
Ульрих больше не вышел, а Вавочка через четверть часа, всхлипывая, сорвала свое тощее пальтишко с вешалки и убежала по парадной, забыв что в эти часы уже никто не откроет ей дверь.
Она вернулась, позвонив самым робким образом. Сверчков вывел ее на черную лестницу. Он прощался с Вавочкой со всей трогательностью понимания. Он даже задержал в руке ее тоненькие пальчики, тоже необыкновенно маленькие и тем не менее некрасивые. Но девушка вырвала руку и убежала.
Примирение состоялось через неделю, но Ульрих стал обращаться с девушкой пренебрежительно и даже грубо. Вавочка совсем перестала улыбаться. Она виновато и опасливо прислонялась к плечу Ульриха. Тихо-тихо гладила бескостными пальчиками его лоснящийся диагоналевый китель. Не получала никакого ответа на свою ласку, сидела, не смея сказать ни слова, вздрагивая при каждом движении Ульриха.
В это время Ульрих и Сверчков начали голодать по-настоящему. Вавочка, видимо, голодала тоже.
Ее отец был служащим страхового общества «Россия». В прошлом они жили неплохо, но сейчас, когда цены, подгоняемые спекуляцией и уменьшением товаров, росли, а заработки не увеличивались, семья, привыкшая существовать от двадцатого до двадцатого, растерялась.
Сперва экономили, потом отказывали себе во всем, кроме еды, затем стали есть один раз в день. Перестали пить кофе, отпустили прислугу. Наконец, обратились к продаже вещей. Но все это не спасало. Мать болела. Брат-школьник распустился и воровал дома деньги, табак и книги для продажи на рынке.
Вавочка бегала на службу в почтамт, ела меньше всех и больше всего боялась двух вещей – просчитаться на службе и потерять облик культурной барышни. Она старалась ступать так, чтоб не снашивать подметки. Сама стирала и гладила кофточки и чулки. Сама вязала кружевца, мастерила сестрам и себе береты из цветного гаруса, чинила перчатки, штопала и при всем этом успевала проводить вечера и ночи с Ульрихом.
Ее поздние звонки вызывали в семье слезливые нотации матери, издевательства братца, а иногда и грубую брань отца. Вавочка все переносила с изумительным терпением и молчаливостью. Она даже бывала радостна, покуда Ульрих был с нею нежен и ласков, но сжималась в комочек, когда он становился груб и жесток.
Отдавшись своему жениху, Вавочка тайно и сильно пожелала ребенка. Иногда она ходила по улицам как пьяная, во всю силу воображения стараясь представить себя матерью розового малыша с белыми, как у Ульриха, волосиками. Ложась в постель, она ощупывала пальчиками упругую, пополневшую грудь, гладила белый пополневший живот, ласкала себя, как своего будущего ребенка.
Но, утратив любовь Ульриха, она вдруг обрадовалась своему бесплодию. Все кругом говорили, что сейчас не до детей. Обрадовалась поверхностно, небольшим своим умом, и затосковала внутренне, большим чувством, не догадываясь, в сущности, ни о причине этой тоски, ни даже о самой тоске.
Ульриха Вавочка и теперь не разлюбила, потому что такой женщине разлюбить в десять раз труднее, чем полюбить. Она нашла в своей любви новый мир ощущений и чувствований, способный наполнить, поднять и увлечь, и ни за что не хотела его утратить. Она прислонялась к Ульриху, чтобы в самой себе ощутить присутствие чего-то волнующего и нежного, без чего было бы пусто и беззвучно в ее душе.
У Шевского были неожиданно приятные и сильные губы. По ее телу прошло горячее. Это было как открытие. Ведь это не был Ульрих. Лежа на руке Шевского, Вавочка ждала, тосковала и изумлялась. Шевский был для нее ничем. Но разве можно было объяснить это Ульриху?
Вавочка извинялась перед женихом без всяких слов, она только плакала. Она целовала его колени.
Ульрих грубо оттолкнул ее. Назвал шлюхой. Он едва не ударил ее. Это все вышло неожиданно… Но неужели же это и был конец ее первого, такого мучительно-прекрасного романа?
Теперь Ульрих уходил рано утром и нередко возвращался только в полночь. Хотя квартира с отъездом Катульских пустовала, но Дмитрий Александрович и Ульрих спали вместе все в той же, самой темной и самой неряшливой, комнате.
Ульрих сперва казался энергичнее и изобретательнее Сверчкова. После каждого похода по городу у него объявлялись какие-то многообещающие знакомства, «перспективы и горизонты». Обещали работу, рекомендации, новые, еще более полезные знакомства. Но, видимо, в городе было слишком много энергичных людей, все будущее которых упиралось в такие же «перспективы и горизонты», и с некоторого времени Ульрих утратил задорную жизнерадостность. Кошелек быстро пустел. Цены на то, чего не было у Ульриха, подымались, на то немногое, что было, падали.
Продав по дешевке «Заем Свободы» – все свои сбережения, он еще раньше Сверчкова вступил в период распродажи вещей. Все носильное у Ульриха было такое же и в таком же количестве, как у Сверчкова, и уходило оно так же безалаберно и случайно.
Приближаясь к моменту, когда жизни, со всеми ее напастями и бурями, человек может противопоставить только свое полуприкрытое тело, Ульрих становился циничным и грубым. Жизнерадостный и сентиментальный бурш внезапно объявил полную переоценку ценностей. Ему доставляло мучительное наслаждение выворачивать наизнанку, как перчатку, свои былые верования и привязанности.
Прежде всего он твердо усвоил – может быть, поверил кому-нибудь на слово, – что причины всех бедствий надо искать не только в самой революции, но и дальше и глубже. Проклятым вопросом возникла в нем необходимость отыскать самый корень зла. Откуда он возник, где он таился, этот большевизм?
Здесь, в большой пустой квартире, Ульрих мог не стесняться. Ему становилось легче, когда он высказывался громко, как будто он кричал свои обвинения в лицо urbi et orbi, вплоть до министерств, штабов и редакций союзников, хотя единственным невольным слушателем его являлся Сверчков.
В пустые, бездельные часы он ходил по квартире, собирал альбомы, портреты, брошюры, книги, посвященные малым делам и коротким дням героев неудачливого Временного правительства Это они были ближайшими виновниками октябрьской смуты.
Он швырял весь этот фотографический, журнальный и брошюрный хлам в дымившую круглую печь, короткой кочергой громил пепел, отходил, только убедившись, что все рассыпалось черным мельчайшим прахом.
Однажды, вернувшись с Сытного рынка, где он оставил восьмикратный бинокль, кожаный порттабак с ремнем через плечо и серию купленных в Галиции парижских открыток, он решил углубить свой критический анализ.
– А эти европейские имена! Петражицкие, Маклаковы, Новгородцевы. Профессора. Сюсюкалки!.. И этакие козолупы нас учили. Экзаменовали… История общественных формаций… Подцепили формацию!..
Он сбрасывал с полок и жег тома исторических исследований, монографии, труды, которые еще год назад почитал источником высшей мудрости и образцом исторического предвидения.
Как-то, придя из бани (третий класс, 15 копеек, без мыла), он сказал Сверчкову:
– Знаешь, во всем этом есть только одна хорошая сторона. Наконец у меня есть время и нужда хорошенько, вплотную подумать о жизни. Я ей, стерве, теперь смотрю прямо в глаза, не мигая… Без дураков. – Он для чего-то одним ударом распахнул китель, под которым не было ничего, кроме пропотелой с дырами сетки. – Я у нее высмотрю все паршивые плешины, все морщины, чтобы хоть харкнуть в морду старой потаскухе!
Сверчков слушал молча. У него кружилась голова, как над колодцем неосвещенной шестиэтажной лестницы. Как бы не нырнуть в такую же мрачную дыру… Ведь у него гоже осталось только две рубахи, и то рукава на локтях в больших, неуклюже насаженных заплатах.
– То есть как белое можно видеть черным и черное – белым, – продолжал издеваться над собой Ульрих. – Оказывается, я сидел в окопах, валялся по госпиталям только для того, чтобы остаться без рубашки, стать изменником, трусом, дезертиром. Если б, Дмитрий Александрович, – сказал он торжественно, – я бы начал жить сначала, я бы знал, как нужно поступать, я бы знал, где раки зимуют…
Товарищи топили печь через день, отбирая в профессорской библиотеке комплекты «Медицинского вестника», «Нового времени», затрепанную «Ниву» и «Живописное обозрение» девяностых годов.
Однажды Ульрих, дрожа от холода, ринулся прямо на верхние полки, где стояли классики.
Можно было подумать, он сделал какое-то открытие. Он выхватил большую книгу в тисненом переплете.
Слова потрескивали, как коленкор, отрываемый огрубевшими пальцами.
– А, дорогой Михаил Юрьевич! – визжал на лестнице Ульрих. – Вы пели о чести, об ангелах, о парусах, возлюбивших бурю. Вам не нравились жандармы в синем? Черт бы вас побрал вместе с вашими парусами. Вы, ваше благородие, господин корнет, бурю видели на курортах. А вы, Константин Михайлович! Я читал вас и думал, какие хорошие эти матросики, как это они страдают от издевательств дворянских недорослей. Горите, Константин Михайлович, черту на радость!
Сверчков не выдержал. Он неестественно взвыл, стукнул дверью и вышел. В тот же день он перебрался в комнату через коридор…
Ульрих перестал здороваться с приятелем, но не прекратил набеги на классиков.
Так, чтоб было слышно в комнате Сверчкова, он неистовствовал над народниками, над Добролюбовым, над Чернышевским. Он отрывал страничку за страничкой, комкая, швырял на пол. Потом ходил по комнатам все еще крепкими солдатскими шагами и вдруг, подойдя к столику, ударял кулаком или сжимал спинку резного стула так, что пальцы желтели, как восковые. Сверчков видел, как этот человек сознательно опустошает себя, чтобы окаменевшая душа могла звенеть одной только ненавистью. Потому что сейчас только ненависть помогала этому человеку бороться с голодом, с тоской, с одиночеством, с отчаянием…
Глава VIII
ТЕЛЕГРАФНОЕ БЮРО МИСТЕРА ПЭННА
– Послушайте, вы ему не верьте – он все сочиняет…
Приподняв шелковый котелок с богатыми полями, раздушенный джентльмен прошел мимо Сверчкова, блистая необычайными кашне и галстуком. Он радостно улыбался. Слоновая кость и черное дерево щегольской трости украшены золотыми монограммами.
Собеседник Сверчкова, Беретов, скорее был польщен вниманием, чем обижен.
– Это такая манера, – сказал он, выставив ногу вперед и с завистливым дружелюбием глядя вслед удалявшемуся. – Это же знаменитый «мистер Пэнн». – Он жестом пародировал взлет монокля и быстро заговорил, глотая звук «р»: – «На сегодняшнем ’ауте мы заметили мадам Зюзю в панталонах из алжи’ских к’ужев, богато уб’анную фальшивыми семейными жемчугами…»
Сверчков никогда не читал великосветских хроник.
– Разве этим можно было жить?
– Вы же видите: и по сей день – с иголочки. Каждому лестно. – Он продолжал картавить: «– У мадам Сизоб’юховой лучший вече’ в сезоне. Мадам Че’носвитовой-Зонтиковой нанес визит п’ибывший из Па’ижа флигель-адъютант князь Хлюст-Те’ебинский». За такую фразочку и катеринку не жаль. Но и уметь нужно было. Напиши про Курдюкова, не упомяни про Бурдюкова – тебе такую панихиду устроят… Это, знаете, дипломатическая миссия.
К пустым столам репортерской подсаживались какие-то молодые люди. Они придвигали чернильницы, строчили, рвали, бросали тут же на пол обрывки, писали вновь. За дверью рысью неслись ремингтоны и ундервуды. В кабинет редактора проходили высокие и низкие, толстые и худые люди – в мягких шляпах с тростями, в котиковых воротниках, с потрясающими по окраске и пышности кашне. Сперва приоткрывали дверь и только тогда стучали рукояткой трости, солидно спрашивая: «Можно?» Входили, не дождавшись, пока нервный человек с рыжей бородкой, без пиджака, оторвет голову от кучи гранок, которые он безбожно черкал красным карандашом величиною с полено. Мягкие шляпы вели у стола громкие разговоры. Редактор бросал реплики, не здороваясь и не переставая читать. Бобровые шапки – сотрудники с именами – подхватывали реплики, разражались острым словцом и уходили ленивой походкой. Курьер бегом уносил гранки и, возвращаясь шагом, приносил чай. В типографии, размещенной в первом этаже, стучали машины, отчего весь дом был наполнен как бы подземным гулом.








