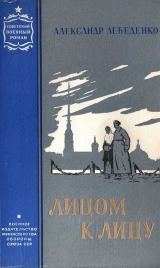
Текст книги "Лицом к лицу"
Автор книги: Александр Лебеденко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 38 страниц)
– Приняли! – с порога возвестил художник.
– И поняли? – с оттенком недоверия спросила Елена.
– В том-то и дело. – Шляпа Евдокимова улетела в угол. – Было десятка два людей. Смотрели долго. Молчали так, что я хотел было бросить все и уйти. Потом один, седой, подошел, взял меня за плечи и сказал: «С душой рисовали». Тут все заговорили. Портрет повесят в белом зале. Потом говорили вообще о живописи и революции. Я, кажется, порол какую-то невероятную чушь. Просили сделать копию и нарисовать Маркса. Седой сказал – придет смотреть мастерскую, и дал свой телефон, по которому ему можно звонить. Секретарь что-то говорил о деньгах и продуктах, но я убежал. Завтра портрет будет в газетах.
– Товарищи перестанут с тобой здороваться, – вдруг перебила его Елена, глядя мимо, в большое окно мастерской.
Художник замер на середине комнаты.
– Ты думаешь? – тихо спросил он, тряхнув головой, и опять двинулся в поход по комнате. – Меня захватила тема. Я был в Москве на митинге… Сначала я хотел рисовать только толпу, слушающую оратора. Но образ человека, зажегшего все эти глаза и лица, преследовал меня. Я должен был сделать портрет хотя бы для себя. Я мог, конечно, не продавать его. Но почему же не отдать работу людям, которым она нужна? Кроме того, три месяца работы над портретом, все эти мысли о Ленине не прошли для меня даром.
Она смотрела на него с усмешкой, так как ждала, когда он скажет это.
– Ты догадалась сама? Ну, конечно, – я слишком много отдавал этой теме и уже не могу все взять обратно. Художник, который вливает душу свою в им же созданные формы, может ли он, как жидкость, вернуться в прежнее состояние? Я ушел от этого портрета иным… лучшим или худшим, но иным.
Елена смотрела на него внимательно, как будто он не смел, не мог утаить от нее ничего.
– А если художник рисует палача или фанатика чужой, неразделяемой веры?
– Все равно.
– Тогда как же нужно бояться неверной темы.
– Нет, нет, нет… не то… Это сложнее. Возвращаясь от своей темы к самому себе, художник восстает против своих образов или принимает их, частично или целиком…
Елена открыла книгу, но ясно было, что она не собирается читать.
Художник подошел к окну и сорвал тяжелую занавеску.
– Закутайся, я открою окно. Сегодня свежий, но сухой воздух.
– Мне иногда кажется, – продолжал он, – что нашему поколению художников не повезло на учителей. Наши профессора говорили о своих предшественниках, как, вероятно, Платон говорил о Сократе. Дух великих идей витал над ними с первых мазков. Но у наших учителей было слишком короткое дыхание. Его было достаточно, чтобы взволновать их самих, но не хватало на то, чтобы захватить нас, учеников следующего поколения. Нам придется искать свои пути, да еще помнить о тех, что пойдут после нас.
– Я бы хотела найти свою тему, – почти про себя сказала Елена.
Но Евдокимов думал не о теме. Тема для живописца – вся жизнь, все, что созерцает глаз и создает воображение. Но художник больше не ищет точности изображения. Можно нарисовать бокал, от которого только что оторвались пальцы пьяницы, и чашу Грааля, тоскующее и светящееся стекло.
Подобно многим одаренным юношам, Евдокимов в глубине души считал свое искусство выше всех иных. В угоду ему он с легкостью снижал значение других.
Живопись, как и музыка, стоит над жизнью, рисунок – это только ее скорлупа. Чтобы стать искусством, она должна всей фразой красок и теней проникнуться одной величественной идеей.
Мастера католицизма воздвигали небесный мир над земным. Фламандцы утверждали человека и мир вещей… А мы что?
Жизнь в представлении Елены рассыпалась на ничем не связанные кусочки, и она не была уверена в том, что когда-нибудь было иначе… Доморощенные философы декламировали на все лады. Неужели и этот тоже?
Корреджио, Мурильо, не смущаясь, десятки, сотни раз рисовали лицо богородицы, раны и тернии Христа, утверждая все с новой силой овладевшую ими идею. Мы же мечемся от темы к теме в постоянных бесформенных поисках. Нам кажется, что мы захватываем многое, но сети наши неизменно оказываются пустыми. Изощряя кисть, мы опустошаем душу.
– Художники критикуют куда чаще и искуснее, чем рисуют, – заметила Елена. – Многие готовы физически преследовать собрата, который смешивает краски иначе. Если б они были богаты, они скупали бы и уничтожали картины соперников…
Евдокимов остановился. В одном и том же явлении они видят разные стороны. Если хвост змеи загнулся к северу, это еще не значит, что змея перестала двигаться к югу. Частность не должна заслонять целое.
– Все мы сейчас – хотим или не хотим – растем из импрессионистов. Их общий герой, их идея – это солнечный луч. Их стихия – plain air. Их цель – высокое мастерство. Нельзя больше рисовать, не овладев мозаической лепкой мазков Моне, рисунком Дега, молниеносно схватывающего движение, титанической борьбой с плоскостью Сезанна, искусством Гогена, у которого все предметы точно на сильном ветру. Но меня не тянет ни мельчить мазок, соревнуясь с пуантилистами, ни угадывать ребра материи. Японцы рисуют белой и черной краской, как цветом. У меня с детства жадность к цветам и страсть к высоким идеям. Мне ближе горящий огнями ковер Рибейры, чем кубические мечты Пикассо, от которых мне становится неуютно, как в царстве гробов и склепов. Но главное не это. Гальс не написал ни одного ангела, ни одной нимфы. В его галерее можно встретить блудницу и ребенка, пьяницу, бургомистра, цыганку и повара, и тем не менее он не ниже мастеров Возрождения. Но все его люди говорят каждый за себя. Что было бы, если бы это были воины одной и той же идеи!
Елена смотрела в окно. По бледно-голубому озеру стекла плыла одинокая тучка. Больше всего на свете она не любила всякие философские нападения на личность. «Человек есть мера всех вещей». Она забыла, кто сказал это, но фраза осталась в сознании.
– Кстати, импрессионисты показали пример братства при величайшем разнообразии профессиональных технических устремлений и полной свободе творчества. А японские художники посылают друг другу свои полотна.
– Вероятно, те, которые остаются непроданными от салонов.
– Нет, те, до которых не доросли завсегдатаи салонов… Я хотел бы не изощренности, но простоты, той простоты, которая лежит далеко за морями исканий.
Тучка уплывала из поля зрения. Бледно-голубое небо еще ближе придвинулось к окну. Оно казалось гладким и холодным, как крашеное стекло.
Глава V
МОБИЛИЗОВАННЫЕ
Мобилизованные входили в казарму большими группами, сложившимися еще в вагонах, на вокзалах, на распределительных пунктах. Иные останавливались на пороге, деловито оглядывались и спешили занять приглянувшееся, показавшееся наиболее уютным место. Иные крестились на пустой, но привычный угол. Иные встречали новое жилище крепким словом, злой солдатской шуткой. Иные брали растрепанную швабру и мели пол, как бы показывая, что казарму эту они принимают всерьез и без досады. Приехавшие издалека швыряли на грубые матрацы сундучки и сумки, пропахшие потом папахи и похожие на опростанные мешки рукавицы. Под нары задвигали сундучки посолиднее и начинали разуваться, чтобы облегчить натруженные ноги, поправить свалявшиеся портянки, курили и плевали на серый, немытый пол.
Часовой, еще из красногвардейцев, в пиджачке и щуплом картузике, сидя в коридоре, пускал обильную слюну, глядя, как деревенские отламывали краюхи от полупудовых караваев, заедали хрустким луком, холодным мясом и салом, а то грызли сочную куриную лапу. Фунтовый паек хлеба и неизменное пшено красногвардейского котла вспоминались с острой тоской.
Паренек в веснушках, в синей, когда-то, может быть, гимназической фуражке, потерявшей и цвет и фасон, пробежал мимо часового с форменным, должно быть унесенным с фронта, котелком в руках. На пороге дал тормоза и весело спросил:
– Земляк, а игде кипяток у вас?
Часовой повел длинным усом и недовольно чмыхнул:
– В первом етаже… и не земляк, а товарищ. Приучайсь по-городскому.
– На кой ляд мне город? Мне он – что лапоть, сносил – и с ноги долой…
– Ничего, приобыкнешь, – переставил винтовку красногвардеец и замолчал.
Через минуту веснушчатый парень мчался назад с дымящимся котелком. На пороге опять подмигнул часовому:
– Подсядь, дядя, к нам. Чайку плеснем в кружечку. Колбасой угостим – домашней. Живот погреешь, та-ва-рищ.
«Товарищ» он сказал растянуто, нарочито, с насмешкой, смягченной задорной приветливостью.
– Грейси сам, – оказал часовой, нахмурясь. – Мы отпили.
– А ты не чинись, поштенный, – раздался вдруг бас от печки. Усатый парень в черной кавказской папахе резал непочатый каравай. – Доглядать и отседова сумеешь.
Часовой провел пальцем по усам и медленно поднялся.
– А я ничего… Вроде как на часах. А только мы сегодня напоследок. Завтрева ваши встанут, красноармейские.
– А ты питерский?
– С Розенкранца я. А вы откель, товарищи?
– А мы с-под Острова. Слышал?
– Дед у меня Режицкий. Проезжали…
– На, закусуй. А ты, Серега, чего ж стал?
Серега похож был на усатого, только лицом светлее и усы покороче. И папаха у Сереги не черная, а рыжая – мелкий завиток.
Челюсти работали исправно. Красногвардеец с жадностью кусал луковицу. Ему жгло губы, язык, и он откровенно плакал.
Усач, Игнат Коротков, икнул, положил кусок хлеба, густо покрытый солью, и сказал:
– А как ты, товарищ, разумеешь – надолго? – Он кивнул на середину казармы.
– А кто знат? Глядишь – война будет.
– А и с кем? С германом а ль с Англией?
– Не… со своим….. с беляком…
– По мобилизации так и читали, – рассудительно прибавил Серега.
– До весны, говорят, потянет, – заметил веснушчатый парень, которого односельчане звали Федоровым.
– До весны… – покачал головой Коротков. – До весны – это куда ни шло… А весной уйдет народ. И то от земли насилу оторвали.
– Земля у вас хорошая? – спросил рабочий.
– Ничего, родит… Теперь вот помещицкая. Кому перепало. Оно теперь в деревне глаз да руки нужны. Земля – она человеком крутит. Поработать на себя охота. А теперь, глядишь, на мобилизацию не пойдешь – грозят землю, котору нарезали, опять узять. А весной только чудаки останутся.
– Беляков земля не держит. Они и весной пойдут, – заметил красногвардеец.
– А у нас есть чем их встретить. Припасли с фронту.
– Ага. Это есть, – кивнул Федоров.
– А ежели он с армией пойдет? – упорствовал рабочий.
– А игде он солдат наберет?
– А охвицеры? А казаки?.. А из вашего брата, который подурней, а то кулак-торговец?..
– М-дда, – размышлял Игнат, – надо до весны ему крышку исделать.
– Это верно, – обрадовался рабочий. – Кончать. А потом за землю.
Когда довольный, разгоряченный чаем часовой ушел на свое место в коридор, сосед Коротковых, худощавый, с колючими маленькими глазами и рыжей бородкой, обернулся и спросил Короткова:
– Так вы, товарищ, порешили до весны?
Коротков осторожно заметил:
– Сколько и ты, товарищ, – день в день.
– Ну, тогда, может быть, и раньше, – загадочно улыбаясь, сказал сосед.
– А тебе что, начальство сказало?
– Какое начальство? – стал расчесывать кудлатую голову рыжий. – Кто теперь начальство? Сегодня одни, завтра другие.
– Скоро год как комиссары…
– А я был на Украине, так там уже кого не было. И петлюровцы, и немцы, и большевики, и атаманы…
– А ты сам с Украины?
– Я и с Украины и не с Украины…
– А теперь ты с откуда? – спросил Федоров.
– Я, собственно, из Витебска… Я вижу только, что народ воевать не хочет.
Деревенские вслух ничего не сказали.
Тяжеловесный великан, лежавший к ним спиной, Макарий Пеночкин, повернулся и лениво обронил:
– А ты б устроил, чтоб войны не было, мы бы тебе на табак собрали…
– Ну, поживем – увидим, – решил рыжебородый и пошел по казарме. Он подсаживался к разным группам, смеялся, шутил, разговаривал. Переходил к другим.
Вечером приехал верхом Порослев. Он забрался на зарядный ящик и говорил с мобилизованными. Это не был митинг. Это был допрос с пристрастием. Но комиссар и не думал отделываться от вопросов. Его спрашивали, и он отвечал. Он, казалось, ничем не отличался в этой толпе от красноармейцев. Шинелька его была не менее заслужена. Козырек на фуражке сломан. На худом лице вокруг больших воспаленных глаз прочно улеглись синие круги. Когда ему задавали злой и трудный вопрос, он сперва молча глядел прямо в лицо спрашивающему, как бы проверяя его искренность, а потом тихо и просто отвечал.
Из задних рядов кричали:
– Громче!
Громче говорить Порослев не мог. У него было одно легкое. Он говорил так же тихо, но поверх толпы, и тогда было слышно.
Его расспрашивали, с кем предвидится война, за что будут воевать, что в Германии и Англии, каков будет паек и есть ли артиллерийские кони, будут ли теперь снаряды и получат ли паек жены, далеко ли от Петрограда и Москвы белый и где Ленин.
Он рассказывал обо всем, как сам понимал. Солдат с 1912 года, в окопах наживший чахотку. Это почувствовали и поняли, и вопросы задавали, уже не петушась, и если кто выскакивал, его одергивали соседи, слушали и спрашивали, спрашивали и слушали.
Во дворе темнело, и Порослев чаще и чаще вынимал большой несвежий платок и прикладывал его к губам.
Вечером улица перед казарменным двором зацвела прогулкой тысячи людей. Подходили городские. Лущили, прислонясь к заборам, привезенные из деревни семечки, беседовали шепотом, выкрикивали под гармонь частушки.
К рыжему Малкину подошел высокий парень с широким и вялым лицом и тронул его за локоть. Малкин сейчас же пошел за угол, на большую улицу.
Когда кругом никого не было, подошел Исаак Павлович Изаксон. У него был многозначительно отсутствующий, начальствующий вид. Он спросил Малкина:
– Мартьянова видели?
– Издали. Он в другой батарее.
– Как вообще?
– Кажется, все хорошо… но сейчас еще рано говорить.
Надо быстро раскачать массу. Удар будет нанесен одновременно в десяти местах. Нас крепко поддержат. Артиллерийские казармы поручаются вам. Связь со мной и Петровской будет поддерживать Вера Козловская. Со штабными – связистка Валерия. С посольствами свяжусь сам. Снаряды в дивизионе есть?
– Вы хотите такие вещи в первый день? Это же бросится в глаза.
– Время тоже следует экономить.
В небольшом, утонувшем в осенней слякоти скверике, на углу Греческого, навстречу им поднялся грузный, с растрепанной шевелюрой и непомерно большими, мягкими руками человек.
– Мы же условились, чтобы нас не видели вместе, – недовольно сказал Малкин.
– Посидите, Мартьянов. Я подойду к вам сам, – заметил Изаксон. – Малкин прав. Помните: мы действуем каждый на свой риск… И даже я… чтобы не подвергать риску организацию… И не попадайтесь на глаза Бунге.
В казарму Малкин вернулся один.
Федоров долго мостился на нарах, ища удобного положения на худом тюфяке. Серега уже спал, лицом кверху, положив черный рабочий кулак на живот. Федоров хотел было пощекотать ему в носу соломинкой из матраца, потом раздумал – пожалел.
– Вот опять война, и опять мы в казарме, – сказал ему, разуваясь, Малкин.
Федоров долго молчал и, когда Малкин уже не ждал, ответил:
– А ты, парень, привыкай.
Он лег, накрыл лицо фуражкой, поджал колени и почти мгновенно тоненько захрапел.
Глава VI
ИСПУГ И НЕНАВИСТЬ
В школу надо было ездить на трамвае. Уже издали видно было, как из зеленой гущины садов вырывается к небу золоченый шпиль старого замка. У ворот – часовой в курсантской шапочке, легкомысленной и нерусской. Отставив винтовку, он провожал Веру глазами, пока она не скрывалась в поворотах булыжного двора.
В школьных коридорах тихо, но в классных комнатах гремят громкие голоса преподавателей и собранные, стесненные, совсем не такие, как в перемену, голоса курсантов. В дворцовых проходах, создавая пробегающее под сводами эхо, проходят курсовые командиры, красноармейцы хозяйственной команды проносят в корзинах хлеб, тюки с бельем, пакеты с бумагой, книги.
Библиотека в два света. Резные сборные шкафы готически устремились к потолку. Здесь раз навсегда, на все сезоны установилась прохлада старых зданий. Запах древних книг угнездился здесь, ничем не перебиваемый, даже запахом сапог в часы, когда столы читальни заняты курсантами.
Раздевшись, Вера принималась за приведение в порядок очередного шкафа. Она должна была являться к четырем, но усвоила себе привычку приезжать гораздо раньше. Приятней и веселей было возиться с книгами, разбирать их, освобождать от налета пыли, соединять разлученные чьей-то равнодушной рукой тома сочинений, чем сидеть в пустой квартире или бесцельно бродить по все еще незнакомому городу.
Однажды в дверях показалась голова дежурного по школе. Ноги и туловище остались в коридоре. Он с любопытством смотрел на Веру, сидевшую с тряпкой в руках на полу.
– Входите, товарищ, – сказала Вера, поднимаясь и отряхивая пыль с юбки.
– Вам, может быть, прислать на помощь? – спросил дежурный, указывая пальцем на тряпку.
– Нет-нет, я сама, – энергично сказала Вера.
Дежурный обошел библиотеку, обежал взором ряды кожаных и коленкоровых корешков, сказал: – Много книг, – и исчез.
Через час красноармеец поставил перед Верой дымящуюся миску супа и извлек из кармана небольшой хлебный паек в газетной бумаге.
– Что это? – спросила Вера. – Я получаю паек на дом.
– Товарищ дежурный велел. Как вы без сроку работаете.
Он был убежден, что делает приятное, и ухмылялся добродушно.
Вера хлебала густой суп, сидя у окна. Влажные деревья качали ветвями, едва не заглядывая в окна. Застоялая вода реки, взятой в тиски гранитов и решеток, желтые дома с белыми колоннами на том берегу. Что он был ей, этот город Петра и построившего этот мрачный, сырой замок его правнука? Она бежала бы от него, если бы было куда и если б не чувствовала по временам, что он еще не раскрылся перед нею, но еще только расставляет свои сети. Оскорбленно замолкли его дворцы, а проспекты непонятны и тревожны. У него было какое-то тесное родство с книгами, прочитанными в гимназические годы, и лучше всего Вера чувствовала этот город как что-то целое и живое, сидя у стола с томом старого романа в руках.
Город предместий, фабрик, заводов, пустырей и покосившихся, перенаселенных домов был ей неведом. Петербург – это была столица, город знати, чиновников, писателей, художников и артистов. Чужой город, которым можно любоваться, не приближаясь, не отдавая ему ничего, кроме спокойного любования.
Может быть, потому работа в библиотеке, в часы, когда она оставалась одна, была для нее так приятна. Ах, как хорошо выдумал Алексей Федорович!
Красноармеец пришел за миской.
– Не все съели, товарищ? Плох разве суп-то? – покачал он головой. – Такой в Смольном не едят.
– Нет, что вы, очень хорошо. С мясом, кажется?
– Как полагается. А два раза в неделю – с рыбой.
Вера стала получать обед каждый день.
Паек она забирала в библиотеку и уносила домой в портфеле по частям. Сначала самое ценное: сахар, чай, масло, жиры, сухие овощи. Потом муку, крупу, хлеб.
После голода это было очень сытно, и Вера перестала чувствовать слабость в ногах. Она знала, что паек в военных школах – один из лучших в городе, и была благодарна Алексею.
При этом ее не оставляло ощущение, что она должна заплатить усиленной работой. Вечерами ей уже не приходилось разбирать и приводить в порядок книги, потому что библиотека и читальня всегда были полны. Курсанты рвались к книге, к газете, к печатному слову. Вскоре Вера поняла, что для многих было неясно, что же в конце концов есть в этих шкафах. Но вера в чудодейственность книги горела во всех глазах.
– Чего-нибудь поинтереснее, Вера Дмитриевна.
– Но что вас интересует? – улыбалась Вера. – История, география, может быть, путешествия или просто беллетристика?
– Чтоб интересно было, – настаивал курсант.
Вера глядела на добродушное лицо вчерашнего мастерового или хлебороба.
– А что вы уже читали? Что вам понравилось?
– Про борьбу. Про разное житье.
Иные называли определенные книги.
Вера заводила разговоры с курсантами о Горьком, о Пушкине, о Гоголе, о Рылееве. Читала вслух отрывки из «Мертвых душ», говорила о Толстом и Тургеневе, о Чехове и Гончарове. Тяжело дыша, налегая друг на друга, курсанты сбивались в тесный кружок, задавали вопросы и неохотно расходились, когда Веру требовали другие товарищи, пришедшие за книгами. Вера знала, что делает все не так, как было бы нужно. Отрывочные замечания, несвязные мысли. А какая ответственность! Вероятно, следовало здесь, в этой комнате, открыть вечерний университет. Она тоскливо смеялась над собой. Она начинала страдать от сознания разницы между жаждой книги у этой молодежи и ее слабыми руками. По школе шла добрая слава о библиотекарше, и сам начальник школы, бывший полковник, зашел однажды в сопровождении свиты, пожал Вере руку, спросил, в чем она нуждается. А комиссар, прощаясь, сказал:
– Хочу поблагодарить вас от лица школы за работу.
Вера была взволнована, и все понимающе сочувствовали ее волнению. И старые стены сделались ей роднее. Старые стены толщиной в крепостной вал. Стены, которыми отгораживался от подозрительного, запахнувшегося в туманы города полусумасшедший гроссмейстер ордена мальтийского. Неразговорчивый комиссар из рабочих, с тяжелыми серебряными очками на носу, сам провел ее по коридорам пустой части здания. Он выстукивал стены, и они говорили разными голосами, обнаруживая скрытые пустоты, в которые никто не знал прохода. Он показывал ей подъемные плиты в полу, прежде скрытые коврами, колонны, таившие в себе истлевшие лестницы. Он спустился с ней в подвал, в котором могла скрыться легкая батарея в конном строю. Он показал ей безоконный тайный этаж, а в отделанной под церковь комнате – ход, к которому не сумел пробиться испуганный, загнанный, как мышь, за занавеску император.
И Вера впервые в воображении своем стала населять живыми образами рассказы, пришедшие из учебников истории. Она старалась теперь представить себе не только костюмы и прически, но и мысли этих отошедших людей, содержание их молитв и письменных столов, запах и цвет эпохи, упавшей в прошлое. Она подумала, что историю надо изучать по-новому…
А курсанты, веселый и бойкий народ, носились по паркетам дворца, мало думая о старине этих стен и о людях, поднявших их над болотной хлябью. На лекциях они в одночасье легко и радостно хоронили целые эпохи, складывая страны и царства, религии, реформации, столетние войны, цивилизации, как камни пьедестала завтрашнего дня, который они призваны были строить и защищать.
Это были молодые рабочие, которые пришли из предместий революционного города на эти курсы, дети крестьян, получившие вкус к революции, добровольцы-горожане, подхваченные волной революционного патриотизма, унтер-офицеры, пережившие революцию на фронте. Уметь читать, писать, знать четыре действия и дроби, некоторое общее развитие – все, что требовалось от них на экзаменах. Восемь скудных месяцев давали им на боевую и техническую учебу. Они глотали ее непрожеванными кусками. Уверенные в себе, они отрицали интеллигентские сомнения как гниль и мертвечину.
У Веры завязалась дружба с командирами и курсантами, завсегдатаями библиотеки. Ее провожали до ворот и ждали у запертых на обыкновенный висячий замок дверей библиотеки.
Так в притихшем, заметно опустевшем и все еще чужом городе загорался на глазах у Веры целый костер шумной и целеустремленной жизни.
Алексей замечал, как оживала девушка.
«Ага, паек вывозит!» – подумал он с удовольствием. Придя в ее комнату, он увидел за окном свертки и кульки в жирной бумаге. Он деловито, без спроса – Вера привыкла к его бесцеремонным действиям – взял мешок с крупой, повертел в руке, затем взял белый жир.
– Кашу вам надо сварить.
И ушел.
Вечером была жирная рассыпчатая каша. А Настя стала забирать Верино пшено и, смешав его с Алексеевым, ставила кашу – горшок на три дня. В следующую получку Вера, виновато смеясь, отдала весь паек Насте.
Но потом Алексей заметил, что оживление девушки не может быть объяснено только сытостью. Вера исчезала на весь день и ничего не ела. Он услышал отзыв комиссара о Вере и понял, что Вера «привилась» в школе. Он был доволен больше, чем хотел себе в этом сознаться.
Каша поспевала в одно время для Веры и Алексея, и они ели в комнате Насти поздними вечерами, когда Алексей возвращался из казармы, а Вера – из школы. Ели и обменивались новостями. Алексей заменял Вере газеты, которые она едва просматривала в библиотеке. Все комментарии ее прежних знакомых к сообщениям и статьям советской прессы звучали издевательством, неверием и гневом. По их словам, газета умерла, остались циркулярные листки, в которых истина застряла между строк, и те, кто говорит иное, лгут из страха или из недомыслия.
Но Алексей был весь перед нею, не способный ни к фальшивому горению, ни к дипломатической сдержанности. Он передавал ей вести со всех концов страны с таким азартом и волнением, как если бы всюду был участником, первым из непосредственно заинтересованных лиц. От него она узнала о чехословаках, о Сибирской директории и савинковском заговоре, о смерти Нахимсона и убийстве Мирбаха и Эйхгорна. Он говорил запальчиво, уверенно. Казалось, у него не было в запасе ни слов, ни интонаций для половинчатых суждений. Он просто, не стыдясь, сознавался в своем незнании многих простых вещей. Он целиком сочувствовал политике рабочей власти и радовался этому, как радуется птица, которую сильный ветер несет через горы, через пади к гнезду.
Но он говорил о казни царской семьи в Екатеринбурге, и о декрете о трудовой школе, и о равноправии женщин как об успехах одного пути. А у Веры замирало сердце при вести о выстрелах и крови, и сам Алексей становился ей то ближе в свете человеческой радости, то дальше в мареве новых для самой Веры страстей.
Для него главное в людях была их общественная роль. Вере казалось, что он обезличивает людей – возможно, по солдатской привычке к рядам, выстроенным из людей, как заборы строятся из досок. Вера настаивала на том, что везде есть дурные и хорошие.
Святыми безумцами еще с детства рисовались ей революционеры. Ради своей идеи они шли в изгнание, на гибель. Страдания и смерть становились в их подвигах могущественнейшим оружием, мученический венец подымал их над толпой, и обывательская рассудительность не шла к ним никак. Но к Алексею приходили люди, зажженные революцией и вместе с тем больше всего гордившиеся умением доказать свою правоту с карандашом, энциклопедией и циркулем в руках. Это были не фанатики, но упрямцы, не пророки, но инженеры, раскладывавшие силу потока на сопротивление квадратных сантиметров плотины. Меньше всего они походили на исторические тени, на святых и святош прошлого. К Алексею они приходили по конкретному, точному и спешному делу. Засиживались иногда за полночь. Они считали Веру своей, и она, прислушиваясь к их разговорам, ухолила к себе после всех.
Когда приходили к Вере ее знакомые, Алексей валился спать. Вставал в полночь, читал и опять засыпал до утра.
Аркадий навещал Веру чаще всего по субботам.
– Когда вы должны кончать в школе? – спрашивал он тоном раздраженного супруга.
– В девять вечера.
– Но вы приходите гораздо позже.
– В школе бывает кино, концерты, митинги, доклады…
– Значит, вам там нравится?
– Нравится, – подняв глаза, сказала Вера.
– И вы бы могли привыкнуть к этим людям?
– Вероятно, могла бы, – медленно, словно на ходу решая этот важный вопрос, созналась Вера.
Она хотела сказать, что уже привыкла, но не решилась.
– И вы могли бы жить с ними? Могли бы полюбить кого-нибудь из них?
– Зачем вы так спрашиваете? – взмолилась Вера. – Не надо.
– Надо! – закричал и вдруг сорвался на злой шепот Синьков. – Вы потеряли зрение. В один прекрасный день вы можете прозреть, проснуться и прийти в ужас. Вы на опасном пути, Вера. Что общего у вас с ними? У вас тонкие пальцы, и вы полируете ногти, у вас нога как у ребенка. А вы видели их руки? Вы любите все иное, Вера. Вы просто забыли… Мне жаль смотреть, как гибнет такая прекрасная женщина, как вы.
– Откуда вы взяли, что я гибну? – уже спокойнее спросила Вера. – Я давно не чувствовала себя так хорошо, как теперь. Я не одна, я работаю.
– Ах, Вера, Вера!
Она видела, что этот человек искренне мучается. Они – уже на разных берегах, и поток, расширяясь и клубясь, врывается между ними.
Но Аркадий не хочет терять ее…
– Нам нужно держаться вместе, Вера. – Он придвинул стул к ней.
Вера отодвинулась.
О, этот жест отодвигающейся женщины! Она убирает от вас милые складки коричневой юбки. Аромат становится тоньше, уходящий аромат женских волос…
Синьков поднимается. Он привык справляться с собой Когда он подает руку девушке, он старается даже не сжимать ее пальцы.
Аркадий идет к двери, и подошвы его, кажется, увязают в полу, как будто он шагает по размокшей после ливня глине. У него упрямое, гнетущее, принесенное еще с улицы, еще от терпкой и бессонной ночи желание. У него во всем теле истома. Что делает с ним эта девушка? Зачем у нее такие руки и такие неповторимые, пахнущие весенним лугом волосы?
Он оборачивается:
– Я так люблю вас, Вера.
Кажется, эти слова никто и никогда еще не произносил от века… Так они значительны – и все-таки неловки и недостаточно сильны…
Она уже по пожатию руки, по вздрагивающим плечам видит, до какой степени он взволнован. Ей жаль его тихой жалостью, поверхностной и немного обидной. Как будто ей за что-то совестно перед ним.
Она подходит и кладет ему руку на грудь.
– Не надо, Аркадий Александрович, не надо так… милый!
Эти слова падают, как спичка в ворох сена, в его ничем больше не сдерживаемые мысли.
– Не могу я, не могу, понимаешь, – вспыхивает он. Он целует ее, он с силой ищет ее рот. Вот они – эти раскрытые губы… Но вместо них холодные, стеклянные зубы. И этот взгляд! Испуг и ненависть. Он с силой отталкивает ее, как будто заразившись на мгновение этой ненавистью…
За окном молчала безлюдная улица. Молчит большая квартира. Аркадий, прислонясь к стеклу лбом, дышал и безрезультатно тянул крепко закушенную папиросу.
Он зажег спичку и увидел, что папироса еще горит.
Часы на столике тикали так громко, что хотелось их разбить. Он боялся обернуться.
Потом он услышал, как Вера развинченными шагами прошла по комнате к кровати, потом вернулась.
– Аркадий Александрович…
Это куда тише, чем стучат часы.
Он обернулся резко, готовый встретить любые гневные слова.
– Я вас прошу уйти… И больше я не хочу видеть вас… никогда…
В зеркале шкафа видна ее спина. Может ли спина постареть?.. Большой платок до полу и узенькие каблучки черных туфель.
Послушно, как провинившийся дворовый пес, не прощаясь, Синьков прошел мимо нее, не встретив никого в коридоре. Соскакивающими пальцами повернул французский замок и старательно, бесшумно запер дверь. Аркадий летел по улицам, как будто за ним гнались. Он думал, что прежде никогда бы не поступил так с девушкой своего круга, к тому же так искренне любимой. Все кругом рассыпается. Какой-то неистовый Самсон потрясает основы мира. Он сам, как и его товарищи, сопротивляясь, припадают под его усилиями к земле…








