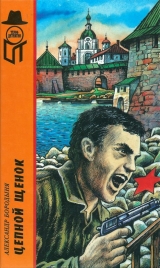
Текст книги "Цепной щенок. Вирус «G». Самолет над квадратным озером"
Автор книги: Александр Бородыня
Жанр:
Классические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 36 страниц)
23
От причала до каменных ворот монастыря, до высоких стен, сложенных из грубого камня, экскурсию, оказывается, отделяли какие-то минуты быстрого шага. За стенами ветер так не чувствовался, и люди, немного расслабившись, следовали с открытыми ртами за своим экскурсоводом, впитывая каждое слово. Олесь пытался включиться в общее настроение, его преследовало нечто изнутри, какое-то неприятное предчувствие, ожидание, и он хотел от него избавиться. Небольшая группа, человек пятьдесят, вошла в полутьму под своды, и тут же Маруся потянула поэта за рукав.
– Олесик, я хочу выстрелить по бутылке из пистолета.
– Зачем тебе?
– Я хочу представить себя этим палачом, который расстреливал.
– Понятно зачем. А где ты видела пистолет?
Экскурсия стояла под могучими сводами трапезной, подобной по величине лишь трапезной Московского Кремля, здесь было эхо, и говорили они совсем шепотом.
– Под мышкой у «афганца» кобура. Двое наркоманов остались на пристани гроб хоронить. А третий, алкоголик, – вот он. – Маруся показала глазами. – Посмотри получше, у него под левой рукой кобура.
– Ты думаешь, он мне отдаст свое именное оружие?
– Если ты его хорошо попросишь, попроси, Олесик. Никогда в жизни не стреляла из пистолета.
– Ты думаешь, теперь самое время попробовать?
– Конечно, думаю, и время, и место! – Маруся откинула назад голову и обеими руками завела за спину длинные концы шарфа. – Когда еще на место казни попадешь? До обеда хорошо бы. А то потом концерт будет… Лодочная прогулка… Попроси его, Олесик!
Представить себе, как в этих промозглых каменных мешках на протяжении нескольких столетий жили люди, казалось просто невозможным. Экскурсовод, хоть и не был профессионалом, повеселил немало туристов, рассказав о силе молитвы. Оказалось, что до прихода на остров лагеря смерти монахи руками вылавливали треску прямо возле берега. Они построили специальную запруду из камней. Молодая рыба входила в запруду в щели между камней, а назад, располневшая, пробиться уже не могла. Когда в сорок первом году с продуктами стало плохо, коммунисты восстановили запруду, но рыба не пошла в нее.
– А почему не пошла? – усиленный звонким эхом, звенел под мрачными сводами голос экскурсовода. – Потому что молиться надо было. Молиться надо было!..
Настроение у поэта еще ухудшилось, теперь он еле-еле переставлял ноги, плащ, нашпигованный вещами, казался безумно тяжелым и давил на плечи. В темных углах Олесю мерещилась неприятная плывущая тень золотой лодки, полной убиенными монахами. Это был почти сон от расстройства, монахи, оказывается, вовсе не попали на небо, а в своей ладье плавали здесь по каменным коридорам, пугая туристов и историков.
Снаружи, будто из другого мира, дошел до слуха протяжный гудок «Казани», еще один гудок. Олесь сделал знак «афганцу», так чтобы тот не смог вовремя отвернуться, и, оказавшись с ним позади группы шагах в десяти, прижал его к ледяной стене и спросил:
– Дашь пистолет?
– Дурак!
– Сам дурак. Моя девушка хочет выстрелить по бутылке. Или ты мне даешь пистолет, или я сообщу о том, что вы перевезли на Большой Соловецкий остров в трупе своего мертвого товарища наркотики.
– Дурак! – повторил «афганец». Он подумал и сказал с чувством: – Я не колюсь. А ты попробуй после двух лет, обойдешься ты? Ребята не для торговли взяли, а только для себя. Для себя, ты понял.
– А в душ они труп потащили, потому что приспичило? Впрочем, не важно, ты мне даешь оружие на час. И три-четыре патрона. А я молчу.
Они стояли возле зарешеченного окна, и яркий солнечный свет, разделенный на мелкие квадраты, рябил под ногами, при том что в полутьме нелегко было разглядеть выражение глаз собеседника.
– Я подумаю! – «афганец» оттолкнул Олеся и быстрым шагом пошел догонять экскурсию.
Уже по окончании экскурсии, на улице, «афганец» подошел к поэту.
– Ну как, решился? – спросил жестко Олесь. – Я молчу. А ты мне даешь на прокат пистолет.
Ветер, прорывающийся в стены монастыря сквозь растворенные ворота, с силою раздувал тяжелые полы его плаща. Ноги в черных сапожках твердо стояли на мощенке двора на ширине плеч, глаза Олеся из-под нахлобученной шапки смотрели сумасшедшие и пустые. Он взял оружие, оно оказалось довольно тяжелым, и засунул его глубоко во внутренний карман. Оружие устроилось точно под сердцем, и сердце забилось о металл сквозь шелк кармана.
– Скажи, а легко убить человека? – спросил Олесь, сам понимая жестокость своего вопроса. – Ты ведь убивал, правда, скажи, есть в убийстве какое-то удовольствие?
– Легко, – сказал «афганец», он был уже пьян. – Убивал.
«Легко, – подумал Олесь, – одного человека или несколько тысяч человек… Нужно только оружие. И нельзя бояться наказания».
24
Углубиться в лес группа туристов не успела, подошло время обеда. Все только вышли на дорогу, не сделав по ней ни шага, постояли, переминаясь. Слева, зарывшись в давно сломанные и давно проросшие зеленью, успевшие уже увянуть, деревья, ржавел какой-то экскаватор. И задранный его желто-коричневый ковш напоминал безмолвно кричащий рот.
– Ты обратил внимание, как здесь тихо? – поднимаясь по трапу на борт «Казани», обернулась Маруся. – Действительно, будто времени нет… Вроде, и голоса, и гудки… И самолет… А какое-то другое пространство тишины… – Олесь двигался раздражающе медленно, и она уже тянула его по крутым лестницам по ковровым дорожкам вниз, в каюту. – Пошли, пошли, а то останемся без обеда. Чего задумался? Не над чем здесь задумываться. Тихо, страшно и очень интересно.
В сознании поэта застрял растянутый на черных ветвях кусок шелка с нарисованной черной косточкой. Какое-то время он видел внутренние переходы «Казани», сквозь этот шелк видел лицо Маруси, она что-то говорила, и только когда перед ним оказалась стоящая на крахмале скатерти тарелка с красным свекольным салатом под майонезом, стряхнул с себя оцепенение.
– Зря вы на экскурсии не ходите! – сказала, обращаясь к Шуману, сидящему напротив за столом, Маруся. – Безумно интересно.
Миколы за столом не было. Шуман был все в том же костюме, что и ночью, голова его была аккуратно перебинтована, вверх из бинта торчал смешно хохолок. Старушки-фанатички тоже за столом не было.
– Не хожу, – сказал Шуман. – У меня своя экскурсия! – Он указал ножом, которым перед тем разделывал мясо, на свою перевязанную голову. – Кстати, попрошу вас не отпираться. Вы должны будете дать свидетельские показания против нашего монаха. Вы же все видели.
– Видели! – покивал Олесь. – Видели… Но показаний никаких давать не будем.
– Это принципиально?
– Абсолютно принципиально. Против монахов показать может только Бог. Слово поэтов против монахов не весомо. Разве поэт может судить то, что ему не принадлежит.
– Тоже верно, – неожиданно согласился Шуман и, наколов на серебряную вилку последний кусочек мяса, отправил его себе в рот. – Поэт – это другое. С поэтами я работал…
– Что вы имеете в виду? – спросила Маруся.
– А вы знаете, – вытирая губы салфеткой, сказал Шуман, – ведь Иосиф Виссарионович тоже был поэтом. И есть мнение, что все последующие события в нашей стране – результат тех его стихов, что не были написаны. Гитлер был художником… – Шуман поднялся. – В общем, придем в Архангельск, там разберемся, думаю, вас вызовут.
– Зачем?
– Вообще мир существует в нашем субъективном восприятии! – сказал Шуман, повернулся и зашагал через зал между столами.
– Позер какой! – Маруся тоже промакнула губы салфеткой. – Вина поэтов его интересует. Знаешь, никогда не подозревала, что в этой организации могут работать подобные шуты.
«Он не шут, – подумал Олесь, заставляя себя смотреть строго в тарелку. – Он ведущее колесико репрессивного аппарата. Часть машины не способна к иронии. Его ирония – это часть его программы».
– А интересно, – сказал он, уже заканчивая с обедом. – Интересная теория. Поэт пишет или придумывает. Скажем, он придумывает Большой Соловецкий остров, а на острове лагерь, а в лагере несчастные монахи в ожидании смерти. Почему нет, все это на абстрактном уровне вполне в духе настоящей поэзии. А потом этот лагерь возникает. В конце концов, если он не был придуман, он ведь не мог и возникнуть. Другой поэт пишет уничтожение острова, скажем, одним взрывом. Скажем, упал самолет, и…
– Хватит тебе… Мне надоела твоя поэма… – оборвала затянувшийся философский пассаж Маруся. – Пойдем, на экскурсию по местам казней опоздаем.
Спустившись вниз, они, желая только переодеться и выйти сразу, неожиданно для самих себя застряли в каюте.
– Каждый видит только то, что ему интересно, – опускаясь на койку, устало сказал Олесь. Тело его неожиданно отяжелело.
– А если это неприятное что-то?
– Неприятное тоже может быть интересным.
Рука Маруси проникла на грудь поэта, под рубашку.
Пальцы у нее были теплые, шелковистые, быстрые.
– Нужно запереть дверь… – прошептала она. – Это объективно.
Зачем-то Олесь посмотрел в иллюминатор. Волна шарахнула в зеленое стекло с такой силой, что казалось, может его вдребезги разбить. Он попытался понять, что происходит, что происходит с его собственным настроением, с его сознанием, но не смог никак определить положение вещей. Никакого поиска, никакого наслаждения, никакой даже самой маленькой цели. Ни светлой цели, ни темной не было в поэте. Только где-то на самом краю сознания, будто во сне, – шорох, множащийся отдаленный шорох, будто сотни, тысячи голосов одновременно пытаются выговорить последнее имя.
– Что с тобой? – на миг приостанавливаясь в своем движении и пытаясь заглянуть в чужие глаза, очень-очень тихо спросила Маруся. – Что-то с тобой, миленький, не то.
– Я устал! Никуда не хочу идти… – Подчиняясь ловким женским рукам и слушаясь женских губ, проговорил Олесь. – Ты права, это объективно!..
То ли прозвенела волна о стекло, то ли звук пришел из репродуктора, точно было известно: колокольни Большого Соловецкого молчат. На Большом Соловецком работают только маяки. Но Олесю, лежащему уже на спине с закрытыми глазами, отчетливо послышался звук медного колокола. Колокола радостного и печального, сказавшего одно короткое слово за всех умерших.
25
Никогда у них не было такого секса. Больше действие походило на сон не о том. Когда тело занято одним, голова другим, а в сердце играет совершенно иная мелодия, не подходящая ни к одному из первых двух случаев. Дверь так и позабыли запереть, не то чтобы увлеклись и не заперли, а просто не отнеслись серьезно. Был случай, когда Олесь и Маруся занимались любовью на тазах большой толпы, на спор, из извращенного удовольствия, в общем, страх перед чужими был чистой формальностью.
Волна, будто прорвав стекло, плеснула в лицо. Олесь открыл глаза, утер пот и вдруг увидел, что дверь в коридор распахнута, а прямо над ними торчит заострившееся лицо Миколы. Длинный нос святого отца готов был почти просунуться между их лишь на мгновение разомкнутыми губами.
– Дай пистолет! – сказал Микола, и по-собачьи как-то облизал губы. – Дай сейчас.
– Откуда?
– Мне солдат сказал, что он у тебя. Дай, мне человечка одного наказать надо.
– Да ты уж наказал, кажется? – Маруся села на одеяле и стала одеваться.
– Наказал недостаточно. Дашь?
– Нет.
– Дашь! – Лицо Миколы приблизилось к лицу поэта, глаза смотрели в глаза. – Нельзя правое дело остановить.
Еще мгновение назад поэт был пассивен и немногословен, еще мгновение назад он был внутренне разделен на разные противоборствующие стихии, и вдруг все переменилось. В иллюминатор вошло яркое дневное солнце, оно ослепило. И Олесь крикнул:
– Ты, монах! – Он, как был голый, вскочил на ноги и ухватил Миколу за шиворот. – Ты пародия на монаха. Вас здесь целый корабль пародий. Ты что, не понимаешь, что так и умереть можно! – Не делая все же никаких лишних движений, Олесь заломил Миколе руку и сказал, обращаясь к Марусе. – Сходи приведи этого Шумана. Приведи кого-нибудь из команды, святого отца по-моему, следует изолировать. – Второй рукою он ухватил Миколу за волосы и спросил: – Ты крови, значит, хочешь? Ты к несчастным солдатам-интернационалистам, значит, приставал? У тебя, наверное, идея какая-нибудь серьезная есть. Расскажи!
– А ты… А ты… – Микола пытался вырваться, но только сучил от боли ногами по ковру. – А ты мелочь, – почти проблеял он. – Ничтожество. Ерундовый человек. Коли я пародия, то ты вовсе ничего. Ничего! Пустое место… – Изо всех сил он пытался уязвить и уязвил следующим словом: – Пустое место с блокнотиком… Дашь пистолет?
– Нет! – пытаясь совладать с волною ярости, сказал тихо Олесь. – Ничего не дам!
– Пустите его!
– Что? – Олесь повернулся и увидел, что Маруси в каюте нет, а на ее месте сидит устало Тамара Васильевна, одетая в больничный халат. – Что вы сказали?
– Он ведь прав! – спокойно продолжала Тамара Васильевна. – Он, насколько я понимаю, хочет расправиться со своим врагом. Дайте ему пистолет. Я уверена, крови здесь не будет.
– Сука… – процедил поэт. – Поклониться могилке мужа приехала… Любопытный был муженек, нос свой совал, куда не просили… В квадратном озере, небось, купался, страшную рыбку удил… И ты туда же…
– Туда же! – кивнула Тамара Васильевна. – Вы ему руку сломаете, если еще нажмете.
– Пусти! – уже жалким голосом, весь обмякая, попросил Микола. – Пусти! Не надо мне… Я пугнуть его хотел. Все равно за измену Родине садиться… Или за хулиганство… Все равно одна статья!
Олесь отпустил. Он надел свой плащ, молча застегнул его и зашагал, громыхая сапогами, вверх по железной лестнице. В первый раз в своей жизни поэт потерял всякий контроль над своими эмоциями. Это не было результатом истерики, это было результатом принятого решения.
26
Волна за иллюминатором дробилась с шелестом в сверкающие брызги, и в первую секунду было невозможно против солнца рассмотреть лица.
– Где он?! – крикнула Маруся. Молодой офицер, составивший компанию Шуману, пришедший за мятежным монахом, смущенно отступил назад в коридор, так что Маруся одна осталась в каюте, куда они вдвоем ворвались, распахнув ударом дверь. Микола сидел по одну сторону стола, Тамара Васильевна в больничном халате – по другую. На столе стояла бутылка пепси-колы, два стакана и лежали игральные карты. Также карты были и у обоих в руках.
– Он убежал! – Микола пожал плечами, на губах его играла напряженная улыбка, он со всею очевидностью относился к игре серьезно. – Надел плащ и убежал!
«Шут, – подумала Маруся, выскакивая в коридор. – Какой-то не корабль, а настоящая клоунада за упокой!»
Офицер спрятал в кобуру свой пистолет и, глядя вслед взбегающей по лестнице девушке, только пожал плечами. Шуман что-то крикнул ей вслед, но новый гудок «Казани» скрыл его слова.
На верхней палубе ветер вздернул на Марусе шарф и так запутал его, что, спускаясь по трапу, она чуть не упала вниз, пытаясь его распутать. Прогромыхав бегом по железу пристани, она остановилась, переводя дыхание. Гроб так и стоял там, где его сняли с судна. Рядом стоял один из солдат-интернационалистов.
– Он пошел в лес, я смотрел за ним. По-моему, он немножечко не в себе, – сказал спокойно солдат, он был опять под кайфом. – Учтите, девушка, он вооружен. Нужно осторожнее… Он непрофессионал, на непрофессионалов оружие действует самым неприличным образом…
«Все репрессии рождаются в блокнотах поэтов… – проносились лихорадочные мысли в голове Маруси, тогда как ее ноги быстрым нервным шагом измеряли старую дорогу. – Он мог это воспринять… – она даже не обернулась, не посмотрела ни на теплоход, ни на гроб, ни на „афганца“, нужно было бежать, и она бежала, глотая ветер. – Все мир нашей памяти и восторгов…
Больше ни из чего он не состоит, этот мир… Мир страха, и решений… Он таков, каким мы его чувствуем… – Она не следила за беснующейся в своей голове, разгулявшейся мыслью, абсурд внутри помогал Марусе собраться и действовать точно, не испытывая усталости, без срыва. Шарф окончательно запутался и, уже не пытаясь разобраться с этими длинными шерстяными концами, Маруся через голову сорвала его и бросила по дороге. – Он ведь точно начнет теперь стрелять… И хорошо, если по бутылочкам».
Ее неожиданно взяли под левую руку, притормозили, и старческий голос попросил, негромкий за новым ревом гудка:
– Маруся, если можно, я на вас обопрусь! Мне никак не добраться одному. Здесь пятнадцать километров. Когда-то пробегал их строевым шагом, а теперь – сердце. – Она вздрогнула, приостановилась, но, вышвырнув из головы мечущиеся мысли, приняла все как должное.
– Конечно, пойдемте! – сказала она. Николай Алексеевич, вероятно, не мог быстро идти и, сильно отстав от своей группы, поймал ее прямо на дороге.
– Мы можем как-то срезать угол? – Маруся специально посмотрела в глаза старика. – Вы же здесь должны каждую травинку знать. Вы же шли на Секирную гору, на лестницу?
– Попробуем. – В голосе старика не было особой уверенности. – Здесь сильно все перекопали. – Он уже показывал рукою в грубой черной перчатке поворот на тропинку. – Представьте себе, все деревья порубили, посадили новые… Но, кажется, на том же самом месте…
Под деревьями оказалось полутемно, хотя, конечно, почти никакой листвы вокруг, только сплетенные ветви и тени от них. И здесь было еще тише. Так было тихо, что совершенно терялось ощущение пространства. В первый момент, пытаясь высвободить свою руку из цепких пальцев бывшего палача, Маруся здесь, напротив, сама взяла старика под локоть.
– А вы действительно были здесь в качестве заключенного? – через несколько минут, а может быть, и через полчаса, движения среди деревьев спросила она. – Скажите правду!
– Все мы были в известном смысле заложники!
Старик замолчал, он смотрел вверх. Гул самолета обозначился и стал ощутимым, явственным. Но видно серебряного крестика среди ветвей не было. Маруся покрутила головой, с левой стороны сквозь сплетение ветвей различалась морская пустота, до нее было не более ста шагов, справа так же ясно угадывалась пустая дорога. От того что лесополоса оказалась такая узкая, Маруся ощутила почему-то приступ тошноты. Она глотнула холодного чистого воздуха, и воздух был как яд, как рвотное, резкий и кислый, полный запаха гари.
– Вот они! – прошептал старик. Не сразу она нашла силы на то, чтобы поднять голову, шея не гнулась, плечи свело болью. Но все-таки Маруся посмотрела.
Низко, прямо над деревьями, по небу двигалась большая золотая тень. Она была прозрачна, она могла быть просто солнечным миражом, но она имела отчетливые очертания ладьи. Длинный, кривой киль задевал за ветви, и ветви, как вода с металла, соскальзывали, потрескивая, с него. В лодке сидели несколько человек. И все они улыбались.
– Пойдем… Можно успеть… – Старик рванул Марусю за руку, но, только что не в состоянии поднять голову, она теперь не могла отвести глаз. – Когда еще представится случай?! – Глаза старика были страшны, и они блестели от слез. – Ты поможешь мне бежать?
Лодка двигалась очень медленно, прямо из-под сверкающего солнца, и рассмотреть лица сидящих в ней людей было невозможно. Марусе очень хотелось рассмотреть их, она щурилась, терла глаза, кусала губы, но рассмотреть не могла.
– Да что ты пялишься! – зло прошипел Николай Алексеевич. – Не видишь, что ли, уголовники плывут!
– Уголовники?
Но она уже увидела лицо Валентины, склоняющееся вниз, увидела смотрящие на нее веселые озорные глаза воровки. И так все ясно, что даже следы собственных ногтей на ее щеках можно было различить.
27
Двинувшись в неверном направлении, Олесь сперва попал не туда, его вело чутье, никакая мысль в действиях поэта теперь не участвовала, да и блокнот остался на столе в каюте, только пистолет под левой рукой и стремление куда-то вверх остались у него. Будто проснувшись, Олесь увидел себя стоящим на гнилых черных досках маленькой лодочной пристани. Лодок не было, а из-под носков сапог уходила масляная, гладкая вода. На воде появлялись пузыри. Олесь присел на корточки, он подумал, что вода должна быть теплой, он снял перчатку, попробовал рукой. Вода оказалась густою и действительно теплой.
«Я все придумал? – спросил себя он. – Ничего этого нет? – и сам себе ответил: – Все, что я придумал, есть и будет… Главное – не забывать о том, что существуют еще какие-то чужие выдумки…»
Дорога была здесь одна, от монастыря мимо пристани она вела прямо на Секирную гору. Там, где прошла экскурсия, валялись яркие обертки от жевательной резинки, окурки. Почему-то поэту хотелось подняться на Секирную гору по той самой лестнице, и, быстрым шагом проскочив необходимые несколько километров, он закружил внизу, поглядывая на храм. Никакой лестницы не было. Каменные белые ступени навсегда исчезли, срытые бульдозером много десятков лет тому назад, он понял это, наткнувшись на одну разбитую ступень. Лестница, с которой сбрасывали монахов, не существовала. Ее заменила узкая деревянная лесенка с другой стороны, достаточно, правда, отвесная для казни, но совершенно не впечатляющая по виду. Перильца, струганые ступенечки, дощатые площадки между пролетами. Лесенка была раза в три длиннее самого длинного московского эскалатора, притом не двигалась, и подъем занял время.
Когда он оторвал наверху руку от перил, ладонь была мокрой, и Олесь подумал, что кожа почему-то не просохла, что на руке вода черного озера. Он попробовал воду эту на вкус кончиком языка. Горечь и соль.
Храм в ближайшем рассмотрении оказался самый обыкновенный, каких тысячи, площадка вокруг храма ухожена, вылизана, но уже потоптана туристами. Здесь, наверху, не считая актеров, готовящихся к представлению, собралось человек сорок. Никто не пытался даже спуститься, все ждали спектакля.
– Девочки, помним главное! Помним главное, – длинные руки художественного руководителя, имени которого Олесь теперь никак не мог припомнить, метались на фоне храмовой стены. – Главное – держать спинку! Держим спинку, – он ударил в ладоши. – Поответственнее, все поответственнее отнеслись.
Знакомый уже, приевшийся, казалось, сопровождавший все последние сутки гул самолетного двигателя заполнил голову поэта. Блестящая точка опять висела над морем, и, отражая солнце, она будто незаметно приближалась.
«Ну и что же было главным? – подумал поэт, горло его перехватило. – Что же было главным?»
Он достал из кармана бутылку и двумя длинными глотками осушил ее. Коньяк был как ледяная вода. В голове от него прояснилось, и в ней не стало ни одной четкой мысли. Только гул самолета, только голоса скучающих туристов. Дальше Олесь действовал против своей воли, но по своему желанию. Так оказалось вдруг сильно желание изменить мир, переставить местами реальные предметы не в рисунке, не фломастером в блокноте, а в жизни, что не справиться с этим, не уйти.
Он бросил бутылку, и она легла в кустах рядом с грудой помятых консервных банок, в промасленную бумагу сухого пайка.
Потом он вытер все еще мокрую ладонь о плащ и поискал пальцами в воздухе вокруг себя. Он действовал, как слепой.
– Тебе нехорошо? – спросила, подступив сбоку, одна из прозрачных балерин.
– У тебя есть… – Олесь посмотрел на нее и осторожным движением пальцев отклеил у девушки со лба красную бутафорскую звезду. – Подожди минуточку, я тебе ее сейчас отдам!..
– Зачем?
– Хочется кое-что представить себе. – Он пристроил звезду к себе на шапку и, повернувшись, встал над узкою деревянной лестницей. – Подожди минуту! Я сейчас!
«Интересно, что мог раскопать здесь, на этом острове, муж тетки, муж Тамары Васильевны? Что здесь может быть?..» – и это была последняя его трезвая мысль.
Он ощутил себя стоящим на самом верху, над лесом, над морем, над сетью сверкающих озер, он стоял над монастырем, человек в сапогах и тяжелом кожаном плаще, в черной шапке, на которой горела красная звезда. И вдруг он почувствовал знакомое вдохновение, рука, желающая вынуть блокнот, нырнула под кожу плаща и вырвала пистолет. Палец привычно, хотя делал это впервые в жизни, никогда до сего момента Олесь не держал в руках боевого оружия, снял предохранитель.
Туристы, вероятно, полагая, что черная фигура над лестницей – это начало театрально-танцевального действа, перешептываясь и доедая сухие пайки, сконцентрировались за спиною его в полукруг. Только балетмейстер остолбенел и опустил руки. Танцовщица, у которой Олесь одолжил для шапки звезду, кончиками пальцев помассировала лоб, скатала кусочки клея. Она тоже испугалась.
Белая металлическая точка самолета гудела, висела в небе сверху, а снизу по желобу лестницы взбирались двое. Они хохотали, они тоже, как балетмейстер, размахивали руками. Капитан-директор, вероятно, рассказал только что своей сестре Валентине какой-то анекдот.
«Уголовники. Дети репрессированных… – как строка, вспыхнула мысль в голове поэта. – Воры, грабители, убийцы, разрушители порядка!..»
Валентина успела вскинуть голову, она находилась всего в одном марше от поэта, когда пуля ударила сумасшедшую воровку в правый глаз, и, моментально обмякнув, тряпичной куклой она полетела кувырком по ступеням вниз. Капитан-директор даже не пригнулся, он успел выпустить слезы, он успел осознать происходящее, но не совладал с улыбкой и умер с растянутыми глупо губами. На него тоже потребовалась только одна пуля.
Толпа охнула и отступила, рефлекторно, как одно существо, попятилась назад, под стену храма. Металлическая точка самолета моргнула, будто исчезнув на миг. И так же, как на пристани в Архангельске, звук мотора моментально исчез. Серебряная точка приближалась теперь без звука.








