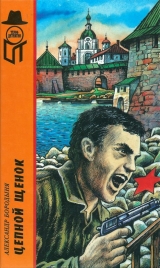
Текст книги "Цепной щенок. Вирус «G». Самолет над квадратным озером"
Автор книги: Александр Бородыня
Жанр:
Классические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 36 страниц)
16
На лестнице, поджидая Марусю, Олесь закурил. Она последней вышла из бара. Ей так и не удалось увидеть, как парня вытаскивают из-под стойки. Она прикурила от сигареты поэта, зло стряхнула пепел и сказала:
– Тебе не кажется, Олесик, – Олесиком она называла своего любимого только в состоянии сильнейшего раздражения. – Тебе не кажется, что вокруг очень уж много разношерстных событий? Все они вразнобой, и далеко не все имеют объяснения. Все они какие-то, – она пощелкала задумчиво пальцами, – бесцельные! Все они – какая-то морская дичь… – Она, пристально рассмотрев свою руку, вытащила из-под ногтя чужой черный волос. – Пойдешь на концерт?
– Почему нет?
– Вроде за бороду его не рвала, а волосы под ногтями! – Маруся, осторожно подцепив его кончиками красивых ногтей, положила волосок себе на ладонь. – Бедный изуродованный мальчик.
– Тобой изуродованный? – спросил Олесь.
– Дурак, он войной изуродован. А я его пожалела, я его выслушала. Он мне душу раскрыл.
– И что в душе?
– В душе пустой гроб и труп, который ввели на судно, выдав за пьяного. Но это не преступление, это без злого умысла. Они все это устроили, потому что поклялись вчетвером взойти… Ну, – она сдула волосок с ладони, – соответственно клятве и взошли.
– Было бы сложнее, если б они поклялись взойти трезвыми, – сказал Олесь. – А думаешь, приличный концерт?
– Думаю, мы уйдем, если нам не понравится. Все так скучно, все так бесцельно… А девочки в русском стиле танец скелетов под знаменами изображают. А насчет того, что они контрабандисты, давай плюнем… Приятные мальчишки, несчастные. Два наркомана и один алкоголик. Давай их пожалеем, а?
Уже спускаясь по ступенькам, Олесь сказал:
– Пожалеем?… Может быть, я их и пожалею, готов согласиться, жалость – очень качественное чувство, здесь, возможно, ты и права. Но цель цели – рознь. – Он резко обернулся, и Маруся увидела сверкающие, возбужденные глаза поэта. – Может быть, цель бытия – определение сознания! Может быть, все это лишь для того происходит, чтобы я проникся и написал поэму?!
– Хорошую? – голосом идиотки спросила Маруся.
– Самую лучшую. Гениальную. Все только для этого: все события, все несоответствия, все нагромождения. Все ради моей поэмы. Как тебе такая цель?
– Нравится! Ты знаешь, даже очень! – Маруся облизала губы, ей опять захотелось слегка забальзамироваться. Захотелось выглядеть на минуточку поярче. «Вероятно, для поэмы», – подумала она.
В небольшом зеркальном зальчике музыка жила своею закрытой жизнью, снаружи ее почти не было слышно, но уже при приближении к дверям физически ощущалось, как она отражается там внутри сама от себя и от всех стен. Воздух внутри залы-комнаты был какой-то тесный, вероятно, в результате сильного дыхания полусотни ртов и носов. Музыкальные звуки плавали, врезались друг в друга, втыкались звенящими шпагами в зеркала, они входили в уши, изгибаясь, оркестровка, как запутывающийся клубок, вертелась на месте.
Не пропускаемые дальше, Олесь и Маруся застряли в дверях, упругая человеческая масса пружинила и отталкивала назад на проклятую железную лестницу, на ковровую дорожку. На маленькой площадке в том конце залы-комнаты стояли черным частоколом худенькие прямые девушки в костюмах, разрисованных под скелеты. Перед ними, размахивая тощими, ненормально длинными руками, кружился человек в черном трико, кружился и орал что-то, для публики совершенно за музыкой недоступное. Наконец он замер, выпрямился, наградил публику коротеньким поклоном. Он ткнул пальцем в лоб ближайшей девушки стриженым ногтем, прямо в наклеенную на кожу алую звезду, все-таки накрыв своим голосом музыку, сообщил:
– Господа! – ноги его сделали па, похожее на какой-то тройной сумасшедший реверанс. – Господа, не стоит серьезно относиться, сегодня наша группа… Сегодня наш ансамбль… Ну в общем, господа, это только прикидка. Мы делаем прикидку… Собственно, подготовлена целая концертная программа. – У него были глаза больного шизофренией, полчаса назад удравшего из больницы и прицеливающегося ограбить газетный киоск. – Программа, посвященная памяти жертв Соловецких лагерей смерти. Кто-то, может быть, не в курсе дела этих жертв, но должен сообщить, там погибли миллионы. – Он закатил на секундочку от удовольствия глаза. – Миллионы! Миллионы невинных!
– Знаем… Знаем мы… Грамотные… Слыхали, – зашумели зрительские голоса. – Что мы в школу, что ли, не ходили… Ясное дело, невинным – память…
– Это своего рода эксперимент, – продолжал сумасшедший балетмейстер, опять приседая в реверансе. – Это прикидка. Основной концерт будет дан завтра на самом месте казни, на Большом Соловецком острове!..
– Ну Волчек, – шепнула горячими губами Маруся в ухо поэта. – Ну совсем такая же… Ну совершенно как ты! Он тоже вдохновения жаждет. – Ей очень хотелось уязвить, уколоть каждым следующим словом. – Слушай, Олесик, а может, это для него все устроено в природе, чтоб он хорошо сплясал. Для него, а не для тебя, понимаешь?
– Для него, – согласился Олесь, даже не профилировав смысла фразы. Девушки-скелеты заскользили по сцене, отражаясь во всех зеркалах и глазах, от этого у поэта сразу закружилась голова. – Кайф! – Он поймал руку Маруси и, не отрывая глаз от сцены, притянул к губам, жадно поцеловал. – Я тащусь, маэстро, как ты ныряешь!
– По-моему, противненько! – Маруся отняла свою руку и помассировала пальцами багровое пятно на запястье, образовавшееся от поцелуя. – Пойдем?
Она немного удивилась самой себе, удивилась тому, что не испытала на сей раз ни злости, ни раздражения. Олесь все же вошел внутрь в зеркальную залу-комнату, и двери закрыли, а она осталась стоять снаружи. Осталась, не ушла и не разозлилась даже. Сквозь закрытую дверь приглушенно доходила музыка, печальная и ритмичная, стоны девушек-скелетов, которые с натяжкой можно было бы назвать горловым пением, и всплески многих ладоней.
– Варвары! – пристраиваясь рядом с Марусей у зеленой металлической стеночки, посетовал устало отец Микола. Откуда он появился – из зала или спустился по лестнице, она не профилировала. – Если есть что-то большое, если есть что-то святое, обязательно им надо изуродовать, приуменьшить, обсмеять своими грязными ртами, не могут не испохабить!.. – и вдруг Микола спросил, наклонившись к Марусе, так что можно было ощутить запах из его разинутого маленького рта и разглядеть гнилые черно-коричневые мелкие зубы. – А вы не видели Шумана?.. Нигде не могу мерзавца нашего разыскать…
– За ужином его не было. И вас не было… – сказала Маруся. – А вы его не ищите, если он вам противен. Или он вам уже по делу нужен?
– Как сквозь землю провалился, – сказал Микола. – Как сквозь палубу! Вы правы, нужен по делу. Он моя болезнь, я к нему привык, и, если долго на глаза, подонок, не попадается, я себя неважно чувствую. Ведь неизвестно, что он там делает… – Маленькие ручки святого отца сдавились в маленькие темные кулачки. – Мне его очень, очень надо!
За закрытой дверью в зале снова раздались аплодисменты, на этот раз сильнее и подкрепленные мужскими голосами.
– Как вы считаете, скоро они? – Маруся поискала глазами настенные часы. Нужно было уйти, но почему-то хотелось дождаться конца.
– Стриптизерки! – сказал отец Микола и плюнул на ковер. – Скоро! Скелеты с себя снимут, задницу покажут, псалом пропоют, в колокол ударят, и – финал!
– А вы что, видели? – удивилась Маруся.
– Консультировал.
– Вы консультировали?
– Не духом единым! – По глазам было видно, что он немножко смутился. – Иногда приходится проконсультировать… Кроме того, что смог, то исправил, гадости все же немножко меньше.
Когда раздался действительно сильный звук колокола, Маруся не удержалась, шагнула к двери и приложилась глазом к тоненькой щели. Но за движением мужских затылков так и не смогла увидеть задницы стриптизерок.
17
«Казань» все же была огромна и тяжела. Пока царил на Белом море штиль, ее палубы ничем не отличались по своей устойчивости от бетонного пирса Архангельска, но когда пошла какая-то волна, под железом этих палуб отчетливее загудели могучие дизели, и все эти узкие и широкие плоскости, облицованные где деревянной плиткой, где ковром, где линолеумом, потеряли свою строгую горизонтальность и незыблемость. Образовывались под ногами какие-то наклоны и углы, где-то можно было быстро бежать, а где-то приходилось подниматься в гору. После концерта в бар возвращаться не стали и, довольно грубо распрощавшись с отцом Миколой, ринулись вниз в каюту. Маруся наконец сообразила, что именно удерживало ее возле дверей, для какой цели она ждала поэта. Даже не замкнув дверь на ключ, она притянула Олеся к себе. Губы горели и чесались, глаза сами собою зажмуривались, но когда поэт, ощутив всю силу жажды, начал расстегивать на ней одежду, дверь раскрылась. Скользя ногами по наклоняющемуся полу, – волна накрыла иллюминатор так, что можно было подумать, они находятся глубоко под водой, – Виолетта, размахивая все теми же широкими рукавами и создавая ветер, только чуть покраснев от смущения, объявила, что Тамаре Васильевне лучше, но сегодняшнюю ночь она все-таки проведет в медицинском отсеке.
– А завтрашнюю? – проглатывая горькую слюну, спросила Маруся.
– А завтрашнюю, вероятно, дома. То бишь здесь! Я говорю, лучше ей. Ничего страшного… Напрасно я всех перепугала, дурочка. Можно было таблеткой валидола обойтись.
«Нужно было к капитану-директору на кабанчика идти. Ну и что с того, что он вор, кабанчик-то настоящий. Ну и что с того, что именины липовые, можно все равно выпить, закусить и повеселиться, – размышлял Олесь, улегшись на свою полку, зажмурившись и настраиваясь на сон. – Правда, при такой качке лишнего оно лучше не пить. Небезопасно для рубашки и брюк!»
Что-то с неприятным звуком покатилось по полу каюты.
Олесь открыл один глаз и посмотрел. Он увидел, как Виолетта, почему-то очень симпатичная в желтом искусственном свете, прикрываясь желтой занавесочкой на своей койке, осторожно расстегивает одну за другой булавки и постепенно снимает с тела свой наряд, оказывается, состоящий из многих отдельных частей. Маруся спала на спине так крепко, что и ресницы не дрожат, устала. Раздевшись, Виолетта аккуратно все сложила и накинула на тело ночную голубую сорочку, она взяла книгу и уютно легла, подставляя почти молодое лицо под свет ночничка.
– Коньяка хотите? – желая ее смутить, спросил Олесь. У него из памяти никак не вычленялись скелетные стриптизерки из зеркальной комнаты.
– Да что ты! На ночь коньяк… – нисколько не смутившись, отозвалась Виолетта. – Утром, если предложишь, с удовольствием перед завтраком… – Она с шорохом перекинула страничку книги.
– Спасибо за заботу!
Отвернувшись к стенке, натянув на голову одеяло, прижавшись лицом к этой вибрирующей теплой переборке, Олесь попытался заснуть, но заснуть не вышло, вибрация впитывалась кожей, и не вылитый в женщину огонь мучил поэта. Он встал, решительно растряс Марусю и поволок за собою в коридор. Виолетта, приподняв занавесочку, посмотрела вслед закрывающейся двери, и кривая улыбочка изуродовала ее губы.
Душ оказался занят. Маруся судорожно кулаком терла глаза и тихонечко ругалась. Внутри в кабинке кто-то громко причмокивал, там лилась вода, и звонкие хлопки, вероятно, ладоней по голому телу напоминали давешние эротические аплодисменты.
– Ну? – спросила Маруся. – И как мы?
Приобняв ее за теплые плечи одной рукой, другой рукой сжав пальцы в судорожный кулак, Олесь ударил в дверь. Замок уже починили, и дверь только пружинила при ударах и гудела. Ждать пришлось еще несколько минут, после чего из душа вышел по пояс голый кавказец.
– Чего стучишь? Не видишь, один! Один я купаюсь! Одна говорит, не пойду с тобой купаться, трупа боюсь. Другая говорит, не пойду с тобой купаться, трупа боюсь! Я им говорю, послушай, какой труп, какой мертвец, глупости… Его там никогда и не было, а она, дура, все равно – боюсь! – Он жадно осмотрел с ног до головы Марусю и прибавил, уже исчезая за дверью своего номера: – Мало, деньги украли, так еще и трупа боюсь. Что он, труп, укусит тебя?
Заперев дверь изнутри (действительно поставили новый замок, хороший, такой простым нажимом не вышибешь), Олесь, совершенно уже потерявший всякий жар и желание, опустился на деревянную скамеечку и отупело уставился в стену. Он положил руки на колени, он уже пожалел о том, что сюда пришел, он хотел спать. Маруся же, напротив, только-только воспламенялась, она, раздеваясь, обошла мелким шагом обе смежные комнатки, осмотрела пристально. В нескольких местах зачем-то пощупала подрагивающие кафельные стены.
– Понять не могу, – сказала она бодрым голосом, избавляясь от белья и не глядя швыряя его на голову засыпающего поэта. – Зачем они старушку по башке стукнули – это ясно. Но зачем они сюда труп приволокли? Или они еще там, в Афганистане, поклялись на крови погибших товарищей помыться вчетвером на теплоходе, идущем по Белому морю в Соловки? – Пол качнуло, босые ноги заскользили по мокрому, но Маруся легко удержала равновесие. – Не складывается что-то… Совсем не складывается…
С трудом заставив себя подняться, поэт тоже разделся, вглядываясь в женское нагое тело, рассматривая и оценивая его изгибы, повороты и впадины, как произведение искусства, он все же пытался возбудиться, и в какой-то мере ему это удалось.
Маруся наладила воду и подставила под жесткие парящие струи сначала спину, потом грудь, потом опять спину. Она не хотела теперь мочить волосы.
– Как ты думаешь, куда они теперь его спрятали?
– Кого? – Олесь попытался ухватить ее за мокрую руку.
– Труп, неужели не понятно?
– В гроб, наверно, положили!
– А ведь точно! Молодец! Сообразительный мальчик!.. – Она подставила все-таки голову под душ, по лицу, повернутому к Олесю, потекла вода. – Ты помнишь, что объявили?
– Нет.
– Сейчас на корабле будет учебная пожарная тревога.
– И что нам это дает?
– А то! Если не попадаться на глаза команде, можно же заглянуть туда, в гроб, а? Как?
– Зачем?
– А тебе не хочется узнать, что в нем? Она звонко била в ладоши и подпрыгивала на раскачивающемся кафельном полу. Она уже успела намылиться и ускользала под растопыренными ладонями поэта.
– Мы узнаем, кто в гробу! – громко декламировала она. – Мы узнаем, что в гробу! Мы узнаем, зачем гроб!
«Лечить тебя надо, – подумал Олесь, все-таки притягивая к себе женское тело и затыкая орущие губы своими губами. – Лечить, милая!..»
18
Ровно в двадцать два часа репродукторы по всему теплоходу издали хрип, и после паузы, наполненной далеким дыханием, вежливый голос капитана-директора, вероятно, он уже съел своего поросеночка и хорошо притом выпил, сказал:
– Внимание! Господа и дамы! Прошу в течение ближайшего получаса во избежание травм и нервных расстройств оставаться в своих каютах. Те, кто в баре сидит, пусть не выходят. Ну да ладно, – добавил он будто сам себе, будто что-то отмечая параллельно в блокноте. – Бар мы заперли. Господа и дамы, на судне проводится учебная пожарная тревога. Я вас очень прошу, погодите ходить в туалет, не высовывайтесь!
– Виолетта Григорьевна, вы спите? – позвала в темноте Маруся, поднимаясь со своей полки. – Вы спите? – только убедившись, что соседка спит, уткнувшись лицом в раскрытую книгу, Маруся выскользнула вслед за поэтом в коридор.
Вероятно, по поводу пожарной учебной тревоги в коридоре выключили девять десятых ламп, отчего полутемное пространство показалось наполненным какой-то шевелящейся зеленью. Пол все так же покачивался, и быстро двигаться не получалось, отчего часть решимости моментально была утеряна.
– Куда? – шепотом спросила Маруся. – Как ты думаешь, где он может официально размещаться?
– Кто? – еще более тихим шепотом отозвался поэт.
– Да этот, гроб с покойником.
– Гроб?
– Он! – Чтобы скрыть судорожный смешок, Маруся зажала себе рот ладонью. – В общем, понятно. – Она, напрягая глаза, смотрела в зеленоватую полутьму коридора. – Здесь совсем близко. Холодильный трюм. Дверь в конце следующего коридора. Иначе зачем героям Афганистана селиться в четвертом классе?
– Зачем?
– К приятелю поближе! – Маруся потянула поэта за собой. – Пошли, пошли…
За дверью кавказца довольно громко хихикали неприличными голосами девицы, за дверью «афганцев» царила тишина. Олесь, все-таки приложил ухо к полировке и, к своему удовольствию, услышал пьяный храп.
– Тебе не страшно?
– Нет, просто спать хочется. Где твоя дверь?
– Сюда. Они прошли до конца коридора, поднялись немножко вверх по лесенке под надписью «Служебный проход» и остановились перед белой металлической дверью. Дверь оказалась заперта, и нажатие на длинную ручку ничего не дало.
– Ну и как теперь?
– Погоди! – Маруся вынула из волос шпильку, вынула изо рта специально взятую жевательную резинку, быстрым движением замазала скважину жвачкой и воткнула в нее шпильку. С силой крутанула. Замок негромко, но отчетливо щелкнул. – Прошу вас! – растворяя дверь и делая шикарный реверанс, сказала Маруся, распахивая дверь и пропуская поэта вперед.
Дальше была полная темнота. Слабый свет лампочки над лесенкой совершенно не разрушал мрака.
– А я не знаю, как здесь без фонаря!..
Отодвинув поэта, Маруся сделала несколько шагов и, пошарив какое-то время по стене, нашла выключатель, как и полагается, он был справа на высоте среднего человеческого роста. Маруся была в упоении, она настолько вошла в роль, что делала все не только с неестественной уверенностью, а точно и быстро. Ни единой ошибки.
Вспыхнули лампы все сразу, огромные, белые, открылся узкий длинный проход с металлическими крашеными стенами.
– Пошли! – сказала она и опять подтолкнула слегка замешкавшегося поэта. – Пошли, мы уже почти у цели.
– У какой цели?
– Наша цель, если я правильно поняла, – материал для поэмы. Мне кажется, мы уже в ее сердце.
– В чьем сердце?
– В сердце поэмы!
– Дура!
– Не хочешь – не ходи. Останешься без центрального стиха.
Выпуклые белые двери холодильных камер немного напугали и отрезвили Марусю. Она, до того передвигаясь веселым порывистым шагом, пошла между ними, расположенными с двух сторон на расстоянии трех метров друг от друга, осторожно, почти на цыпочках. Двигатели здесь чувствовались сильнее, чем где бы то ни было в другом месте. Иногда от вибрации просто подбрасывало ногу, сбивая с шага.
– Это где-то здесь! – сказала Маруся и снова облизала губы. – Будем открывать их все по очереди!
– Чего ты все время облизываешься? – спросил Олесь, потянув за ручку ближайшую дверь.
– Хочу быть красивой.
Холодильник распахнулся легко, но с неожиданным противным скрипом, и тут же по ушам ударила сирена. В холодильнике лежали аккуратной кучей заиндевелые окорока. Сирена нарастала. Олесь захлопнул дверцу.
Вероятно, разнесенный вентиляцией по всем палубам, едкий дым учебного пожара коснулся чутких ноздрей поэта. Сирена не унималась, но откуда-то из невидимого репродуктора в добавку к ней слышались лающие слова команд.
Олесь распахнул следующую белую дверь. Не сразу оценив правильно то, что увидел, поэт подался назад и чуть не упал. В холодильной камере сидел, нахохлившись, живой человек. Он замерз, и его била сильная дрожь. Он смотрел на поэта маленькими глазками и подмаргивал.
– ВНИМАНИЕ! ОЧАГ ПОЖАРА НА ЧЕТВЕРТОЙ ПАЛУБЕ В РАЙОНЕ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК! – лаял невидимый динамик. – ВНИМАНИЕ! ПОЖАРНАЯ КОМАНДА СРОЧНО ДОЛЖНА СПУСТИТЬСЯ НА ЧЕТВЕРТУЮ ПАЛУБУ!
– А вы чего тут? – спросил Олесь. – Интересно устроились?
Давясь от Смеха, Маруся опять чуть не сделала реверанс, приседая на наклоняющемся, вибрирующем полу.
– Микола! – сказала она. – Святой отец, позвольте вас спросить?..
Религиозный фанатик угрюмо взглянул на нее из недр холодильной камеры, подморгнул и сделал нервный жест заиндевелой рукою в тонкой кожаной перчатке, дескать, закройте дверцу.
– И все-таки? – настаивала Маруся.
– Я его жду. Шумана! – недовольным голосом объяснил Микола. – Он, по моим расчетам, обязательно должен воспользоваться учебной тревогой и заглянуть в гроб.
– Значит, гроб был здесь, мы его со второй попытки угадали.
– Был здесь!
– А где же он теперь?
В коридоре за спиной загрохотали шаги. Микола снова дернул рукой в перчатке, притом скривив просительную жалкую гримасу, и поэт захлопнул холодильник.
– Нужно спрятаться! – сказал он.
– А что они нам могут сделать? – возразила Маруся. Оба они остановились, повернулись на месте и сразу увидели, что в коридоре нет никаких матросов, желающих потушить учебный пожар и разматывающих пожарную кишку, в коридоре между выпуклых дверец появился еще только один человек, человек, с которым Олесь провел почти час за беспочвенным разговором, попивая минеральную воду. Посмотрев на парочку и нисколько не заинтересовавшись и не смутившись, полковник КГБ Шуман стал один за другим распахивать холодильники. Дымом запахло сильнее. Когда полковник потянул за ручку того холодильника, где сидел отец Микола, Маруся хотела крикнуть, предупредить, но не успела.
Дверца распахнулась. В ярком свете ламп мелькнуло что-то короткое, металлическое. Шуман неприятным голосом всхлипнул и повалился на пол. По разбитой его голове стекала кровь. Отомстив таким странным образом за целый самосвал утопленной церковной литературы, святой отец перескочил через распростершееся на полу тело, поддернул побелевшие от инея костюмные брюки и моментально исчез в проходе.
Дым плыл волнами между поблескивающих металлических дверей.
– Ну и где мы теперь будем его искать? Как мы теперь определим, в какую камеру этот псих гроб переставил?
– А что-то хорошо горит! – не отвечая поэту, Маруся потянула носом. – Как ты думаешь, могли эти психи в учебных целях теплоход подпалить?
Полковник, хватаясь за окровавленную голову, сел в дыму, глаза его вылезали из орбит, вероятно, от боли, он озирался. Явно он не понимал, где находится и что произошло. Налицо был классический случай амнезии.
– Которое теперь число? – склоняясь к нему, спросил Олесь.
– Четырнадцатое сентября.
– Правильно. А год какой?
– Восьмидесятый.
– А во время Олимпиады много народу арестовали?
Шуман посмотрел на него как-то вдруг иначе, в неподвижных его больных глазах будто крутились цифры.
– Нет, – сказал он. – Другой год. Совсем другой. – Он и второй рукою взялся за голову. – Никого не арестовали, ни одного человека не тронули. Не было указаний!
Потеряв всякий интерес к полковнику, на глазах возвращающемуся к тяжелой реальности из своего героического прошлого, Олесь и Маруся кинулись подряд открывать все холодильники. Им повезло, нужную камеру они обнаружили за пять минут до того, как появились в коридорчике матросы с брандспойтами и огнетушителями.
Олесь потянул за ручку. Скрип. Екнуло сердце поэта. В черном проеме холодильной камеры стоял оцинкованный гроб. Последнее убежище бойца-интернационалиста будто светилось. Дым вокруг густел. Полковник громко заматерился, перекрикивая репродуктор, но подняться на ноги еще не мог. Поэт ощутил приступ вдохновения. Теперь он дышал ритмично, рывками отплевывая горький дым, он дышал ртом, и сердце его билось до боли сильно.
– Ну! – Маруся подтолкнула поэта. Тот вскочил внутрь холодильника и, ни секунды не поколебавшись, ухватил пальцами за край и приподнял никак не закрепленную крышку гроба. Маруся даже испугалась, поэт тут же отшатнулся назад, уронил крышку. На его лице можно было прочитать горькое разочарование.
– Что там? – спросила Маруся. – Что в нем? – она показала тоненьким пальчиком. – Скажи, а?
Поэт пожал недовольно плечами, отряхнул ладонь о ладонь и спрыгнул на пол.
– Ерунда собачья, – сказал он. – Обыкновенный покойник.
– Какой покойник?
– Какой же, как положено, в пилотке со звездочкой. Вся грудь в медалях. Замороженный ветеран и больше ничего. Обидно, знаешь. Ищешь, ищешь чего-то душещипательного, а находишь замороженного ветерана.







