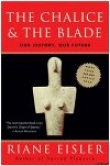Текст книги "Чаша терпения"
Автор книги: Александр Удалов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 25 страниц)
– Молодец! Ты меня выручишь. Ты хранитель моего счастья! Смотри у меня!
И похлопывал при этом его по крышке.
Кроме сундучка да табакерки были у него еще отцовская тюбетейка да сатиновый бельбаг – поясной платок. Надевал он их только по каким-нибудь особо торжественным случаям, когда уходил из кузницы.
Табакерку ему было очень жаль. Курбан сидел перед ней на корточках, собирал с земли табак в черную ладонь, стонал и качал головой.
«Желтая птица… Золотой мне кинул… А сам… Жизнь хочет отнять у меня… Желтая птица, – шептал он сухими губами. – Табакерка, что же… Можно другую купить. Убай – старьевшик – ездит на своей тележке, у него есть очень хорошие… Но ведь эту отец оставил, – вот что жалко. И табачок тоже рассыпался… Теперь и под язык заложить нечего. Желтая птица! За счастьем сюда приехал… Нет, ты его не получишь! У меня тоже сундучок есть. Он с твоим богатством сравниться не может, конечно… Ты можешь дать Юнусу два сундучка… три! Слушай, Желтая птица, если ты это сделаешь, я убью тебя! И Юнуса убью… И ее убью… Да… Это я, кузнец Курбан, тебе говорю, «чумазый», «собака».
– Курбан! Да ты оглох, что ли?! Что ты там делаешь?!
Кузнец поднял голову, посмотрел на дорогу. Там, легкий на помине, стоял старьевщик Убай со своим ишаком и двухколесной тележкой.
Курбан молча поднялся, подошел к нему.
– 'Подкуй, братец, моего рысака на обе передние, пока еще светло. А то в Ташкент еду за товаром. Дорога дальняя. Собьет копыта.
Кузнец молча взял у него из рук короткую толстую камчу, вдруг размахнулся и хлестнул ишака по спине. Тот согнулся, скосил свой мосластый узкий круп, но все-таки двинулся с места. Курбан снова размахнулся и, прежде чем Убай успел остановить его руку, еще несколько раз хлестнул ишака камчой, в ярости попадая ею то по спине, то по оглоблям.
– Постой, что ты делаешь, Курбан?! Ты одурел? – не закричал, а почему-то зашептал старьевщик, стараясь дотянуться и поймать руку, которую кузнец снова поднял над головой.
– Уезжай, слышишь! Ничего я тебе ковать не буду! И никому не буду. Уезжай!
– Курбан, что с тобой? Разве я тебя чем-нибудь обидел? – продолжал скороговоркой шептать старьевщик, растерянными бегающими и испуганными глазами смотря снизу вверх на широкие крепкие плечи и гневное лицо кузнеца, кое-где испачканное сажей, то оглядываясь на своего осла, который уже далеко увез тележку.
– Слышишь, Курбан?! Скажи, за что ты на меня?..
– Уезжай. Не на тебя.
– Так, может, ты больной? Я останусь у тебя ночевать!
Курбан кинул ему камчу, повернулся и устало, еле передвигая ноги, пошел в кузницу.
Убай постоял, посмотрел недоуменно ему в спину и побежал догонять тележку.
– Эй! – закричал вдруг Курбан, остановившись, глядя бегущему Убаю вслед. – Убай, слышишь?
– А?.. – Убай остановился.
– У тебя табак есть?
– Есть.
– Постой!
Курбан подошел к тележке, взял ишака под уздцы, провел ладонью по морде, потрепал за длинные уши, потом, продолжая держать его под уздцы, повел к кузнице.
Хозяин покорно шел сзади.
– Распрягай, – сказал ему Курбан, когда они остановились у кузницы возле столба, к которому привязывали лошадей для ковки, и бросил в руки Убаю повод.
– Зачем? – спросил Убай. – Если подковать… Мне ведь еще далеко ехать. А уж ночь на дворе.
– Распрягай, – повторил Курбан, не отвечая на его вопрос. – Я пока подковки подберу да подкую твоего жеребца ретивого, а ты тем временем сходи вон через дорогу да нажни ему хоть осоки, что ли, на ночь. – Курбан сидел на корточках и гремел железом, подбирая подходящие подковы. – Тележку-то твою надо прямо в кузницу закатить. Надежнее будет. Хоть и нет никого, а все-таки надежнее. Какой-никакой, а товар.
– Эх, Курбан, что у меня за товар, – говорил Убай, распрягая своего «коня». – Слезы одни, а не товар. Иголки, свистульки детские глиняные, табачку намного, пузырьки для насвая…
– Пузырьки? А горляшек-то нет разве для табака?
– Да есть и горляшки.
– Мне надо подобрать у тебя одну.
– А где же твоя-то?
– Раздавил, шайтан бы меня задрал! Сам ногой наступил. Вот я и злой поэтому.
– Разве можно из-за такой мелочи злиться, грех на душу принимать?! Да я тебе так дам ее, бесплатно, табакерку эту самую. Подарю. Есть тут у меня одна, хороша, уж больно хороша!
– Да ты не подумай, Убай, что я из-за скупости. Знаю, говорят про меня люди… А злой я не из-за того, что табакерку раздавил.
– Погоди, погоди. Ты же сказал, из-за этого.
– Да нет.
– Ну, а из-за чего же?
Курбан помолчал немного, потом отозвался нерешительно:
– Да как тебе сказать… Табакерка-то у меня, конечно, была не простая…
– А какая же? Золотая?
– Не золотая, а она мне как память от отца осталась.
– От отца или не от отца, а злиться из-за такой ерунды не надо, Курбан. Нехорошо. Скупость твоя тебя до добра не доведет.
Убай взял серп и ушел жать траву.
После всех дел они разостлали перед кузницей вместо скатерти белый поясной платок Курбана и сели ужинать. Курбан принес из-за перегородки в глиняной чашке кислое молоко, две ячменные лепешки. У старьевщика Убая нашлась щепоть зеленого чая, кукурузная лепешка и нават, завернутый в тряпицу, как сокровище. Макая в кислое молоко кусок лепешки и прихлебывая изредка через край, старьевщик все косился взглядом куда-то к порогу. Наконец он не выдержал, поднялся, шагнул и вдруг воскликнул, быстро склонившись и выпрямившись:
– Аллах многомилостивый! Смотри, что я тут у тебя нашел! Ты видишь? Золотой! Это ведь золотой.
Гляди. А я смотрю, что это там блестит. Смотрю, а сям не верю.
Убай подскочил к Курбану, бросился возле него на колени и протянул ему на ладони золотой.
– Гляди. Не веришь?! Ну, гляди же!
Курбан отвел его руку, хмуро продолжал хлебать молоко.
Убай опешил, секунды две глядел на него круглыми глазами.
– Ты что? Это твой. Я себе не возьму, не бойся, – сказал он, волнуясь.
– Возьми себе, – спокойно проговорил Курбан. – Ты нашел, ты и возьми.
– Зачем? Аллах тебе счастье послал, не мне. Возьми.
– Не возьму. Я его проклял.
– Кого? – отшатнулся Убай.
– Золотой этот.
Теперь Убай долго смотрел на Курбана молча, присев на пятки. Молчал и Курбан, продолжая есть молоко.
– Ты ведь зарабатываешь себе по копейке. Бьешься, как рыба об лед. А этот золотой брать не хочешь?
– Не хочу. Возьми себе.
– Курбан…
– Что?..
– Ты не заболел ли?
– Нет, не заболел.
– Тогда расскажи, что тут у тебя стряслось?
– Ничего не расскажу. И ничего не стряслось.
– Теперь я понимаю, почему ты…
– Ну, хватит, Убай. Спрячь свой золотой и садись пить чай.
Больше они не разговаривали. После ужина Убай постелил себе возле кузницы, у порога, старый половик, который нашелся у него в тележке, и лег спать, закрыв голову какой-то женской кацавейкой, чтоб не кусали комары. Курбан тоже было улегся за своей перегородкой, но на дороге снова послышался дробный топот копыт и громкие голоса. Курбан быстро поднялся со своей жесткой постилки, прислушался к голосам. Сердце, как набат, тревожно, гулко стучало в груди. Да, это опять был он, Желтая птица, возвращался обратно со своими спутниками. Бесшумно, большими прыжками, как тигр, выскочил Курбан из-за своей перегородки и встал у порога, шумно дыша. Даже Убай, видно, почувствовал что-то недоброе и, приподняв над головой кацавейку, спросил спросонок испуганно:
– Ты что, Курбан? Все не спишь? Ложись, дорогой! Мало ли их тут ездит по дороге.
Но Курбан даже не успел взглянуть на всадников: когда он выскочил, они уже проехали.
– Спи, Курбан, спи. Ты рабочий человек, тебе ведь рано надо вставать, – сказал Убай и опять укрыл голову кацавейкой.
Но Курбан еще долго стоял возле кузницы, слушал, как стихали вдали ненавистные голоса, потом и стук копыт замер, оборвался. Курбан зачем-то все-таки пошел к дороге, но, должно быть, раздумал, вернулся, вытащил из колодца ведро воды и вдруг залюбовался тем, что увидел: ведро было полно до краев серебряными искрящимися звездами и синевой, словно он зачерпнул его не в колодце, а в небе, усыпанном звездами. Курбан плеснул немного себе на босые ноги и вместе с водой, точно рыбка, скользнула звезда через край. Курбан посмотрел на землю – нет ничего, глянул в ведро – она опять там, у самого края.
Курбан забавлялся, как ребенок: то плескал и ловил из ведра ладонью падающие звезды, то снова с улыбкой заглядывал в ведро. Наконец он припал губами к краю ведра и долго, как конь, пил прозрачную сахарную воду. Потом поднял голову и снова плеснул себе на ладонь.
– Ах, если б видела Тозагюль это чудо! Почему ее нет здесь со мной? Желтая птица… да… – шепотом, чуть слышно произнес Курбан и глубоко вздохнул.
– Я здесь… И пить хочу тоже, – раздался за его спиной тихий голос.
Курбан так резко обернулся, что задетое ведро с грохотом полетело в колодец, а Убай снова осторожно приподнял над головой свою кацавейку. Там, у колодца, где загремело ведро, он увидел Курбана и рядом с ним (о счастье! Убай был добрый человек и всегда желал людям счастья) – невысокую девушку в темном платье. Убай не рассмотрел хорошенько, но, кажется, оно было вишневым и на спину по нему свисало из-пол платка множество тонких длинных косичек с серебряными монетками на концах. Курбан так стремительно рванулся к девушке, что Убай испугался: он раздавит ее своими ручищами, если обоймет. Но Курбан тихо взял ее за руки, и они, кажется, о чем-то пошептались. Потом Курбан достал из колодца полное ведро воды, она напилась из ведра, и они стали вместе, рядом, голова к голове, смотреть в ведро и опять о чем-то шептались. Иногда они наклоняли ведро и проливали воду себе на ноги, иногда подставляли ладони и ловили зачем-то воду руками. При этом они тихо смеялись, счастливые, и Убай немел от удивления под своей кацавейкой: «Ай, Курбан, ай, Курбан! Такой парняга, а такой ребенок». Может быть, он это произнес вслух, потому что Курбан вдруг встрепенулся, молча взял девушку за руку, и они тотчас исчезли.
3
Как ни рано вставал Курбан (а вставал он всегда еще затемно, когда только нижний край неба на востоке чуть начинал бледнеть над камышами) да и то, поднявшись на другое утро и выйдя из-за своей перегородки в кузницу, он увидел, что уже нет ни Убая, ни его тележки, ни осла, который всю ночь стоял привязанный тут же, возле хозяина, – Убай специально для него вбил здесь колышек в землю и привязал его к этому колышку. Значит, крепко Курбан уснул перед утром, если даже не слышал, как Убай запрягал своего осла в тележку и как уехал.
Рано он уехал, очень рано.
Курбан тронул босой ногой холодное железное кольцо, которое торчало из земли, нагнулся и хотел выдернуть колышек, да раздумал: пригодится, пожалуй, привязывать лошадей, когда одну куешь, а другая ждет своей очереди. Ведь для этого и сделал Курбан несколько таких колышков с кольцами, да не вбивал их прежде, – хватало и одного столба привязывать лошадей. А чтоб работы было так много, чтобы потребовалось вбивать колышки в землю, – этого никогда не случалось.
Но вот чудо! Сегодня это случилось. Назавтра в Ташкенте был базарный день, и с раннего утра по дороге пошли караваны, заскрипели арбы, поехали верховые группами и в одиночку с богатыми и бедными хурджунами через седло, кто с яркими ковровыми, кто с серыми грубыми из мешковины. И кажется, все останавливались возле кузницы, кому было надо и кому не надо. Еще рано утром, когда Курбан не успел выпить пиалу чая и съесть лепешку, подъехало сразу трое верховых; оказалось, что им всем надо подковать лошадей. Немного погодя подъехал еще один, у которого хромала лошадь на левую переднюю, видно, какой-то кузнец, подковывая ее, забил гвоздь слишком глубоко, и он через копыто вошел в живое мясо, и теперь надо было ее перековать. Потом подкатили русские дрожки под простеньким из белой простыни пологом, кое-как державшимся на палках и на шпагате. На дрожках, впереди белого полога, сидел мужик лет тридцати пяти, с красивой каштановой бородой, в легкой каламянковой фуражке; позади него, поставив ноги на подножку и прикрыв их подолом длинной, со сборками черной юбки, сидела совсем еще юная девушка, с интересом глядевшая из-под полога веселыми, оживленными глазами.
– Вот, Надежда Сергеевна, Безымянный курган. Я вам о нем поминал, когда мы выехали из Ташкента. Мне случалось тут отдыхать года четыре тому назад, когда еще в солдатах служил. Здесь, изволите видеть, кузница и колодец есть с хорошей водой, – говорил мужик, сидя на дрожках и полуобернувшись к девушке. – Принести вам водички али сами желаете поразмяться?..
– Я сама, Кузьма Захарыч, не беспокойтесь.
– Какие могут тут быть беспокойства, Надежда Сергеевна? Давайте посудинку вашу собственную, я вам сюда принесу водички-то.
– Да нет, я сама, – отчего-то покраснев, сказала Надежда Сергеевна.
Она слезла с дрожек, постояла, осматриваясь. Затем, слегка придерживая рукой черную сборчатую юбку, подошла к кузнице. Здесь были разные люди: и босые батраки, в белых по колено домотканых штанах и белых длинных рубахах, подпоясанных скрученными платками – бельбагами, черноусые, чернобровые, в засаленных тюбетейках на гладко выбритых головах: каждый правоверный мусульманин должен брить голову, так велел пророк; и какой-то человек в зеленом халате и зеленых сафьяновых сапогах на высоких подбоях, державший свою лошадь под уздцы; и толстощекий, обливающийся потом мулла в стеганом ватном халате, с чалмой на голове, в ичигах и калошах, несмотря на пыль и жару, с достоинством восседавший на своем равнодушном осле.
Надежда Сергеевна приветливо на всех посмотрела, сказала по-русски:
– Здравствуйте!
– Ассалам алейкум! – ответили ей батраки, а мулла молча покосился на молоденькую девушку, сузив черные глаза.
Курбан, разогнув спину и вытерев кистью руки пот со лба, не выпуская при этом молотка, радостно и светло улыбнулся, поглядел на Надежду Сергеевну и ответил ей по-русски, сильно коверкая слово:
– Издраст… Издраст…
Надежда Сергеевна обрадовалась и поспешно заговорила:
– Вы знаете русский язык?.. Ах, как это приятно. Ведь вы простой кузнец, а вот знаете же по-русски. В таком случае, давайте знакомиться.
Она протянула ему руку ладонью вверх, улыбнулась.
Курбан растерялся, молча перевел взгляд с ее руки на приветливое лицо.
– Ну?.. Меня зовут… Надежда Сергеевна… Или просто… Надя. Надя Малясова. Здравствуйте, – повторила она.
Курбан бросил молоток и порывисто протянул ей свои черные, сильные, обнаженные до самых плеч руки, бережно, осторожно, словно пойманную птаху, прикрыл ее маленькую ладонь своими огромными лапищами.
– Ой, какой вы сильный, – засмеялась Надежда Сергеевна.
Потом она подошла к батракам, молча стоявшим у колодца в тени единственного тутового дерева, и тоже протянула им руку.
Я сестра милосердия. Из Петербурга. В Петербурге окончила курсы сестер милосердия и попросилась сюда, к вам, в Азию. Сейчас я еду в Яркент. Говорят, там повальная малярия. А среди вас никого нет больных?.. А в ваших семьях?..
Надежда Сергеевна спрашивала так, словно получала на свои вопросы ответы. Но люди ничего не отвечали. Они слушали эту красивую северянку, невпопад кивали головами и отчего-то краснели, как дети.
Когда она подошла к человеку, гордо восседавшему на осле, он презрительно отвернулся от нее, затем что-то сказал батракам – коротко, резко. Они еще раз по очереди приложились губами к краю ведра, напились воды и пошли на дорогу. У каждого из них на спине за поясом торчал серп, и всем стало ясно без слов, что мулла, тронувшийся вслед за ними на своем осле, нанял их на работу.
Надежда Сергеевна напилась колодезной воды, зачерпнув из ведра толстой глиняной пиалой, которую ей подал Курбан. Наконец они сели с Кузьмой Захарычем на дрожки и поехали.
Курбан долго смотрел на них из своей кузницы, потом смахнул пот со лба, вздохнул.
За весь день ему некогда было даже съесть лепешку, но, несмотря на это, Курбан был весел и бодр, и силы в нем было столько, что он заспорил с проезжим дехканином и хотел поднять на себе мерина. Прямо так вот пригнуться, пролезть мерину под брюхо и поднять на спине. Но дехканин испугался, что Курбан действительно поднимет лошадь, и не стал спорить, под общий хохот окружающих взял с пола свой двугривенный и уехал.
Поздно, в сумерках, Курбан расстелил перед кузницей свой белый поясной платок и сел ужинать. Но не успел он разломить лепешку и положить в рот первый кусок, как пришел Юнус. Курбан заволновался, вскочил, усадил Юнуса за свой скромный дастархан.
– Ты совсем нас забыл, Курбан, не приходишь, – упрекнул его Юнус.
– Некогда, дядя Юнус, – потупился Курбан. – Один, без помощника, работаю. Хоть бы какого-нибудь мальчонку мне… А то и к горну, и к наковальне, и меха раздувать – все один.
– Да, нелегкий твой труд, Курбан. Вижу. Но зачем ты себя так убиваешь?
– Деньги нужны, дядя Юнус.
– Зачем?
– Пока не скажу.
– Может, хочешь купцом стать, лавку открыть?
– Не допытывайтесь, дядя Юнус. Не скажу.
– А много ли накопил? Может, хватит?..
– О чем это вы?
Юнус помолчал, отпил из глиняной пиалы глоток чаю.
– Не убивайся так. Не изнуряй себя. Не надо, сынок.
– Да я ничего, дядя Юнус. Здоровый.
– Ну и дай бог. Прощай пока.
Юнус ушел, а Курбан долго сидел в одиночестве, забыв про лепешку, про чай, про то, что он ничего сегодня не ел, сидел скрестив под собою ноги и все думал какую-то свою, очень нелегкую думу. Наконец он вздохнул, поднялся, достал из заветного места свой зеленый сундучок и принялся считать деньги.
4
Минуло лето. Прошло, как один день, будто солнце всего раз обошло свой полукруг и опустилось за горизонт.
Все чаше хмурилось осеннее небо, все холодней и темней становились ночи.
Тракт опустел. Редко-редко лениво проскрипит арба, не задерживаясь возле кузницы; проедет мимо верховой, поторапливая свою лошадь камчой; просеменит на ослике грузный человек в чалме, и все едут мимо, мимо. Никто не хочет ни студеной прозрачной воды попить из колодца, никому не надо ни арбы чинить, ни ковать лошадей. Все спешат, все куда-то торопятся – домой, видно, попасть поскорее до непогоды. Лишь не спешат верблюжьи караваны, идут все той же размеренной поступью, тихо, неслышно, как тысячу лет назад. Унылому звону жестяного колокола, висящему на царственной шее переднего верблюда на широкой ковровой лепте, вторит испуганный и частый голосок бубенца или медного колокольчика позади каравана, и по этому перезвону Курбан всегда может сказать – и в полночь, когда лежит, укрывшись халатом за своей перегородкой, и днем, когда сидит, набросив на плечи халат, скрестив ноги и руки, – далеко ли караван или близко, большой он или маленький. Долго-долго слышится в осеннюю пору звук караванного колокола, далеко-далеко…
Зато чаще стали заходить к кузнецу батраки, прогнанные с байских дворов, и в длинных разговорах с ними Курбан коротал скучное осеннее время. Дума у всех была одна: когда сгинут эти проклятые баи и человек за свой труд получит по справедливости то, что он заработал?!
– А то ведь получается так: кто не работает, тот и роскошествует, а кто трудится, как вол, вспахивающий омачом рисовое поле, тот босой и голодный. Когда это кончится? Когда настанет справедливость? – спрашивали Курбана.
– Умные люди говорят, что будет такое время, – отвечал Курбан.
– А где эти умные люди? Ты их видел? Кто они?
– Я ведь тут при дороге живу, сами видите. А по дороге кто не ходит? Все ходят – и умные, и глупые.
Как-то беседу эту прервал Юнус. Он пришел, присел было к общему кругу, выпил ради вежливости глоток чаю, но тотчас поднялся, шепнул Курбану на ухо:
– Решай.
– Что решать, дядя Юнус?
– Зайди сейчас ко мне. Поговорим.
Курбан никого не потревожил из тех, кто сидел у него в кузнице, – как сидели в кругу, так и остались, – а сам ушел вместе с Юнусом.
– Смотри, какой я стал богатый, – сказал Юнус, когда они подошли к мазанке, указывая на привязанного у порога большого горбоносого барана. – А вот еще, – добавил он, входя в полутемную комнатенку и похлопывая ладонью тугой мешок с рисом, стоящий у стены. – Что скажешь, сынок?
Курбан стоял и почему-то все не мог оторвать взгляд от мешка с рисом.
– Дядя Юнус… – сказал он и опять замолчал. У него вдруг пропал голос; Курбан почувствовал это и взял себя за горло, но голоса не было Он вцепился в свой бельбаг и уронил голову на грудь.
Юнус вышел, но тотчас вернулся с чайником чая.
– Садись. Выпей чаю. Успокойся.
Курбан сел, отпил глоток, поставил пиалу на место.
– Значит, свадьба, дядя Юнус?
– Не знаю. Вот хочу с тобой посоветоваться. Ей ведь только шестнадцать лет. И я сказал ему это.
– Что… вы сказали?
– Что надо подождать…
– Это… Желтая птица?
– Да. Он присылал ко мне сватов… Потом сам приезжал. Ты знаешь.
– Я видел его.
– Он дает калым… несметное богатство. Я пока ничего не взял. А он, вот видишь, прислал подарок – барана и мешок рису.
– Дядя Юнус… Вы любите Тозагюль. А она, знаю, ненавидит Желтую птицу. Она любит другого…
– Она мне сказала.
– Дядя Юнус… Ради вашей дочери… Ведь вы ее любите… Подождите еще год… один год… Или я убью Желтую птицу!
– Тозагюль мне тоже это сказала…
– Сказала? Что?
– Что она убьет его…
– Тогда подождите год. Один год!
– Зачем?
– Я заплачу вам калым. Ведь вы же знаете, что я коплю деньги.
Юнус молчал, глядел на свои скрещенные ноги.
– Иль вы не верите мне?
– Что?
– У меня есть… Я накоплю еще…
Юнус не ответил, кряхтя, поднялся с паласа, взял пустой чайник, вышел.
Немного погодя он вернулся, опустился на прежнее место, принялся переливать из чайника чай в пиалу, а потом обратно.
– Так лучше заваривается, – сказал он, словно Курбан этого не знал.
– Дядя Юнус… Ну я прошу вас… как отца прошу…
– А может, хватит копить? Помнишь, я говорил тебе еще летом. Ты тогда не понял?
– Понял я. Подождите год. Я заработаю еще.
Юнус помолчал, не спеша налил в пиалу чаю.
– Он не даст нам покою. Будет присылать нам подарки.
– Как же быть? Значит, Тозагюль выйдет за него?
– Я этого не сказал. Я сказал: хватит копить деньги. Вы мои дети: Тозагюль – дочь, а ты – сын. Об этом мы говорили еще с твоим отцом Ахмедом. Мне не надо с тебя калым. Готовься к свадьбе, Курбан.
– Дядя Юнус…
– Я сказал, Курбан: вы – мои дети. Готовьтесь к свадьбе. Бери Тозагюль.