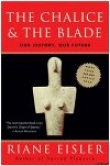Текст книги "Чаша терпения"
Автор книги: Александр Удалов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 25 страниц)
Надя заметила, как парень, шагавший в первой шеренге, вдруг снял с себя фуражку и попытался пристроить на свою густую шевелюру тюбетейку карнаиста, которую нес в руках. Но тюбетейка не держалась на его черных вьющихся цыганских волосах, он снял ее и снова надел фуражку. Надя успела заметить, как по ту сторону колонны высокий, худой, сутулый батрак показывал русскому рабочему, шедшему с краю, свои мозолистые ладони, развернув их перед ним то обе вместе, как книгу, то гневно тыкал указательным пальцем сначала в одну, затем в другую, – видно, опять говорил о мозолях, а потом вдруг растопырил все десять пальцев и с такой силой и злобой застучал ими себя по худому втянутому животу, что Надя испугалась и подумала: «Боже мои, что делает этот человек! Ведь ему же больно. Он, наверное, голоден и доведен до отчаяния». Надя заметила, что двое рабочих, которые несли красное полотнище, уже почти поравнялись с ней, и неожиданно для себя закричала:
– Молодой человек! Ну как вы несете лозунг! Ведь его же нельзя прочесть!
Она лишь мельком успела заметить, как рабочий улыбнулся, древко вскинулось, и Надя с волнением, шепотом прочитала:
– Рабочие и дехкане! Объединим наши силы в борьбе за свои права, за хлеб, за волю, за светлую жизнь!
Август до боли сдавил ей руку. Она, не взглянув на него и продолжая читать лозунги, сказала:
– Больно, Август! Зачем ты давишь мне руку?!
Он сдавил сильнее.
– Долой палача губернатора! – прочитала она на фанерном щите.
– Проклятье извергам! – было написано на другом.
– Да здравствует Интернационал!
– Да здравствуют рабочие и дехкане! Долой помещиков, фабрикантов и баев!
– Земля – крестьянам, фабрики – рабочим!
– Ой! – вскрикнула она негромко и даже чуточку присела от боли. – Что ты делаешь, Август!
– Опомнись! – сказал он негромко, сквозь зубы. – Неужели тебе не страшно это читать?..
Она хотела ответить ему, но в это время колонна остановилась. Босой узбек в черном халате перестал гудеть в карнай, вытер потное лицо полой халата.
– Ура! Да здравствуют железнодорожные рабочие!
– Ура! – закричало сразу несколько голосов, и встречная волна людей, катившаяся из сквера по аллее, сначала отбросила Августа и Надю назад, потом сдавила, стиснула и снова отодвинула назад, еще дальше. Поднялся шум, выкрики, свист. Надя высвободила, наконец, свою руку из руки Августа и все пыталась встать на цыпочки, чтобы посмотреть, что там происходит, но видела только море голов впереди себя и где-то вдали колыхавшееся на древках красное полотнище.
– Надежда Сергеевна! – тихо окликнули рядом. Она оглянулась: позади стоял человек с каким-то очень знакомым и в то же время незнакомым лицом. Она растерянно всматривалась в него.
– Уже забыли? Не узнаете? Так быстро! – опять очень тихо, спокойно сказал человек.
– Боже мой! Кузьма Захарыч! Да где же ваша борода! Без бороды вас не узнать. Вы совсем новый! Помолодевший.
Да, Кузьма Захарыч был тот и не тот. Даже теперь было трудно сказать, что в нем осталось прежним. Лицо было гладко выбрито и это делало его совершенно неузнаваемым с тем Кузьмой Захарычем, которого Надя знала пять с лишним лет. Прежними остались глаза – карие, вдумчивые, с прищуром, но теперь они казались слишком лучистыми, молодыми. Прежним остался лоб – крутой, широкий, но теперь на нем не было глубоких морщин! Нет, они есть, конечно, есть. Вот эти серые нити, которые тянутся от виска к виску, но теперь это нити, а не борозды. Значит, что-то разгладило эти морщины!
– Кузьма Захарыч! Как же так? Ведь прошло всего четыре дня! А вы так изменились, – сказала Надя, продолжая радостно удивляться.
– Да, голубушка Надежда Сергеевна, четыре дня. А я совсем другой человек, – сказал Кузьма Захарыч.
– Вы счастливы? И это счастье дала вам Маргарита Алексеевна?
– Не только она.
– А что же еще?
Кузьма Захарыч посмотрел на Августа, делавшего вид, что он ничего не видит, чуточку прищурился и вдруг опять стал очень похож на прежнего Кузьму Захарыча.
– Не только она! – повторил он.
Надя смотрела на него вопросительно.
– Время, – сказал Кузьма Захарыч.
– Что?
– Время, Надежда Сергеевна. Время меняется. Вот и люди меняются.
– А что сейчас будет?
– Сейчас здесь ничего не будет. Все пойдут в старый город – через Урду, мимо Шейхантаура.
– Зачем?
– Там поднялись ремесленники – ткачи, кузнецы, гончары, медники. Их задушили налогами. Только ведь что же они сами по себе?! Ничего не добьются. Надо их сюда. Объединиться всем вместе. Под одно знамя. Сообща будет легче добиваться.
– А чего добиваться, Кузьма Захарыч?
– Отмены налогов. Ведь вы посчитайте, сколько ремесленники платят этих самых налогов? Зякет с них берут, как с торговцев? Берут. Какой-то там херадж дерут? Дерут. Как с домовладельцев дерут? Тоже дерут. Если посчитать одни названия всяких там налогов, которые должен платить ремесленник, так на руках пальцев не хватит. Ну так… сколько это можно терпеть?.. Вот они терпели-терпели да и поднялись. Невмоготу, видно, стало.
– Значит, и вы туда пойдете?
Кузьма Захарыч поглядел опять на Августа, помолчал, потом сказал, не ответив на вопрос:
– Вы посмотрите, кто сюда пришел: и Декамбай с Балтабаем…
– Как? И они здесь? Неужели здесь?
– Нет… Их-то, может, и нет пока… Это я, так сказать, для примера взял. Но таких, как они, здесь много. Желтая птица, Абдулхай, Хашимбек совсем уж их задавили. Дышать нечем стало. Вот они и пришли к русским рабочим за помощью. А тут и с конного трамвая люда пришли, и почтовые работники… даже мелкие лавочники.
– Тоже бастуют? Купчишки? – улыбнулась Надя. – Они-то каких прав добиваются?
– Торговлишка их совсем захирела. Вытесняют их русские купцы.
– А-а…
– Ну, а молодца-то, который гудел в карнай, видели?
– Видела. Действительно молодец. Богатырь прямо. Кто он?
– Грузчик с хлопкоочистительного завода Низамхана.
– Желтой птицы?
– Да. Желтой птицы.
Мимо них куда-то вперед устремились гимназисты, учащиеся реальных училищ, курсистки.
– Ну что же, Надежда Сергеевна, прощайте, – сказал Кузьма Захарыч. – А то, я гляжу, Август Маркович, кажется, ищет глазами полицейского. Но их здесь нет. Они боятся народных манифестаций. Да ведь и не меня одного надо арестовывать, Август Маркович.
– Вы можете оставить нас в покое наконец? – спросил его Август.
– Да. Прощайте.
Кузьма Захарыч мгновенно исчез, затерялся в толпе.
– Ты, кажется, хочешь принять участие в этом… бунте? – резко спросил Август.
– Мне их всех очень жаль, – сказала она. – Ведь они правы.
– Да? Ты так думаешь?.. – спросил он, глядя на нее с ненавистью. – Что ж, можешь себя поздравить. Этот кучер, кажется, весьма опытный крамольник. Он неплохо на тебя воздействовал.
– Идем на почту. Мы ведь шли на почту, – сказала она.
Сквер и прилегающие к нему улицы опустели. Вокруг уже было тихо.
Проходя по Пушкинской улице, Надя видела издали, как шествие двинулось по Воронцовскому проспекту мимо городской думы к Урде, к старому городу.
Словно впервые, она чувствовала тяжесть и холод того замка в груди, который все чаше стал запираться при разговорах с Августом. Прежде бывало, что она радовалась, когда он вдруг неожиданно запирался, спасая ее от многих неприятностей. Но сейчас ей было грустно оттого, что он закрылся, заставив ее замолчать, но в то же время она знала, что это необходимо, даже хорошо, что он закрылся, иначе она наговорила бы бог знает чего. Вокруг было столько событий, и столько всего накопилось в душе, что очень хотелось кому-то все это высказать, но высказать, оказывается, нельзя. Август сердится. И пусть этот замок закрыт. Ладно. Пусть. Надо терпеть. А как бы хотелось, чтоб его не было вовсе, чтоб душа всегда была открыта.
Да, Кузьма Захарыч был прав: почтовые работники продолжали забастовку. Почта не работала. Август и Надя молча выслушали городовых, которые прогуливались вдоль здания почты, также молча повернулись и пошли назад. Август был мрачен, а Надя вдруг испытала тайное злорадство непонятно отчего: то ли оттого, что продолжалась забастовка, то ли оттого, что почта была закрыта и Август не получил от родителей писем, – в глубине души Надя продолжала питать к ним тяжелую неприязнь.
«Боже мой! Он испытывает боль и разочарование, а мне приятно. Я злорадствую, какой ужас!» – подумала она и ей вдруг так жалко стало Августа, что на глазах выступили слезы.
– Тебе очень больно, Август? – спросила она.
Он молчал.
– Конечно. А тут еще я тебе добавила. Ну ты прости меня. Ладно? Прости. Куда мы сегодня с тобой пойдем? В театр или в ресторан? Ну, что ты молчишь?..
22
Часов около восьми вечера Август спустился в ресторан приглядеть столик поуютнее, а затем должен был вернуться за Надей. Но он долго не возвращался. Она кончила одеваться – Август все-таки настоял, чтобы она появилась в ресторане в своем новом костюме восточной царицы, – потом долго осматривала себя в зеркале, раздумывая: а стоит ли появляться на люди да еще в ресторане в этом наряде, не сочтут ли это как-нибудь по-иному и действительно ли так идет ей и это черное бархатное платье, и синий бархатный камзол в серебре, и шитая золотом тюбетейка? И так ли уж хороши ее косы?.. А эти крохотные бриллиантики в сережках? Очень кстати. Вон как они вспыхивают красным, синим, фиолетовым огоньком.
Однако она заметно побледнела за эти дни. Кожа на щеках, кажется, чуточку поблекла, особенно вот здесь, под глазами. Или это тень падает от ресниц? Да, и тень, и все-таки есть синева вокруг глаз. И в глазах тоже что то переменилось. Грусти в них, что ли, стало больше?..
Надя подошла к окну, постояла, поглядела сверху, со второго этажа, на темную неосвещенную улицу.
– Да… Кузьма Захарыч… – сказала она тихонько вслух. – Может быть, вы и правы…
Постояла еще немного. Вздохнула.
Наконец пришел Август, уже навеселе.
– Где ты пропадал? – спросила она спокойно. – И, кажется, уже успел выпить.
– Да. Немного. Прости меня. Но ты не знаешь, какой ждет тебя сюрприз.
– Какой?
– Не скажу. Увидишь сама.
Она пошла с некоторым колебанием. У стеклянные дверей вдруг ахнула и остановилась.
– Это кто там? Я не пойду.
Швейцара не было у дверей. Это был внутренний вход из гостиницы в ресторан.
– Это сам Путинцев. Городской голова. А с ним, ты видишь, кто?
– Низамхан?! Желтая птица?!
– Да. Он снял для двоих весь ресторан. И никого не велел пускать. Но им скучно вдвоем. И они очень любезно приняли меня. А от тебя они просто будут без ума. Посмотри, арфянки играют на арфах…
– Я не пойду, Август.
– Не дури, слышишь? Ты хочешь осрамить меня перед такими людьми?!
Она решительно повернулась, пошла назад. Он схватил ее за руку. Преградил путь.
– Не смей уходить. Если ты уйдешь, я застрелюсь. Сейчас же. У тебя на глазах.
Она молча глядела на него.
– Где ты возьмешь пистолет?
– Ты сомневаешься? Возьму у Путинцева. Ну пойдем, слышишь? Умоляю тебя. Мы очень славно посидим. Вот увидишь.
– Хорошо. Только ради тебя.
– Я осыплю тебя поцелуями.
Август широко распахнул перед нею стеклянную дверь.
– Господа! Это моя жена! – объявил он громко.
Два странных человека, сидящих посреди пустого зала под люстрой за круглым столом, подняли головы. Один – с гладко зачесанными назад пепельно-серыми волосами и пышной, разведенной на две стороны, бородой – был в форме отставного генерал-майора, другой, несмотря на теплынь, в большом лисьем малахае с завязанными на затылке ушами, в зеленом шелковом халате.
«Желтая птица… – думала Надя, медленно приближаясь к столу. – То ли сова, то ли беркут. До странности похож… до странности… И, видно, бравирует этим. Даже тут не снял свой малахай».
Оба, должно быть, онемели и продолжали молча сидеть за столом и смотреть на фею, которая вдруг спустилась откуда-то с облаков и медленно двигалась к ним по ковру. Где-то за спиной у них, в глубине пустого ресторана, смолкли арфы. Потом кто-то задел нечаянно одну струну, а у стола раздался грохот – упал серебряный бочонок с бутылками шампанского.
Городской голова Путинцев и Желтая птица оба разом поднялись из-за стола.
– Это что такое? Чудо или нет? – вполголоса произнес Путинцев, продолжая в растерянности глядеть на Надю. – Низамхан! Вы визите? Это сама сказка идет по ковру!
– Я вижу. Это сама гурия пришла к нам из райских садов аллаха! – сказал Желтая птица и, перешагнув через серебряный бочонок, вышел навстречу Наде. Путинцев в своем генеральском мундире стоял за его спиной, ждал, когда он отойдет, чтобы тоже поцеловать у Нади руку.
– Откуда вы такая прелестница? Из Петербурга? Ну конечно, конечно! Где еще могут рождаться такие красивые женщины! Только там, только там. Северная Пальмира, – говорил он, когда все сели за стол.
– Нет, – сказал Желтая птица. – Такие розы расцветают только в наших садах. Если север, тогда откуда эти южные волосы, черные глаза, эта персиковая смуглость лица?
– Так ведь я сказал – Северная Пальмира. А это значит – Восток. Сирия. Ее древний знаменитый город, – мягко возразил Путинцев, и Надя вдруг покраснела, взглянув на него, и надолго потупила голову.
– Азиатский шашлык с гранатовым соком, куропатки, фазаны, розовый ликер, фрукты, шампанское… – заказывал между тем Низамхан хозяйке ресторана, подобострастно склонившейся над его лисьим малахаем, успевавшей и слушать его, и беззвучно отдавать приказания официантам, стоявшим с блокнотами за ее спиной. – Слушайте еще, – говорил он, широко положив на столе руки, локтями врозь. – Сколько вам дает ресторан за вечер?
– Не всегда одинаково, господин…
– Хорошо. Возьмите самый счастливый вечер. Я плачу. А лучше… Еще будет так… До тех пор, пока эти господа будут у вас жить, ресторан для посторонних работать не будет… Только для них… Вам понятно?
– То есть, при полной…
– Ни в коем случае, – сказала Надя, вставая со стула. – Ни в коем случае. Мы сегодня же переедем в другую гостиницу.
– Хорошо. Тогда только сегодня. – Малахай его чуть приметно шевельнулся, хозяйка догадливо пригнулась, и Желтая птица что-то неслышно шепнул ей на ухо. Она оказалась волшебницей. Не успела еще Надя справиться со своим смущением, как все уже было готов: стол великолепно сервирован и уставлен всевозможными яствами, у ног ее стояли две плетеные корзины с цветами – одна с розами, другая с белыми осенними хризантемами.
– Боже мой! Какие сокровища эти цветы! – не в силах удержаться от восхищения, воскликнула Надя.
– Это для вас, – сказал Путинцев.
– Что вы, что вы! Так много цветов для меня для одной?! – вся загораясь румянцем, сказала Надя.
Она присела на корточки и стала упоенно вдыхать в себя запах цветов, сгибаясь то к одной, то к другой корзине, потом стала поодиночке доставать то одну, то другую розу, на миг закрывала руками лицо вместе с цветком.
– Цветы для женщины – это половина ее счастья. Я не имею права столько брать его одна, – сказала Надя, снова поднимаясь и садясь на стул.
– Вы богиня. Вы имеете право на все. На весь мир! На вселенную! – провозгласил Путинцев, уже стоя над столом с бокалом в руке. – За несравненную, божественную Надежду Сергеевну Снигур! Как звучит! Как звучит, господа! Надежда Сергеевна Снигур! Великолепно. Сладостнее звуков арф. Итак…
– Я Малясова. Не Снигур, – вдруг зачем-то сказала Надя, и тут же поняла и почувствовала, что замок опоздал закрыться вовремя, он словно хлопнулся дужкой, поспешно закрылся уж после того, как она сказала это. Но зачем? Зачем она сказала это? Зачем так неожиданно вылетело, выпорхнуло это слово у нее из груди, и она не успела его поймать, не успела закрыть свой спасительный замок в груди. Да, она не Снигур, она Малясова, потому что они все еще не венчаны. И она не хочет, не хочет быть Снигур до тех пор, пока они не венчаны. И пусть Август знает это. Конечно, он покраснел, побагровел даже. Она сделала ему больно. И он не понял, зачем, почему она это сделала? Разве этим людям не безразлично, какая у нее фамилия – Снигур или Малясова? А ей разве не безразлично, под какой фамилией они будут знать ее – под той или под другой? Да, ни к чему она сказала это. Ни к чему. Только больно сделала Августу. Ну прости. Слышишь, прости. Погляди на меня.
Август вертел на столе рюмку с коньяком, опустив глаза, но вдруг, будто услышал жену, взглянул на нее и виновато, и укоризненно.
Путинцев, видно, тоже не понял, для чего она это сказала, поглядел на нее молча из-под припухлых, старчески водянистых век, потом выпил рюмку, сел и принялся закусывать.
– Ну да. Малясова – это, так сказать, девичья фамилия, по отцу, – заговорил он снова, немного утолив аппетит, но все еще продолжая торопливо жевать, тыкать вилкой в тёмные куски фазанины и в оранжевые помидоры, помогая ножом и хлебом подносить ко рту, не переставая, быстро, по-заячьи, жевать, – унаследованная фамилия, а Снигур… Стоп! – вдруг сказал он и перестал жевать. – Как вы изволили назвать вашу девичью фамилию? Малясова?
– Да.
Путинцев вытер висевшей на груди салфеткой бороду, усы, что-то прожевал. Потом взглянул на лисий малахай, взглянул на Августа, и опять посмотрел на Надю.
– Лет пятнадцать или, может быть, восемнадцать назад я знал полковника Малясова. Он приехал из Петербурга. У него было особое задание от генерального штаба. Так сказать, секретная миссия, – заговорил Путинцев.
– Как его звали? – спросила Надя. Она сидела мертвенно бледная, только черные глаза горячечно горели.
– Сергей Александрович.
– Это папа, – тихо сказала Надя.
Она вся выпрямилась на стуле в напряженном ожидании, долго, вопросительно глядела на Путинцева. Он выпил, подул себе в усы, немного опять утолил аппетит и только тогда снова заговорил, не переставая жевать.
– Вот вам, извольте. Говорят, фатализм – ерунда. А это что такое? Это ли не фатализм? Это ли не фатальный случай встретить снова здесь, в Азии, дочь Малясова. Через восемнадцать или двадцать лет! Да, Сергей Александрович Малясов был весьма-весьма незаурядный человек. Это вам должно быть приятно. Мне кажется, чувство альтруизма, жажда подвига, романтический склад души – это все у вас от отца.
«Черт возьми, какой приятный человек – этот городской голова», – подумал Август, чувствуя, как горячая волна хмеля окатила его с головы до ног.
– Что случилось с отцом? Почему он не вернулся домой? – спросила Надя.
– Из Ташкента он отправился в Хиву. С маленьким караваном. По дороге их застала песчаная буря. Самум. Ну и… все. Верблюдов нашли, а людей нет.
– Так, может быть, их не искали? – сказала Надя.
– Не искали? – переспросил Путинцев. – Не думаю. – Он перестал жевать, что-то зажал зубами, задумался. – Не думаю, – повторил он и принялся опять жевать и говорить. – Об этом караване много писали не только «Туркестанские ведомости», но даже московские и петербургские газеты. Вы были, видимо, тогда вот с эту рюмочку, – Путинцев приподнял хрустальную рюмочку для ликера, – и, естественно, не можете этого помнить. Но я помню отлично. Преотлично помню. Газеты шумели. Но… – Путинцев поднял вверх указательный палец. – Искали или нет в действительности… – Он кашлянул два раза, вытер салфеткой рот. – Впрочем, искали, конечно. Искали, искали… – повторил он несколько раз. – Только теперь уж грустить поздно. Не грустите и не печальтесь. Ваш отец был солдатом. И умер, как солдат. Во имя отечества. Геройской смертью. Выпьем за него. – Он взял свою рюмку и, никого не дожидаясь, выпил. – Правда, ходили слухи между нами, офицерами, – продолжал он, – что Малясов отправился вовсе не в Хиву… то есть сначала в Хиву, по путь его лежал дальше…
– Дальше?
– Да. Будто бы где-то в окружности рыскали англичане, и он направлялся к ним в гости. Но вот в пути…

– «Тихо и плавно качаясь…» – вдруг запел Август, дирижируя над столом руками.
Желтая птица тряхнул малахаем, откачнулся or стола.
– Да снимите вы свой малахай, – сказал Август и потянулся рукой через стол, чтобы снять с него шапку.
– Сядь. Не твое собачье дело! – Желтая птица так странно скосил глаза к переносице, что Август протрезвел. – Ты кузнеца Курбана знаешь? У дороги живет? Безымянный курган? Ну, неужели не знаешь?! Сколько раз ездил мимо и не знаешь? Колодец у него около кузницы…
– Что? Курбана? Кузнеца? – машинально переспрашивал Август, не переставая смотреть на его глаза: «Невероятно. Чертовски невероятно, – думал Август, слушая и не слушая то, что ему говорил этот малахай на чистейшем русском языке. – Как можно поставить глаза поперек лба, вниз к переносице и вверх к вискам? Чертовски выразительно! Не глаза, а скрещенные сабли». – Да, знаю, знаю Курбана-кузнеца! – вдруг воскликнул он. – Еще бы не знать. Знаменит мастерством, бескорыстием. И водой. Водой, конечно, отменной, из колодца. Везде пьют из арыков, а он из колодца. Цивилизованный кузнец. И жена у него красивая.
– Ух, красивая! Караван верблюдов за нее давал. Караван приказал нагрузить хлопком, шелковой пряжей, коврами, черным кишмишом, грецкими орехами да еще всяким другим добром. На переднем верблюде – хурджун с деньгами и пять горстей золота. Вот какой калым давал. А?
– Кому давали-то?
– Что?
– Да калым-то кому давали?
– Отцу ее. Отцу Тозагюль. Юнусу. Дураку.
– Ну и что же?
– Я улак устроил. Хороший улак. На приз. На победителя. Коня отдал. Еще халат шелковый.
– Кому?
– Победителю. Ну и как водится – хороший той. Угощение. У кого похороны, а у нас веселье.
– Почему?
– Что почему? Веселье? Потому что похороны.
– Чьи?
– Дурак.
– Кто?
– Ты.
– Почему?
– Не знаю.
Он выпил рюмку коньяку, сказал, не закусывая:
– Теперь надо еще один улак устроить.
– Зачем?
– Люблю.
– Кого?
– Ее люблю. Тозагюль. Только он умный.
– Кто?
– Он.
– А кто?
– Он. Умный. Сильный. Его не сразу сшибешь. Не Юнус. Юнус что? Юнус тьфу! А он кряжистый. Крепкий. Как карагач. Ну, ничего. Лишь бы пошел. Не его, так коня.
– Что?
– Сшибут. Вместе с ним.
– А потом?
– Моя.
– Кто?
– Тозагюль.
– А если не так?
– А как?
– Просто.
– Нельзя.
– Почему?
– Будет ненавидеть меня.
– Кто?
– Да она.
– Так ведь вы не сами.
– Все равно. Узнает. А потом – вот он, городской голова, судить будет.
Август рассмеялся.
– Вас, Желтую птицу, будут судить?!
– Все равно, не хочу. Не интересно. Украсть – это можно. Вот если улак не выйдет, тогда украду. Может, я люблю-то ее не так уж сильно, но понимаешь… обида. Она, как заноза, во мне сидит. А что? Какой-то кузнец! А она его. Почему? Нет, и все! Должна быть моя.
– Это верно. Выпьем с вами на брудершафт.
С рюмкой в руке Август неверной походкой обошел стол, выпил коньяк, поцеловал Низамхана в мокрые губы.
– «Тихо и плавно качаясь…» – снова запел он, возвращаясь на место.
– Август, нам пора домой, – сказала Надя.
Август навалился на стол, потянулся лицом к Низамхану.
– Хотите знать, кто я такой? – спросил он его. – Я художник. Пять дней назад… погибли мои этюды. В реке. В этом бешеном Ангрене.
– Ты уже мне говорил об этом, – сказал Желтая птица. – И не только мне. Ему тоже.
– Я?
– Ты. Когда только зашел сюда. Знакомился. Помнишь?
– Верно, верно. Говорил. Но вы не знаете, как мне их жаль. Какие пейзажи! – Он поставил локти на стол, закрыл лицо ладонями.
– Надо не в степи, надо в городе устроить улак, – сказал Желтая птица. – Казачий улак. Вот это хорошо.
У Августа медленно сползли ладони с лица.
«Дьявольски выразительная физиономия, – вдруг подумал он, посмотрев опять на Желтую птицу. – Эти скрещенные сабли становятся все ближе и ближе друг к другу эфесами. – О чем он говорит?..»
– Забастовка? Песни? Карнай? – спрашивал Желтая птица, вертикально поставив свои узкие глаза вдоль переносицы так, что Август не мог понять, куда он смотрит: на стол или прямо на него. – А если казачий улак им навстречу пустить да еще один сзади? А? Что молчишь?
– Я? – отчего-то опешив и чуточку опять протрезвев, спросил Август.
– Да не ты. Ты никуда не годишься. Ни по улице с ними не пойдешь, ни на коня против них не сядешь. Я говорю, где городской голова, когда в городе беспорядки?.. Губернатор убежал. А где городской голова? – Желтая птица стукнул мясистым кулаком по столу и возвысил голос. – Городской голова!
– Да. Что такое? – отозвался Путинцев.
– Я говорю, улак нужен!
– Улак? Ну что ж… с удовольствием, так сказать, поприсутствуем. Вот и Надежда Сергеевна…
– Улак нужен здесь, – перебил его Желтая птица.
– Как? Где здесь?
– Здесь, в городе. Казачий улак нужен.
– Ничего, ничего. Успокойся. – Путинцев, положив ему руку на плечо, обернулся опять к Надежде Сергеевне, сказал. – Досточтимый господин Низамхан у нас большой любитель козлодраний.
– Да, я слышала. Давно слышала, – сказала Надя.
Желтая птица тряхнул малахаем, повернулся к ней всеми плечами, застыл.
Но она не смотрела на него.
– Одним словом, драгоценнейшая Надежда Сергеевна, песчаная буря все покрыла, так сказать, мраком неизвестности. А может быть таинственности, – сказал Путинцев и решительно повернулся лицом к Желтой птице.
– Август, нам пора, – опять сказала Надя и поднялась.
– Нет, нет. Я решительно протестую, – возразил Путинцев. – Вы еще, так сказать, ни к чему не притронулись. Да и все голодны, как волки. Давайте будем веселиться. Досточтимый господин Низамхан! Что вы молчите? Скажите хоть слово.
Но Желтая птица молчал.
Надя еще раз напомнила Августу, что им пора домой, и они, извинившись, ушли.
– Август, ну как тебе понравился Желтая птица? – спросила Надя, когда они пришли в номер.
– Желтая птица? Феномен. Сфинкс. Живой сфинкс. Ты видела его глаза? Это же скрещенные сабли. А как он говорит по-русски!
– По-русски он говорит прекрасно. Но о чем?
– Что?
– О чем он говорит – ты слышал? Он требует учинить расправу…
– Расправу? Над кем? А-а… с этими… на улицах… Так ведь он прав. И пусть требует.
– Мне всегда казалось, что ты жесток, – сказала она, о чем-то немного подумав. – Но эта жестокость сидит в тебе до поры и где-то очень глубоко.
– Где?
– Не знаю.
– В душе?
– Возможно.
– Значит, у меня есть душа?
– Иначе ты не был бы художником. Кроме таланта, в тебе есть что-то еще… не знаю что…
– Не хочешь сказать?
– Постой, – вдруг перебила она его, – о чем вы говорили до того, как ты пошел к нему чокаться и целоваться?
– Пить на брудершафт?
– Не знаю, как это называется.
– Это называется пить на брудершафт. Вот так. – Он взял ее под руку и хотел поцеловать в губы, но она отстранилась.
– Оставь, Август. Мне очень жаль, что я не слышала, о чем вы говорили. Я была поглощена рассказом об отце. Но мне кажется, разговор был у вас о Курбане?
– О каком еще Курбане? Ах… Ну-ну, вспомнил…
– Что ты вспомнил? Что разговор шел о нем?
– Да нет же. Вспомнил его… самого кузнеца.
– А разговор? Не помнишь, Август?
– Не помню. Этот демон умеет говорить только загадками. Я ни черта не понял из нашего диалога. И, кажется, говорил невпопад.
– Ты был пьян. И сейчас тоже. Ложись.
– Август, а может быть, все-таки разговор шел о Курбане? – снова спросила она его утром.
– Ей-богу, не помню, – теперь уже совершенно честно признался Август.
– Я слышала отдельные слова из вашей беседы. И у меня нет ясного представления, но…
– Что?
– Я слышала, как ты сказал: «Так ведь вы не сами». Он: «Все равно узнает. А потом, вот он, городской голова, судить будет». Потом ты засмеялся.
– Ну и что ж?
Она долго молчала.
– Мне страшно, – вдруг сказала она.
– Отчего?
– Я боюсь тебя.
– Меня? Ты с ума сошла.
– Да, тебя. Ты вчера советовал ему… Помнишь. Вспомни, Август, что ты ему советовал. Неужели не помнишь?
– Ей-богу, не помню, – снова повторил он. – Клянусь тебе.
– Ты советовал ему убить кого-то.
– Убить?
– Да. Вот только я не слышала – кого.
– Нет, ты прости меня, но это уж слишком! – бледнея и раздувая ноздри, сказал Август, крайне возмущенный и обиженный. – Подумай, какую ты ересь несешь!
– Ересь? Ну прости меня. Прости, родной. Мне показалось…