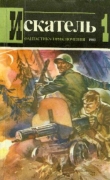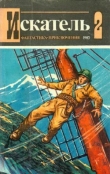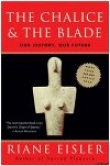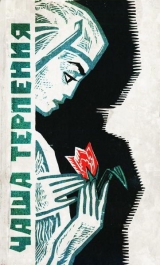
Текст книги "Чаша терпения"
Автор книги: Александр Удалов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 25 страниц)
Александр Андреевич Удалов
Чаша терпения

Александр Удалов родился в Симбирске в том далеком 1914 году, когда над мирным раздольным простором Волги, над тишиной и покоем великой реки, над неоглядными полями несжатых хлебов прогремел гулкий набат первой мировой войны.
Мужчины, наспех покидая родные дома, уходили на фронт, обещая семьям вскоре вернуться с победой, и не чаяли, что уходили из векового своего быта навсегда, ибо длинная и невиданная выпала им дорога, и те, кто через многие годы возвратились, пришли уже в новый мир.
С берегов Волги еще ребенком был привезен Удалов на берега Сыр-Дарьи. Здесь он рос, здесь учился, здесь впервые начал приглядываться к большому, сложному, прекрасному миру, к жизни, окружавшей его, к людям, говорившим на разных языках, жившим различными обычаями.
Вдумчивый, молчаливый школьник, он мог подолгу, притаившись в стороне от толчеи и движения, разглядывать и обдумывать жизнь, полную больших событий, – шли нелегкие годы гражданской войны, строительства советской жизни, годы первых пятилеток. Здесь, в Ташкенте, он окончил среднюю школу, начал работать на рисоочистительном заводе и, сперва для себя, для памяти, написал первые очерки, пытаясь записать рассказы людей, которые его чем-то заинтересовали.
Еще очень неуверенно, очень сомневаясь в своих силах, робко, принес он в редакцию ташкентского журнала свой первый рассказ. В 1936 году рассказ напечатали. Он назывался «Мужество» и посвящен был борьбе с басмачеством. Так сделан был первый шаг в литературу. Два года спустя рассказов набралось уже на отдельную книгу. Сборник вышел в 1938 году. Главной темой всей книги была гражданская война, в которой он не участвовал, но которая так ярко запечатлелась в нем с детских лет. Этой книгой Александр Удалов определил свою дальнейшую жизнь – он посвятил ее литературе, – писал, рецензировал, редактировал, много, трудолюбиво работая над собой.
Два года спустя, в 1940 году, вышла новая книга – повесть «Марина». Повесть о деревне, о коллективизации и, значит, опять о борьбе, опять о столкновении двух миров.
С этой повести начинается трудная и взыскательная работа Удалова над языком, над формой. Чем сложнее становился материал, тем более совершенной нужна была форма, тем более выразительным и лаконичным язык, тем более строго приходилось отбирать главное, отсеивая все второстепенное, хотя многое в этом второстепенном казалось ярче и живописнее главного. Иногда не хватало мужества выбросить лишнюю сцену, отказаться от лишнего героя. Но выработать в себе эту строгость к материалу можно было лишь работая, не ослабляя требовательность к себе. В повести «Марина» видна эта борьба автора с самим собой; но в ней видны и первые успехи.
Вскоре началась Великая Отечественная война, и Удалов, став сотрудником дивизионной газеты, написал много очерков и рассказов о подвигах, о доблести наших бойцов. Многое довелось ему пережить и повидать, многое запомнилось на всю жизнь в те суровые и великие годы. И, возвратившись с войны, он продолжает писать о войне, о воинах, о непримиримой борьбе двух миров. С тех пор почти ежегодно выходят его книги. Тверже становился его голос, чище и выразительнее – его язык, но упорную работу над собой он продолжает, все смелее и смелее берясь за сложные темы, все зорче вглядываясь в окружающую его жизнь.
Один из его друзей, писатель Николай Асанов, однажды сказал: «Лирическое письмо Удалова захватывает читателя, и надолго остается ощущение находки. Радуешься, что существует такой меткий, милый, приятный писатель».
Он и теперь все такой же, каким был на первых порах своей жизни, – пристально приглядывающийся к людям, очень мирный человек, избравший героями своих книг людей деятельных, порывистых, увлеченных борьбой. И сквозь все его книги проходит большая, душевная любовь к людям. Этой любви учит он и своих читателей.
Сергей Бородин
Часть I
У Безымянного кургана

1
Первые события этого повествования произошли в год рождения нынешнего, двадцатого века, то есть в 1900 году, в тридцати верстах от Ташкента, близ проезжего, но глухого в ту пору тракта, у придорожного одинокого кургана.
Сотни лет и в рассветную сизую рань, и в палящий, белый от зноя июльский полдень, и покрытые широким пылающим пологом трепетной вечерней зари – шли мимо этого кургана богатые караваны с парчой и шелком, с персидскими коврами и индийским чаем, с русским бархатом и лекарствами, белым льняным полотном и крупчаткой, с грецкими орехами и контрабандным опиумом, намазанным прямо на потное, в грязи и шерсти брюхо верблюда.
Шли богатые караваны издалека и шли бедные из окрестных селений, с двумя батманами самана или шалы, корзинами дынь или винограда.
Редко-редко проедет по дороге крытая арба на двух громадных, выше человеческого роста, колесах, одно из которых непременно должно скрипеть; пройдет, пожалуй, уж полчаса, как отъедет арба от кургана, и давно уж не видно ее за поворотом, за зеленой стеной придорожного камыша, а унылый скрип колеса не гаснет – все слышится, слышится, слышится…
Иногда проскачет мимо всадник на коне с хурджуном через седло, либо просеменит на ослике сонный старик в черном стеганом халате. Если всадник богат, халат на нем шелковый, полосатый, радужный, а лошадь покрыта малиновым бархатом, и уздечка на ней не простая – украшена махровыми кистями и синими бусами; в толстом ковровом хурджуне у него детские красные сапожки, пятнадцать аршин атласа, мягкие ичиги с калошами, восемь пачек зеленого чая да две черного, байхового, леденцы городские в кулечке, чудесный прозрачный нават, белый рафинад, сыплющий огненные искры, когда его колют хоть щипцами сахарными, хоть просто шкворнем железным от телеги; не перечесть всяких иных подарков в хурджуне у того всадника для его жен, для детей. Такой всадник редко едет один, обычно он окружен кавалькадой веселых спутников, старающихся развлечь шумной болтовней своего сановитого односельчанина, который, впрочем, держится на полкорпуса коня впереди них и молчит, лишь изредка соблаговолив порадовать своих услужливых спутников фразой, либо брошенным вскользь словцом.
Если же всадник беден, его никто не сопровождает, он едет один, и хурджун его тощ, где-то на самом дне его, как несказанная драгоценность, лежит пара детских калош азиатских; зимой пятеро или шестеро ребятишек будут носить их по очереди на босу ногу.
Всякий народ и ехал, и шел по этой дороге мимо Безымянного кургана: сановитые беки и баи, известные на всю округу своими богатейшими виноградниками в садами, мануфактурными магазинами и малолетними женами, тысячными отарами овец и табунами коней; безвестные простолюдины и бедные дехкане, надменные чалмоносцы и голодные поденщики, русские переселенцы и государственные чиновники, странствующие монахи и юродивые.
Верблюды, арбы, русские, редкие, как диковинка, фаэтоны, телеги, дрожки, двуколки, всадники и пешеходы многие годы ехали и шли по этому древнему туркестанскому тракту.
Оживленным тракт становился в базарные дни, а в будни был глух и пустынен. Лишь изредка пройдет бывало караван верблюдов, нарушая окрестную тишину сиротливым звоном одинокого бубенчика да жестяного ботала, внутри его вместо чугунного языка висит белая кость, и стучит, и стучит в ботало с каждым шагом верблюда. Проедет на осле какой-то человек в чалме, истово подбадривающий равнодушное животное ударами короткой палки между ушами да своими резвыми пятками, обутыми, несмотря на июльскую пыль и жару, в ичиги и калоши, да еще гортанным покрикиванием: «хр, хр!» Иногда проскрипит медлительная арба или простучит по камням телега, промчится почтовая тройка, быстро, вместе с легкой пылью исчезнув, как мираж, проедет редкий верховой, и снова пустынна большая дорога, стиснутая с двух сторон высокими стенами зеленого камыша.
Здесь, при дороге, к самому подножию древнего Безымянного кургана, прилепилась маленькая, насквозь прокопченная черная кузница. Сбита была кузница всего из нескольких жердей, покрыта двумя листами кровельного железа, так что и ветер, и брызги осеннего дождя, и снег могли залететь сюда в любую щель, обдавая холодом и влагой полуголые плечи хозяина.
Кузнец Курбан был одинок и жил здесь же, в своей кузнице, за перегородкой из двух стареньких циновок.
Молод был кузнец Курбан, совсем молод – девятнадцать лет минуло, но с каких-то пор, после смерти отца, случилась с ним странная перемена: скуп стал до крайности. При жизни отца никто за Курбаном не замечал такой черты в характере, и скрыть ее бывает трудно человеку, даже если он хочет казаться мотом и добряком. Не замечал этого ни отец – Ахмед Шамансуров, честный и добрый человек, почти всю жизнь проработавший чайрикером на рисовых полях по колено в тине и в воде среди несметных туч комаров; и умер-то Ахмед Шамансуров от малярии два с лишним года назад, и хоть был примерным мусульманином, ревностно исполнял все, что предписывал ему Магомет, – всегда аккуратно брил голову, даже будучи тяжело больным, когда и голову-то не мог приподнять от кошмы, на которой лежал, – но в последнее время, перед смертью особенно часто с благодарностью вспоминал русского переселенца, крестьянина по имени Петр: Петр посоветовал и помог ему сколотить эту кузницу, стать независимым, хоть и небогатым человеком.
Не замечал за Курбаном скупости и дехканин Юнус, который жил в стороне от дороги, в полуверсте от кузницы и у которого отец с сыном занимали крохотную комнатушку в мазанке с земляным полом. Прежде не замечали этого ни жена Юнуса – Кундузой, ни дочка их Тозагюль, тоненькая и стройная, как зеленая камышинка. Впрочем, где им было заметить, если уходили Ахмед с Курбаном затемно и возвращались после заката, а обедать никогда не являлись: перекусят в кузнице дыней да ячменной лепешкой, а то чай вскипятят в черном чугунном кумгане на горне, выпьют по пиале, по другой – вот и весь обед. А потом снова к горну, за молот да к наковальне. Правда, было и такое: приносила жена Юнуса, Кундузой, горячий обед – однажды что-то вроде лагмана с молодой кониной, и хотя лапша была темная, из ячменной муки, но все равно это было дьявольски вкусно и запомнилось Курбану на всю жизнь, да раза три приносила она простую машевую похлебку, приправленную кислым молоком; приходила и Тозагюль, прикрывая лицо накинутой на голову жакеткой. Какую душистую баранью шурпу в глиняной миске, какие горячие кукурузные лепешки приносила она! Но эти вкусные обеды можно было сосчитать по пальцам!
Правда, было еще одно пиршество, и вот оно-то как раз и доказывает, что не был Курбан прежде скуп. Надо сказать, что состоялось это пиршество по его просьбе. Словно малый ребенок, приставал он с этой просьбой к отцу, и отец, наконец, решился на пиршество в один из счастливых дней, когда они подковали двух лошадей, сделали кетмень для странствующего чайрикера, ошиновали колесо арбакешу и прилично в тот день заработали. Вечером, в сумерках, когда вернулись они домой, у Кундузой, жены Юнуса, был готов настоящий плов с бараньим мясом на курдючном сале. После плова, сидя вместе с семьей Юнуса на паласе, расстеленном посреди двора, и отмахиваясь в темноте от комаров, они наслаждались дынями: сначала розовой, похрустывающей сахаром, ананасной, потом еще слаще «бури-калля» – «волчьей головой».
– Ханские яства, – сказал Юнус. – Если бы еще глоток зеленого чая…
– То можно благодарить бога и считать, что мы отужинали в раю, – добавил Ахмед.
Здесь, на Востоке, зеленый чай со времен Авиценны считается целебным напитком: в летний нестерпимый зной он хорошо утоляет жажду, больные пьют его от разных недугов, а гурманы считают не только кощунством не выпить после обеда зеленого чая, но они, кажется, серьезно убеждены, что здоровье человека будет подорвано, если после плова не выпить пиалу – другую этого чудесного напитка.
Это пиршество тоже запомнилось Курбану на всю жизнь.
Но кто бы мог подумать в то время, что он вдруг сделается так скуп?.. Три года назад, когда малярия все чаше стала валить отца с ног, и ему в сорокаградусную июльскую жару было холодно даже у горна, Курбан пренебрег его протестами и купил для него ватное одеяло, новую кошму, халат из верблюжьей шерсти и русские яловые сапоги.
Словом, никто никогда не замечал, что Курбан скуп: ни отец, ни семья Юнуса, ни знакомые арбакеши, ни всякий иной проезжий люд, которому случалось останавливаться у кузницы, чтобы подковать лошадь или осла, либо облюбовать серп или кетмень, сделанные кузнецами на совесть, отливающие синевой и хранящие на себе следы тысяч ударов молотка, либо просто попросить гвоздь для арбы или выпить кружку студеной светлой воды из колодца.
Нет, никто не замечал этого прежде. И вдруг с каких-то пор стали замечать. Первыми заметили проезжие знакомые дехкане, остановившиеся у кузницы за какой-то надобностью. Они приметили, что Курбан, прежде любивший поболтать с проезжим людом да посмеяться, часто отвлекаясь от дела и не замечая, что отец давно уже подобрал и подходящую подкову, и гвозди, и зачистил копыто у лошади, положив переднюю или заднюю ногу ее на свое полусогнутое колено, и ни словом, ни взглядом не одернув разболтавшегося Курбана, этот самый Курбан стал вдруг строг и неразговорчив. Прежние знакомые дехкане, особенно из ближних кишлаков, любившие молодого кузнеца за веселый нрав и доброе слово, сказанное в напутствие, – а оно, ой, как нужно человеку в дороге! – теперь только удивлялись и переглядывались. Курбан приучился торговаться с проезжими за каждую подкову и лопнувшую шину на арбяном колесе, рядился из-за каждой копейки.
– Ты что, ошалел, кузнец, ломишь такие деньги за безделицу?! – говорил ему иногда ошарашенный путник. – Да ты мусульманин или нет? Я ведь прошу только один гвоздь вбить в колесо, чтобы лопнувшая шина не слезала. Вспомни-ка, в позапрошлом году я тоже проезжал мимо твоей кузницы, только она тогда не твоя была, а отцовская. Ну да все равно твоя. Так ты помнишь, какая в тот день беда-то постигла меня в дороге?.. Шина почти напрочь отлетела на правом колесе. На трех гвоздях держалась. Помнишь или нет?
– Болтаешь много, – кратко обрывал его Курбан, не переставая стучать молотком по мягкому горячему железу и поворачивая его клещами с боку на бок на звонкой наковальне.
Дехканин с минуту смотрел на него молча, будто не расслышал, что ему сказали, потом продолжал свое:
– Ты тогда еще совсем молодой был, безусый. Мигом залез на колесо, приладил шину, прибил да еще сказал мне такие слова: «Поезжайте, дядя! Теперь не расшинуется. Пусть дорога ваша будет счастливой». А когда я подал тебе пятиалтынный, ты отвел мою руку и засмеялся: «Разве можно за такую чепуху деньги платить? Что вы, дядя? Езжайте себе. Да на дорожку попейте холодной воды из нашего колодца. Я сейчас свеженькой ведро достану». Такой ты был уважительный, веселый, шустрый. За два года я, поди-ка ты, не раз вспоминал тебя добрым словом. А нынче что с тобой поделалось?..
Курбан молчал.
– Ну, слушай, мастер, иди наладь колесо-то, – снова просил проезжий. – Дам двугривенный.
– Проезжай, не мешай работать, – строго предупреждал Курбан.
Человек опять озадаченно глядел на него. Уж слишком непонятен стал для него Курбан. Дехканин стоял, думал, несколько раз принимался чесать у себя под лопаткой рукоятью камчи и вдруг решительно говорил:
– Ну так дай тогда мне гвоздь и молоток – вот тот, я сам прибью.
И делал твердый шаг к ящику с гвоздями.
– Гвозди денег стоят, – заявлял Курбан. – И молоток тоже инструмент. Незачем его портить.
|– Ну так я камнем прибью.
– Нет.
Ехать на расшинованном колесе нельзя, оно все равно развалится если не через двадцать шагов, то через сотню. Дехканин это знал, знал и Курбан и был уверен, что тот не тронется с места, не починив колеса.
И все-таки он был справедлив, Курбан, потому что брал за свою работу не дороже, чем другие. И дехканина больше поражала столь разительная перемена, происшедшая с человеком, чем его неуступчивость. В конце концов и гвоздь для арбы надо уметь сделать, у него ведь одна шляпка с добрый каштан, а сам он, как шило. Постучи-ка тут молотком.
Однако если на расшинованном колесе далеко не уедешь, то на раскованной лошади можно ехать до следующей кузницы и двадцать, и хоть сто верст, и Курбан частенько брался подковать лошадь за полцены, а то и еще дешевле, лишь бы не упустить случая заработать.
Скупость его и жадность иногда доходили до крайности, до скаредности.
Однажды возле кузницы остановилось четверо всадников. Им не надо было ковать лошадей, а просто хотелось пить, ведь все знали, что рядом с кузницей есть колодец. Вода в этом колодце была отменная: светлая, прозрачная, даже чуточку голубоватая и такая холодная, что у человека ломило зубы от одного глотка, а лошади, едва ткнув морду в ведро, уже поднимали ее, чтобы передохнуть, звенели уздечкой и косили в сторону веселым глазом, будто хотели сказать друг другу: «Ай да хороша водичка!»
Утолив жажду, всадники начали поить лошадей.
Курбан вышел из кузницы.
– Надо бы платить, крестьяне, за такую воду, – грубо сказал он.
Люди поглядели на молодого кузнеца и весело вразнобой засмеялись.
– А что, мастер, ты не шути, – сказал один из них, в войлочном белом тельпаке с черными отворотами. – Будь бы на твоем месте какой-нибудь бай, а еще лучше мулла, даже самый захудалый, так тот непременно брал бы за эту воду деньги.
– А я не шучу, – опять хмуро сказал Курбан. – Эта вода моя. Я вырыл колодец.
Всадники приумолкли, перестали смеяться, а тот, что был в войлочном тельпаке, добродушно посоветовал:
– Ладно уж, не берись, мастер, не за свое дело. Требуй деньги за свою работу, а за воду не требуй. А то возле твоей кузницы и останавливаться никто не станет.
Этот человек, пожалуй, был прав, и не нужно бы совсем затевать такой разговор Курбану. Ведь и в самом деле: кому хоть раз доводилось пройти или проехать мимо кузницы в знойную летнюю пору и попить здесь воды из колодца, тот запоминал его навсегда. А потом, если случалось тому человеку проезжать здесь еще раз или хоть сотню раз, то кто бы ни был тот человек – простой дехканин или бедный лаучи – погонщик верблюдов, богатый купец или брезгливый бек, почтовый чиновник или русский солдат, обездоленный странник или голодный поденщик – все останавливались здесь, чтобы испить хотя бы глоток воды, и каждый был рад этому гостеприимному колодцу, каждый мысленно или вслух благодарил того, кто не поленился, не пожалел пота, потрудился на общую радость, выкопал этот колодец и скольких людей напоил! Иным ничего не надо было ни ковать, ни ошиновывать, но они останавливались.
Нередко происходил и такой разговор между кузнецом и проезжим человеком:
– Эх, хороша, кузнец, у тебя водичка! Попить, что ли, еще немного?! – И опускал в ведро белую жестяную кружку, а то прикладывался губами прямо к краю ведра, слегка наклонял его на себя и с удовольствием проливал немного на землю. – А что, мастер, не перековать ли правую переднюю у моего чалого?.. А? – спрашивал он.
– Не знаю.
– Ну-ка посмотри.
– Если коня бережешь, то надо перековать.
– Давай, братец, сделай доброе дело.
Так случалось при отце, случалось и после.
Вот почему, хоть и скуп стал Курбан, но, видно, послушался доброго совета проезжего человека и больше никогда ни с кем не заводил разговора о деньгах за свою воду.
Юнус, сосед, у которого старый Ахмед Шамансуров с сыном жил лет пятнадцать, был, кажется, последним человеком, который узнал о скупости Курбана.
Это произошло неожиданно. Поднявшись однажды на рассвете, чтобы идти в кузницу, Курбан аккуратно сложил ватное одеяло, рыжий отцовский халат из верблюжьей шерсти, яловые сапоги, взял зеленый сундучок, обитый желтыми полосками жести, завернул все это, кроме сундучка, в свою черную кошму с красными узорами по краям и в середине, и позвал к себе хозяина.
– Сколько я вам должен, дядя Юнус?.. – спросил он, раскручивая на себе поясной платок из грубой белой маты, чтобы достать деньги.
– То есть… за что же должен, Курбан? Разве… ты что-нибудь брал у меня?..
– Ничего не брал, дядя Юнус.
– Ну?..
– Возьмите с меня за постой.
– Погоди, погоди. За какой постой? У меня не каравансарай, и ты не лошадь!
– Ну, стало быть, за ночлег, за харч, что полагается.
Юнус поглядел на него внимательно.
– Погоди, сынок, – сказал он ласково. – Ты что это надумал?.. Ведь мы с тебя еще не спрашиваем. Или, может, жена что-нибудь, Кундузой моя? Так ведь она должна была мне сказать.
– Нет. Тетушка Кундуз тоже не просила денег. Я сам хочу рассчитаться. Ухожу от вас… в кузницу.
– Так иди. Чего ты разговор затеял?
– Не затеял я, дядя Юнус. Мне просто надо… жить в кузнице. В кузнице надо жить, понимаете?
– Нет, сынок, не понимаю. Ты что? Уходить от нас собрался?
Юнус осмотрелся в тесной комнатке: сквозь ранний утренний сумрак только сейчас заметил в углу черный тюк из кошмы да зеленый сундучок рядом с ним. Юнус опять поглядел на Курбана и вдруг опустил голову, словно виноватый.
– Может… мы обидели тебя чем? – спросил он глухо, не поднимая головы. – Может, дочка Тозагюль обидела? Да ты бы это… презрел ее обиды. Ну что с нее спрашивать? А не то – так я могу и язык ей укоротить. Я ведь отец.
– Нет, дядя Юнус. Никто в вашем доме не обидел меня. Хорошо мне было у вас. Всегда хорошо. Но уходить все равно надо.
– Ну что ж… уходи, коли так. Не потрафили, так уходи.
– Что вы, дядя Юнус! Ведь я не хочу вас обидеть. Вам и без меня жить невмоготу, а со мной и того труднее.
– Так ты ведь не даром живешь…
– Не даром, сам знаю, дядя Юнус. Надо платить вам больше. Да теперь я и этого не смогу давать. Трудно заработать стало даже на ячменную лепешку. Вот я и ухожу.
– Зачем же? Так живи… ладно. Спи хоть тут, в тепле. Не спросим мы с тебя денег.
– Нет, дядя Юнус. Я вашей доброты не забуду. Но не могу я так. Скажите, сколько с меня полагается?
– Иди. Скажу как-нибудь после. Вот приду в кузницу и скажу. Разочтемся. Мне серп нужен… для Тозагюль. Камыш будет жать. Потом продадим тот камыш, если найдется охотник.
– Ну так зайдите, дядя Юнус, пожалуйста. У меня очень хороший серп есть. Зайдите.
– Зайду.
Курбан взвалил на плечи свои пожитки черный скрученный войлок да зеленый сундучок с висячим замком, – сильно пригнулся, шагнул через порог и пошел по узкой зыбкой тропе, по краю рисового поля, заполненного водой, к большому проезжему тракту, где стояла его кузница.
Сизокрылый рассвет поднимался ему навстречу.
В темной мазанке, оставшейся позади, единственное крохотное оконце из промасленной бумаги вместо стекла выходило на восток. Курбан не видел, как чья-то смуглая тонкая рука осторожно приоткрыла промасленный уголок бумаги, и две женские головы, коснувшись друг друга, прильнули к просвету. Пока тропинка не свернула в сторону и Курбан не скрылся за камышами, две пары черных агатовых глаз все смотрели ему, вслед.
Переселившись в кузницу, Курбан продал проезжим людям рыжий отцовский халат из верблюжьей шерстя, яловые сапоги, ватное одеяло и даже черную с красными узорами кошму. Ничего у него теперь не осталось, кроме клочка старой кошмы, на которой он спал, да стеганого ватного халата, которым укрывался в холодные зимние ночи, а все остальное время аккуратно свернутый халат либо лежал, бережно прикрытый какой-то ветошью, либо служил Курбану подушкой. Была у молодого кузнеца мысль и этот халат продать. Вытерпел бы и зимой, без халата бы проходил. Какая тут зима! Мало ли ходит поденщиков, батраков да ремесленников всяких босиком круглый год – и зиму, и лето без халатов, в домотканых рубахах из маты, и ничего, не замерзают. Сильное было, одним словом, искушение положить в заветный зеленый сундучок еще хоть один серебряный целковый, да устыдился Курбан вот чего: как покажется зимой на глаза Юнусу, Кундузой да Тозагюль, что им скажет?.. Ведь встречаться все-таки с ними приходится.
Короче говоря, был Курбан одержим одной заботой: как можно больше добыть денег, а на что они ему, что он задумал – никто не ведал.
Слухи ходили, что есть у молодого кузнеца деньги, и будто бы немалые. Хранит он их в зеленом сундучке, а где тот сундучок, один аллах ведает.
Были слухи и обратные, что нет у Курбана-кузнеца даже медного гроша, потому что сидит он голодом, на одной ячменной лепешке, даже чай пьет не каждый день.
2
Позади кузницы, за курганом, солнце опускалось за горизонт. Курбан не видел заката, но по тому, как все окрест ненадолго осветилось золотом – и дорога, и дремучий зеленый камыш, как, затеяв борьбу с этим золотом, синими змеями поползли из камышей сумерки, сначала понизу, по-над землей, и вот уже потухло золото на дороге, на листьях камыша, длинных и острых, похожих на узбекский серп; сумерки быстро ползли отовсюду; только в небе, в самом зените, еще шла какая-то причудливая игра или, может быть, борьба света и красок – синих и фиолетовых, что поднимались от земли, с бирюзовыми и золотыми, что еще держались вверху; по этой быстрой перемене света Курбан знал, что солнце село и что сейчас будет темно.
С наступлением темноты можно было кончать работу – поковок на завтра заготовлено достаточно, а дорога, как и всегда перед вечером, стала пустынна, ждать, видно, больше было некого.
Большими железными клещами, которые он держал в левой руке, Курбан вынул из горна белую, пылающую, как июльское солнце, подкову, положил ее на наковальню, ударил раза два молотком и вдруг прислушался. Со стороны шоссе донеслись веселые голоса, звон наборных уздечек, топот копыт.
Кузнец смотрел на дорогу, ждал, кто это там сейчас появится? Остановятся или проедут мимо?..
Подкова остывала, меняла свой цвет: сначала была красной, потом стала синей. Но, забывшись, продолжая глядеть на дорогу, Курбан все держал ее клещами на наковальне – в левой руке у него были клещи, в правой – опущенный молоток.
Стук копыт замедлился, и чей-то заискивающий, с хрипотцой, видимо уже немолодой, голос сказал:
– О-о, счастливец Низам-байбача, сам аллах многомилостивый показывает нам дорогу. Вот эта кузница.
Всадники остановились. Оттого, что все они были в белоснежных чалмах и дорогих халатах, а кони их были покрыты яркими и дорогими чепраками, Курбан растерялся и не мог сразу определить – сколько их было, пятеро или шестеро. Он словно онемел, продолжая стоять у наковальни и держать клещами остывшую подкову. «Молодой Низамхан! Желтая птица! – одновременно и радостно и тревожно подумал Курбан. – Это он самый богатый и, как говорят, самый щедрый человек в округе! Так вот он какой! А зачем он здесь?..»
– Эй, чумазый! – закричал тот же человек таким сухим и хриплым голосом, словно его внезапно схватили за горло. – Разве ты не видишь, собака, кто подъехал?1 Подойди сюда.
Курбан никогда не видел столько богатых и так роскошно одетых людей, но еще никто ни разу в жизни его так не называл. Он был оглушен и помедлил, раздумывая, выйти ему из кузницы или не надо, и тут же заметил: молодой всадник в парчовом халате – это, видно, и был Низамхан – легонько постучал хрипатого по плечу рукояткой камчи и сказал ему что-то укоризненное.
Курбан ничего не ответил, отвернулся, нахмурился и принялся бить молотком по холодней подкове.
– Послушай, мастер! Выйди-ка на минутку! – совсем рядом сказал спокойный голос.
Курбан оглянулся. Низамхан едва не въехал в кузницу – должно быть, это не позволила сделать ему низкая, черная от копоти кровля. Остальные спутники остались стоять на дороге.
Курбан вышел, вполголоса, хмуро поздоровался.
– О-о, ты, оказывается, совсем молодой мастер! – продолжал Низамхан, еле кивнув на приветствие кузнеца. – Скажи-ка, парень, где здесь живет человек по имени Юнус? Юнус Кенжаев. Знаешь?
– Знаю.
– Так скажи, как к нему проехать?! Ну-ка, объясни повразумительней! Сможешь?
Курбан помедлил какую-то долю секунды, ответил:
– Не знаю. А зачем вам Юнус, байбача? Он ведь бедный человек.
Смутная догадка шевельнулась в душе, тревога гулко, как набат, застучала в сердце.
– Бедность – не порок. Я его сделаю богатым. Говорят, у него очень красивая дочь. Верно это?
– Не знаю, байбача.
Теперь Курбана самого словно схватили за горло, и голос стал хриплый, тяжелый.
– Так скажи мне, как к нему проехать. Или лучше проводи нас. Я хорошо заплачу тебе. Вот, лови! – Всадник кинул золотую монету, величиной с пятиалтынный, она звонко стукнулась о сухую землю и куда-то откатилась в сторону. Курбан даже не шевельнулся, стоял с опущенными руками.
– Ну так проводи нас, мастер, – опять сказал всадник.
– Не могу, байбача.
– Почему не можешь?
– Не могу. Нога не годится. Зашиб.
– Тогда скажи, как проехать.
– Проехать? Да вы и сами найдете.
– То есть как найдете?! Ты расскажи.
– Да что ж тут рассказывать. Как увидите направо в камышах тропинку, так и сворачивайте на нее.
Курбан больше не сказал ни слова, повернулся и ушел в кузницу. Он поднял с земли остывшую подкову, зачем-то сунул ее в потухшее горно.
Всадники уехали, веселые голоса их и топот копыт слышались до тех пор, пока они, видно, не свернули с дороги. Кузнец снял фартук из телячьей шкуры – он был жесткий, негнущийся, как доска; Курбан сам выделывал шкуру для фартука, купив ее у бродячего старьевщика Убая, который собирал рога, кости, тряпье, копыта, разъезжая по кишлакам, – вышел опять за порог, достал из закрученного пояса домотканых штанов табакерку с красивой махорчатой кисточкой. Курбан любил этот короткий отдых, пока доставал из пояса красивую темно-вишневого цвета тыквянку, величиною с канарейку. Он наслаждался, пока держал ее в руках, не спеша тянул пушистую пробочку, насыпал в ладонь добрую щепоть зеленого наса – крепкого тертого табаку, – и, наконец, ловким привычным движением кидал его под язык. Потом снова закручивал табакерку в пояс штанов, стоял за порогом кузницы, полуголый, без фартука, без рубахи – единственную бязевую рубаху с двумя заплатками Курбан берег, – работал только в фартуке, набросив его на голые плечи и завязав за спиной сыромятными ремешками, смотрел на сереющую в сумерках дорогу, с наслаждением чувствуя, как пощипывает во рту крепкий табачок. Но сегодня ни табакерка, ни хороший табак не принесли ему удовольствия. Неподвижно глядя куда-то перед собой через дорогу, Курбан машинально кинул под язык щепоть табаку и, закручивая табакерку в пояс штанов, вдруг уронил ее, а обернувшись, чтобы поднять, наступил на нее своей босой широкой ногой так, что хрупкая вещичка хрустнула, как сухой тополевый листок. Курбан даже взвыл от досады, как от жгучей боли. Табакерка осталась ему еще от отца и была, быть может, единственной из немногих у Курбана любимых вещей. Что у него еще оставалось?.. Зеленый сундучок, обитый оранжевыми полосками жести! Но сундучок приобрел теперь особое значение и особый смысл, и чувства Курбана к этому сундучку стали как-то раздваиваться: с одной стороны – он напоминал ему об отце и внушал какое-то благоговение, с другой – он стал просто сундучком с деньгами, и его надо было беречь, беречь, иначе, если что-либо случится с этим сундучком, – все пропало: все мечты, все думы, все чувства, вся жизнь – сам Курбан пропадет тогда навсегда. Этот сундучок стал дороже жизни, и, пряча его или изредка отпирая, Курбан уже не испытывал того первого чувства, которое напоминало ему об отце, о детстве. Уже совсем иное, словно постороннее чувство, владело им. Сундучок стоял в таком месте, где бы его никто не нашел. Курбан открывал его раз в неделю, по четвергам, под пятницу, когда прятал в него недельный заработок. Изредка Курбан разговаривал с ним, точно с живым существом.