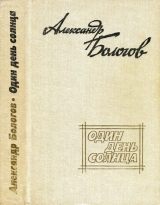
Текст книги "Один день солнца (сборник)"
Автор книги: Александр Бологов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц)
И все-таки жалость брала верх: Ксения видела, что соседка, эта ведьма – как называли ее многие в Городке, – всегда упрямая, как и муж норовистая и бесстыжая баба, сидела перед ней растерянная и беззащитная. Оказалось, что у нее, так неожиданно, так удачно и прочно ставшей на ноги при чужой власти, возвысившей ей мужа и утолившей скрыто носимую в душе всегдашнюю жажду благополучия, в один час все оказалось потерянным, как будто никогда и не было, в миг единый обгорели слюдяные крылья, и нечем было махать – остались одни голые руки… Вот уж верно: не ложись пока спать, не зная, как встать…
– А у сестры-то что твоей? – спросила Ксения, чтоб окончательно перевести разговор. – Правда, дом сгорел?
Личиха подняла брови еще выше, набело обнажая и без того выпученные глаза, сказала потишевшим голосом:
– Сгорел!.. Соседи, собаки, – завистники!..
– Соседи? Да что ты?!
– А кто-о? Свекор ейный в волости служит, приезжал со спецами… Да ить не пойман – не вор.
– И весь сгорел?
– Что ты! Голо место!.. Труба одная, глядеть страшно…
– И дети есть?
– Ну а как? Двое. Третий был – в колодец упал…
– Господи, все вода…
– Не говори. А твой-то, помнишь?.. Тоже ведь чуть не утоп… И это я, – вспомни!.. Я крикнула ему, я ему, чтоб не отцеплялся от этого… Куда ж там ему? Там ему с головой!.
Как не помнить: хотя и не видала глазами, да так переживала, точно все сама и вершила. И это ведь тоже какой-то ниточкой связало их на время, помогло поглядеть друг на дружку без нервов в первые дни.
…Петька Лобан, года на три старше Костьки, на спор взялся перевезть его на спине через Узкий проход. Река там вдвое меньше, но быстрей и холодней, и такое делали – перевозили на себе маленьких ребята посильней да позадавалистей. Спор был горячий, Костьку самого, можно сказать, никто и не спрашивал, хотя и ему надо было насмелиться одолеть на чужой спине глубину.
В воду кинулись всем гамузом, вокруг поплыли все, кто умел. Лобан до середины греб – даже голос изредка подавал, потом примолк и задышал трудней, потому что Костька, еще раньше почуяв его неуверенность, ухватился за шею сильней, затруднил дыхание. Близко от берега Петька, торопясь достать дна, промахнулся ногой, глотнул воды и дернулся вверх, хрипнул, всех пугая:
– Пусти, уже мелко!..
Тут страх заставил всех заорать, потому что боялись за одного – за того, кто не умел плавать:
– Держись!..
– Не отпускай его!..
– Еще носки не достают!..
Чуть выше от купанья, от места, где поскидывала штаны вся суматошная братия, полоскала стирку Личиха – с белым бельем любила ходить сюда, где и вода была посветлей, и камни для колочения получше. И она, когда бросала валек, слышала, как и на чем рядились спорщики, даже остановить хотела, да как-то упустила момент, а когда притихший табунок поплыл, разогнула спину, стала следить за рисковой командой. И вот когда поняла, о чем закричали остальные заспинному неумеке, поддала и своим голосом на всю речку:
– Не отцепляйсь! Держись крепче, утонешь!..
Потом, когда все же сумели не захлебнуться окаянные бесенята, достигли берега, она, грозя пальцем, крикнула Костьке бежать обратно через городской мост. Так в прилипших трусишках и засеменил герой по зареченским проулкам, мокрый, но радый, что живым остался. Все, выходит, выдержали геройство, и Петька Лобан в первую очередь. Но еще в мирное время Петьке первому пришлось и горе испытать: отец его, вагонный сцепщик, под буфера угодил – оступился на скользкой шпале. В Городке его похороны были первыми с речами в клубе: он был член партии и стахановец. Вскоре Петька с семьей куда-то переехал. А память осталась.
…Разговор не приносил облегчения, Ксения смахнула со стола невидимые соринки и сказала:
– Ладно, чего болячки ковырять, давай думать, как жить будем…
Рыжоха знала многое. Она даже, оказывается, уже пробовала самогонку – тайком от отца и матери, и вкус ее, как сказала, показался ей очень противным. Костька с Вовкой испытать его еще не успели, но, соглашаясь, поддакивали: верно, вкус не очень… Рыжоха здорово разбиралась в базарных ценах, знала, в каких местах и чем там торгуют, что и когда выгодно покупать и продавать, какие товары имеют хороший сбыт в деревне. Была она сытой и сильной, и если не ростом, то сложением заметно обошла своих бывших одноклассников. Грудь ее, почти такая же, как у взрослых женщин, налившаяся внезапно, за одну последнюю зиму, даже, казалось, мешала ей дышать. Такое, во всяком случае, предположил Вовка, с которым Рыжоха стала заигрывать в первый же день, как они с матерью переселились в савельевский сарай.
Сразу же как только выпала возможность, она повела их на базар и, едва скрылся дом, достала из-за пазухи и показала украденную у матери батистовую кофточку. Кофточка была, конечно, не Личихина – не ее фасона и не ее размера, она бы не налезла даже на Рыжоху. Это она и сама подтвердила, сказав коротко и ясно:
– Отец где-то достал.
– А как же ты взяла? – спросил Костька.
– Из сундука… – Она ответила и усмехнулась – Вот так, ручками… – Потом, чтобы успокоить их, добавила: – Она его редко открывает, а до дна вообще не докапывается, там у нее все уложено и нафталином пересыпано. Дома я не знала, где ключ, а тут увидела. Она на речку, а я – раз, и все.
Было как-то неловко и даже страшновато, но Рыжоха вела себя совершенно спокойно. Пока Костька с Вовкой, стыдливо отделившись от нее, толкались по бывшему мясному ряду, где на длинных лотках торговали теперь всем чем бог пошлет, она с кофтой в руке прохаживалась в самом тесном месте, у ворот, где движение было наиболее оживленным.
Около рассохшихся молочных столов прямо на земле несколько старух разложили свое богатство. Чего только не лежало у них на расстеленных, прижатых по углам камнями вытертых клеенках: горстки гвоздей, старые дверные ручки, подсвечники, замки с ключами и без ключей, ношеные фуражки и рамки для фотографий, железные, вычищенные песком вилки с тонкими истертыми зубьями, разномастные пуговицы, тарелки и стаканы, мужские подтяжки и гамаши, щипцы для сахара и плойки… Поближе к торговкам, под руками, лежал товар подороже: кусок мыла, пара обуви…
– Спекулянтки, – говорил про них Вовка, не раз видевший, как к старухам подходили разные люди – и пацаны и взрослые – и сбывали им такого же рода вещи.
Если признаться, они сами несколько раз пытались найти, что бы можно было отнести на продажу, чего бы сразу не хватилась мать и без чего можно было бы обойтись дома. Но, кроме самых явных пустяков, ничего не находилось.
Когда они проходили мимо редких молочниц, державших кубаны с молоком в мешках возле ног – чтобы всегда чувствовать и знать, что они целы, – а один, для первой продажи, перед собой на столе, у них на глазах двое парней нахально и ловко обокрали одну из теток.
Их заметил Вовка и, заволновавшись, но все же стараясь не показывать, что обнаружил жуликов, мигнул на них и Костьке. Блатные – а что они из этой породы, было видно за версту – шли парой: один держал в руках развернутое вафельное полотенце и делал вид, что ищет покупателя, другой, чуть приотстав, вроде бы рассеянно и равнодушно посматривал по сторонам, а на самом деле четко держал на прицеле всю обстановку. Вовка обратил внимание на них потому, что женщина, к которой первый, с полотенцем, уже подходил раз, сразу ухватилась обеими руками за кубан на столе и затрясла головой: не нужна, мол, мне эта ваша вафель. Второй жулик уже тут как тут толокся рядом, зыркая глазами поверх голов, а ища – по столу.
И вот они подошли к тетке помоложе других. Малый с полотенцем двумя руками быстро протянул ей к самому лицу развернутый товар, и, пока молочница, не понимая, зачем ей так настойчиво суют утиральник, отталкивала его от себя, компаньон проворно схватил под полотенцем кубан и тут же передал его проходившему мимо человеку. Тот – выходит, их было трое, целая шайка, – так же проворно подхватил передачу и вертко изменил движение и спиною к обворованной, держа кубан перед собой, как ни в чем не бывало зашагал дальше.
Когда женщина очухалась и хватилась молока, а потом стала кричать, малый перед ней от возмущения даже замахнулся полотенцем – такой оскорбленный вид сделал, подлец. А кубан, как ни крутила головой, ни нагибалась незадачливая торговка под стол, будто сквозь землю провалился.
В первый момент Костьку дернуло сразу же дать знать пострадавшей, кто ее обворовал, жулики еще не исчезли, ругались с нею на ходу, но Вовка схватил его за пальцы и так стиснул, что он вовремя удержался от крика.
– Ей ничего, а тебя пырнут – и будь здоров!.. – Вовка прошипел и обернулся поглядеть на других торговок – Видишь, помалкивают?.. А видели небось…
Опять стало не по себе, Костька проглотил готовые было вырваться слова и тоже огляделся. Растерянная, все еще не пришедшая в себя женщина причитала от обиды и испуга, все глядела вокруг себя на столе и под ноги: этак и весь принос мог исчезнуть. Но соседки, выжидая, когда скроются аферисты, уже готовились растолковать неопытной товарке, что с ней приключилось и как оберегаться в таких случаях.
Из-за мясного павильона вышли двое дежурных полицаев с белыми повязками, молча оглядывая народ, прошли мимо. Тут появилась и Рыжоха – довольная, запыхавшаяся.
– Загнала, – выпалила она на ходу. – Во! – И показала в кулаке деньги.
Ей рассказали о случае с молоком, она особенно не расстроилась, махнула рукой:
– Ай, тут часто слезы льют.
Потом спросила Вовку, будто он один стоял перед ней:
– Ну, чего купим?
– Из еды?
– Ну конечно…
Вовка пожал плечами, повернулся к Костьке:
– Костьк, чего?
Но Рыжоха опять пристально поглядела на него и усмехнулась:
– Ну, чего ты хочешь?
Вовке стало уже не по себе, что она так старается и все время лезет к нему.
Костька выручил:
– По огурцу соленому, а?
Вовка согласно кивнул и проглотил слюну. И тогда Рыжоха предложила сама:
– По порции картошки и по огурцу? И по лепешке?
Картошку продавали из кастрюль, укутанных в старые одеяла, кофты, ватники, накладывали в блюдца – есть нужно было тут же. От пюре с жареным луком, коричневые крапинки которого, как редкие горошины на белой ткани, четко выделялись в светлой массе, исходил такой аппетитный запах, что невозможно было совладать с ожиданием и хотелось тут же искупать отчаянную и, как оказалось, совсем не жмотливую Рыжоху в теплом море своей души. Огурцы купили отдельно, хватило денег и на лепешки – пресные натирушки с ножевыми полосками поверху, затмевающими вкусом, кажется, все, что помнилось из довоенных лакомств.
Когда подходили к дому, внутри все-таки что-то напряглось, сердце не было спокойным. Жизненный опыт научил давно: за буйным смехом следуют слезы, за бездумной радостью – какая-нибудь беда. И как только у дверей неожиданно выросла Личиха – она выскочила, увидев их в окошко, – и, ухватившись за щеки, закачала растрепанной головой, стало ясно: расплата обогнала все самые горькие предположения. За Личихой на крыльцо быстро вышла и Ксения и тоже вцепилась растерянными глазами, замахала рукой, чтобы шли быстрей.
Рыжоха примолкла и покраснела. Мать подбежала к ней, но вместо того чтобы начать бить, вдруг обхватила за плечи и запричитала:
– Доченька, тебя в комендатуру!.. Приходили счас, искали!.. Ой, доченька, чего вы наделали?!
За полчаса до этого в доме побывали полицай Закурбаев и с ним немец ефрейтор, спрашивали всех ребят и велели, чтобы они, как только придут, сразу же явились в комендатуру.
И Ксения и Личиха заголосили в один голос:
– Зачем являться-то, господи? Регистрироваться куда-нибудь? Да лет-то им сколько? Да что же это такое делается-то!..
Закурбаев покатал за щеками желваки:
– Не регистрироваться… Нашкодили – пусть отвечают…
– Чего нашкодили? Не могли они!.. Когда ж они могли?.. Это, верно, другие кто… А почему в комендатуру-то, а не к вам в участок? – Ксения чуть не вплотную притиснулась к полицаю. Тот злобно выгнул узкие губы, и, не повышая голоса, проговорил:
– Не знаю. Им нашкодили… – Он указал косыми глазами на немца, тот кивнул. – Пусть сразу идут, ясно – нет? Их ждут там…
– А девку-то мою зачем? Она-то что сделала? – Личиха крутилась вокруг полицая с немцем, все надеясь, что Закурбаев, крепко вспомнив, зачем пришел, успокоит ее, скажет: да, да, девка-то зачем? девка действительно ни при чем… Но тот поглядел на нее злыми глазами и убил надежду:
– И она пусть идет… Там не только ваши.
Костька шел впереди матери, лихорадочно перебирая в памяти события последних дней, и никак не мог вспомнить ни одного, которое могло бы объяснить или хотя бы навести на мысль о причине вызова в комендатуру. Может быть, листовки? Серые шершавые бумажки в половину тетрадочного листа с плохо пропечатанными словами… В последних двух строчках буквы покрупнее: «Смерть фашистским оккупантам! Прочитав – передай другому…»
Костьке никто не передавал эти листовки, он подобрал их – три штуки – в канаве, идущей вдоль железнодорожного полотна, в траве, и, придя домой, сразу же показал Вовке. Того тоже смутили последние слова, будто это был действительный приказ тому, кто подержит в руках и прочтет листовку. Никто, конечно, не видел, как Костька поднимал их с земли и нес за пазухой и как они с Вовкой разглядывали их дома. Между прочим, все эти лоскутки можно было легко уничтожить, тут все было бы, как говорится, шито-крыто. Но не давала покоя последняя строчка: кто-то глазастый и внимательный смотрел из-под нее и требовал: «…Передай другому!»
Одну листовку отнесли Вальке Гаврутову, две других незаметно подкинули в соседние дворы. Вот тут кто-нибудь мог заметить…
Или не листовки, а портрет Гитлера? Переселяясь на новое место, квартиранты оставили его в комнате на двери. Может быть, просто забыли, поэтому мать не позволяла снять его сразу, велела подождать: а вдруг вспомнят да объявятся. Однако время шло, немцы за портретом не приходили, а вскоре вообще отправились вместе с частью на фронт, тогда-то Вовка и перенес плакат в сарай. Прилепили его на дальней стенке и долго расстреливали из рогаток: целили в фашистский знак на рукаве, в орла на высокой фуражке, а потом все время в лицо. Когда портрет разлохматился, Вовка, уцепившись за верхнюю кромку плаката, располосовал его по всей длине. Гитлер раздвоился – стало совсем смешно…
Может, кто-то видел их в сарае за этим делом?..
Около комендатуры сбились в беспокойную стайку несколько женщин. К ним, словно по зову какого-то скрытого родства, устремились и Ксения с Личихой и тут же, в остром предчувствии близкой беды, застенали, слили свои голоса с разрозненными всплесками общего плача. На крыльце показался высокий костистый немец ефрейтор; оглядываясь на дверной проем, он нетерпеливо бросил несколько слов кому-то в помещении. Оттуда вышел солдат и следом за ним – Ленчик Стебаков…
В первый момент показалось, что он настойчиво подмигивает, стараясь делать это скрытно: плотно прикрыл левое веко, сохраняя на лице выражение полного равнодушия и безразличия… От его прищуренного глаза повеяло расслабляющей успокоительностью, и Костька облегченно вздохнул и тоже хотел моргнуть, отозваться на тайный знак. Он внимательно поглядел на несколько скошенное лицо и вдруг мгновенно понял, что никаких знаков ему никто не подает, что глаз Ленчика не сомкнут, а разбит каким-то страшным ударом: синеватый отек расплылся под бровью, вытянул веки в нитяную щелку, ослепив половину лица.
– Зи? – коротко спросил ефрейтор.
Костька увидел, как он качнул своим подбородком в его с Вовкой и Рыжохой сторону и перевел взгляд на Стебакова. Тот кивнул.
– Ком! – Долговязый движением головы приказал идти за ним и повернулся ко входу, Ленчик двинулся следом.
В передней комнате за столом сидел еще один немец, второй, приблизившись к подоконнику, наблюдал за происходящим на улице. Около двери молча скучились несколько знакомых городковских ребят. Костька хотел узнать у кого-нибудь, за что их всех согнали сюда, но ребята были так испуганы и подавлены, что вопрос застрял в горле.
Рыжохе велели отойти в сторону. Ни жива ни мертва, она отступила к длинной скамейке, стоявшей посреди комнаты, уставила вытаращенные глаза на самого главного здесь – длиннорукого мрачного ефрейтора. Вот он буркнул что-то солдату, выходившему с ним на крыльцо, и тот, отлучившись на минуту, вернулся со второго этажа вместе с Закурбаевым, заранее знавшим, что надо делать. Полицай понимал по-немецки, он выслушал короткое слово начальника, кивнул и повернулся к застывшим у порога ребятам.
– Кто из вас брал вот это из ящиков возле старого клуба? Кто воровал? – Закурбаев потянул к себе лежавшую на столе газету, под нею открылся плоский шелковый мешочек. – Я спрашиваю ясно, нет?
Во рту стало сухо, Костька с трудом сглотнул. Вот, оказывается, в чем дело: в порохе, в этих белых круглых мешочках. Как же быстро они их хватились!..
Ящики со снарядными гильзами, заполненными такими мешочками, появились неожиданно и лежали рядком около клубной стены безо всякого присмотра. Разнюхал, что в них скрыто, Ленчик, он первым и вытянул из нескольких гильз по скользкому пакету из белоснежного шелка и показал всем, кому хотел. Порох в них – серые в полногтя пластинки – горел жарко, но спокойно, им можно было разжигать сырые дрова в печке, усиливать слабый огонь. Шелка из пакета выходило немного, два круга с блюдце величиной, но такой красивой материи, наверно, никогда и ни у кого не было…
– Кто брал? Кто воровал, я спрашиваю? – Закурбаев схватил белую лепешку и, вытянув руку, приблизился к стоявшим в голове группы Костьке и Вовке. – А? – Он посмотрел через плечо на Стебакова – Этот брал?
Гладкий шелк коснулся Костькиной скулы. Ленчик слабо кивнул. Подошел ефрейтор и, отстраняя полицая, неожиданно хлестнул Костьку ладонью по щеке. Удар был такой тяжелый, что сразу онемела вся левая половина лица, в голове загудело, соленая кровь густо заполнила рот.
– Никс цап-царап! – не размыкая зубов, громко произнес немец и остановил взгляд на Вовке, сжавшем губы и сузившем глаза в ожидании своей доли. Его немец ударил еще сильнее, с хриплым выдохом, так, что Вовкина голова метнулась в сторону, и кровь тут же засочилась сквозь губы и закапала из носа.
Немец бил всех одинаково: коротким замахом сбоку, после каждого удара сжимая и распрямляя пальцы, давая ладони отдых. Когда он подошел к Рыжохе, раздался отчаянный визг, и за окном эхом отозвалась Личиха. Фельдфебель скривил губы и, подняв левой рукой Рыжохе подбородок, правой хлестко шлепнул по гладкой розовой щеке…
Вовка не вытирал кровь – она текла по подбородку, капала на рубашку; когда первые капли упали на пол и немцы обратили на это внимание, Закурбаев злобно сказал ему:
– Ну ты, придержи сопатку!
Вовке первому и велели лечь на скамейку – на него указал фельдфебель. Вовка лежал вниз животом; оседлав лавку, на ноги ему сел полицай, голову тем же манером зажал бедрами один из солдат, в руках у другого появился резиновый хлыст. Долговязый, потирая отбитую руку, уселся за стол и распоряжался оттуда.
Первый удар прожег спину до костей – так Вовке показалось. Из горла выскочил куцый, оборвавшийся в самом начале вскрик, и огонь охватил все тело от пяток до стиснутых солдатскими ляжками висков. Боль заглушила стыд, как-то уравновесила его и оттого пережилась легче. А было – хоть до смерти, хоть убивайся, когда Закурбаев, обрывая пуговицы, рывком стянул с ягодиц штаны. Если б еще не было Рыжохи… Дальше было больней, ожидание режущего огня на голой спине было мучительным. Хотелось вгрызться в скамейку…
Немец стеганул всего три раза, и велено было встать. Напрягая ослабшие ноги, Вовка отвернулся от Рыжохи, стал поднимать сползшие до пола брюки. К лавке подтолкнули Ленчика. Он первым закричал во весь рот, заорал, забывши о немцах, Рыжохе, о матерях на дворе, и его мать, как подбитая сама, откликнулась таким же криком. Так по очереди и отвечали женщины воплем, узнавая родной голос. Одна из них, не выдержав, застучала в раму, фельдфебель выругался и выбрался из-за стола. Снаружи прогремел выстрел – наверно, в воздух…
Рыжохе Закурбаев с напарником задрали платье, спустили трусы; красный след от резинки словно перевязал плотное, уже большое тело. Она выла, не сопротивляясь, не закрываясь от ребят, и им, уже пережившим боль и позор, тоже не было стыдным смотреть на нее всепрощающими глазами общего унижения и участия.
17
До наступления сумерек теперь часто приходилось сидеть в подполье, туда перенесли коптилку, – устроенная в нишке, она мерцала живым глазом, как лампадка. В светлое время – с каждым днем все гуще и голосистей – высоко над головой просвистывали невидимые снаряды. К их острому шелестению и далеким разрывам в районе текстильного завода, вокзала, у мостов через реку постепенно привыкли. Обстрел продолжался несколько недель.
В последнюю из них немцы начали взрывать город. С холма старого монастыря было хорошо видно, как оседали одно за другим и заволакивались пылью крупные здания заводских цехов, кинотеатров и жилых домов на центральных улицах. Группа подрывников прошлась и по улочкам Рабочего Городка – повалила электрические столбы. К каждому из них саперы привязывали по паре толовых шашек, соединяли тонким шнуром и включали ток. Столбы подсекались на высоте опорных рельсов и падали, обрывая проволоку, на дорогу, в палисадники, на крыши домов. Вслед за саперами Костька с Вовкой потянулись на Пушкарскую улицу, от нее до Семинарки столбы шли ровной редкой цепочкой. Было странно видеть, как они – точно живые – под треск взрывов вздрагивали все разом и валились, скошенные, какой куда, качаясь на загудевших жилах проводов.
Старой известью веяло от развалин школы; когда ее разрушили, увидеть не удалось. Валька Гаврутов, заглянувший на минутку, только и успел выдать:
– Капец нашей тринадцатой!..
Он хромал – опять не повезло: в развалинах школы, увидев среди камней раму с большими счетами для первоклассников, хотел добраться до нее и проколол на гвозде ногу. И рама-то была ломаная…
Валька тут же умотал, а Костька с Вовкой, умолив мать, сбегали-таки за Средние ворота поглядеть на то, что осталось от школы. Среди кирпичного развала тонкими костями скелетов топорщились спинки и сетки покореженных железных коек, которыми немцы заменили в классах парты. Значит, они и койки не стали вывозить, подорвали все как было.
Тягачи-фургоны с солдатами убыли из Рабочего Городка в первые дни далекой канонады, медленно нарастающей, приближающейся к городу с восходной стороны. На улицах и в проулках, в широких дворах зияли опустевшие ямы укрытий с масляными потеками на дне. Ночами артобстрел затихал, прекращались взрывы, город замирал в ожидании новых тревог и потрясений.
Личиха, давно переселившаяся к себе, опять неожиданно пришла среди ночи к Савельевым. Достучалась, вызвала Ксению за порог.
– Погляди, что деется!..
За Сергиевской горкой, за темной купой старых лип, как болезненные вздохи, беззвучно вспыхивали низкие зарницы.
– Слышишь? – Личиха отвела с виска платок, повернулась ухом к частым сполохам. – Стрельба какая!..
– Наши…
– Видно, да…
Под скатом сарайной крыши еле различалась Рыжоха, прижимавшая к животу узел.
– Валь, ты? – спросила Ксения, присматриваясь.
– Я.
– А чего прячешься?
– Я не прячусь…
– Боюсь я, – сказала Личиха, поворачиваясь к дочери, – начнут бомбить, завалят нас в хате, и никто узнать не узнает. Пусти к себе в подпол, Ксюша? Поместимся, чай?..
– Да мне что, иди, если хочешь. – Ксения поглядела на затягиваемое тучами небо. – Может, сегодня пронесет… Мы-то все дома пока, в комнатах.
Личиха принесла с собой хлеба, две головки чеснока. По этому случаю подняли ребят, и вскоре кухня, где сгрудились все вокруг стола, наполнилась ядреным духом, исходившим от натертых чесноком корок.
Ксеньины ребята лизали остатки своих истертых долек, отщипывали языком крошки от ломтей – все растягивали радость. Липучая острота жгла губы легким отрадным огоньком.
Это была чрезмерная плата за приют, что было ясно и детям, но ни Личиха, ни Ксения не проронили ни слова, пока последняя делила небольшую початую ковригу и отщепляла каждому по зубчику драгоценной приправы.
– А поди оно все прахом! – среди тишины неожиданно вырвалось у Личихи. Она оставила свой хлеб и приложила концы платка к глазам.
Ксения не отозвалась. Не раз, покуда обитала в сарае, соседка заводила такой разговор. Заводила и ждала ответа, ждала слова, которого у Ксении не было. Что было ей сказать? Что переделаешь в минувшей жизни? Да и, что греха таить, не сама ли гоголем ходила, когда мужик вернулся, выпущенный немцами, да силу набрал, никого из своих и за людей не считая? Думала ли о завтрашнем дне, как, к примеру, она сама, Ксения, со своей тройкой или даже Нюрочка, с тремя же, или… Лина-мученица?.. Нет, не думала, не думала… Ну а как, как все же такое могло случиться, что брат родной в Красной Армии, а свекор в волости заправляет? Или – своя власть осудила, а чужая в герои произвела? Это – о Егоре… Конечно, не погладят, когда вернутся…
Ребята ушли в запечье, шептались там с Валькою. Личиха тоже что-то шептала, вытирая невидимые слезы, всякий раз оглядываясь на тревожный, готовый вот-вот умереть огонек коптилки.
– Не погладят, нет, – говорила она, вздыхая, остановив затуманенный взгляд на золотом мерцающем пятнышке.
– А с другой стороны, ты-то при чем? Ты даже не работаешь счас нигде…
– Нигде, Ксюша, нигде. – Личиха указала рукой на занавешенное окно. – Ни одного дня при них не работала. До войны пятнадцать лет кладовщицей протрубила в вагонке. И чтобы недостача у меня или что еще – никогда. Ко Дню железнодорожника мне раз ситца дали – награду за честную работу. Истинный бог! Рази не зачтется все? Пятнадцать лет кладовщицей протрубила!..
– Жена за мужа не ответчица…
Ксения произнесла последние слова и даже поперхнулась и сжалась вся внутри: чего же это она такое говорит-то? Вот бы сейчас Николай послушал да поглядел на нее!.. Господи, да разве может быть такое, чтобы она отступилась от него, от его дел и забот, от всей его жизни? Не одну любовь делили – а все, все, чем были связаны: от первого чулана, что молодыми сняли под угол, до самого сокровенного слова – как на исповеди сказанного. Да и кто еще может быть ближе тебе, кроме мужа, в которого всю жизнь глядишься, как в зеркало? Он – стержень веры твоей во все, чем живешь, – в детей твоих, в кров родной, в хлеб насущный. Не раз приходило на ум: какая же часть ее перелилась в Николая, а его – впиталась ею самой, ибо и мысли его все чаще в себе ловила, и свои желания, еще не высказав, видела отраженными в его глазах и голосе.
– Я что имею в виду, – решила все-таки поправиться Ксения, – не ты ведь в тюрьме-то сидела, не тебя они освободили…
Личиха была рада любому участливому слову.
– Да, Ксюша, да, моя хорошая…
Щеки уловили мокрое дыхание – так плотно приблизилась лицом соседка. В спутанных волосах ее легко различались светлые нити, жестко гнувшиеся на висках. Мелькнула попутная мысль: когда же она выступила, седина-то? Вроде бы с ровной головой всегда ходила…
Но не эта мысль беспокоила.
– А уж раз так получилось – чего поделаешь?.. – запоздало отозвалась Ксения, тут же подумав, что говорит не от сердца, а так – толчет воду, лишь бы не молчать.
Ну, а с другой стороны, чего тут, правда, скажешь? Придут, разберутся, кому надо, тебя не спросят…
За печкой сдавленно прыснули дети и тотчас примолкли, опасаясь родительского гнева. Валька все смешит ребят, – отметила без особой досады Ксения, безотчетно обращая глаза к потолку и прислушиваясь. Личиха увидела это и, забеспокоясь, тоже вперилась в наддверный угол, ничего еще не чувствуя ухом, но уже понимая сердцем, отчего вдруг, вытянувшись в спине, застыла хозяйка.
– Летят?! – Личиха, освободив ухо, быстро пожевала губами. – Да?..
Ксения уже опознала звук, мгновенно задержавший всякое движение в душе и давший волю острому, как жало, страху, кажется, навек угнездившемуся в ней со времени первой ночной бомбежки. «Гув… гув… гув…»– ноюще просачивалось сквозь стены, вдалеке затарахтели первые зенитки.
– Летя-ат!.. – облизала она быстро высохшие губы. – Опять на мост.
– Чтоб он провалился!.. – прошептала Личиха, плотно затягивая на шее конец платка.
Ребята за печкой продолжали шептаться и хихикать.
Узкий, в одну колею, мост через реку бомбили много раз: насыпь вблизи него и дно реки были изрыты воронками разных размеров, следы осколков виднелись чуть ли не на каждой стяжке ажурных ферм. Однако угодить в проезжую часть моста или хотя бы в какую-нибудь из его опор летчикам не удавалось: густо понаставленные вокруг зенитки заставляли их сбрасывать бомбы с больших высот – наугад, на случай.
С приближением фронта, гулкий голос которого рокотал все явственнее, налеты на переправу участились: в некоторые ночи осветительные ракеты повисали над нею по нескольку раз, заливая бледным светом словно омертвелое пространство приречной округи. Падающие бомбы, скинутые с большой высоты, выли долго, острым звоном заходясь у самой земли, от их тяжелых разрывов содрогались дома и души их обитателей по всему Городку.
Гул далеких самолетов стал слышен отчетливее, бесперебойно гремели выстрелы зенитных пушек и пулеметов. По темному небу, неожиданно отсекаясь редкими клочками облаков, из стороны в сторону скользили тугие лучи прожекторов. В какой-то момент один из них, запнувшись на секунду, подался назад, затоптался на месте и тут же высветил далекую бледную точку, медленно ползущую по небосводу. К этой точке – самолету, идущему на большой высоте, устремились и другие лучи, едва достигая его своими размытыми концами. К далекому скрещению их, обессиленных расстоянием, понеслись быстрые цепочки трассирующих пуль, но и они – видно было – теряли на излете скорость, не достигая ведомого прожекторами бомбардировщика.
Когда он оказался над крышами Городка, возник хорошо знакомый нарастающий вой, прервавшийся тяжелым грохотом за прибрежной стеной ограды, на реке. Грохот был долгий, перекатистый.
– Всё, угодили!.. – прошептала Ксения.
Но вслед за первым взрывом через какой-то промежуток ухнул второй, не менее тяжкий, явственно отозвавшийся в подполье, где при непогашенной коптилке скученно сидели Ксения с Личихой и дети.
– Бейте, бейте!.. – с привсхлипом вздохнула Ксения, убирая с прищуренных, поднятых кверху глаз не то слезу, не то просыпавшуюся в щель пола пыль.
– Креста на тебе нет, – разлепила стиснутые губы Личиха. – Они же в мост метят, – прошептала она.
– Знамо дело. А куда же еще?
– А ты говоришь – бейте.
– А немцы по нему все упрут, да и сами утекут без забот и ответа.







