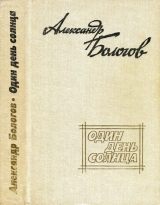
Текст книги "Один день солнца (сборник)"
Автор книги: Александр Бологов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
В голосе сына Ольга уловила праведную обиду.
– Представляешь, перестал здороваться. Даже другим соседям что-нибудь наклепал, хам, – так думаю.
– Да ну, сынок…
– Не да ну, а точно. Что я, слепой?
– А не дашь, так еще и облает, чего доброго…
– А что ты думаешь? Факт. И такое было, скажи, Лид? Ну, Михалыч… – Лида кивнула. Михаил повернулся к матери – Есть тут такой друг дома…
– Да что ты! – Ольга переплела пальцы и приложила руки к подбородку.
– Да-да-да. Пришлось сказать пару ласковых…
– Небось не понравилось?
– Ничего, утерся.
Они уже сидели за столом, на кухне. Стол накрыла незадолго до прихода детей с работы Ольга. Что где лежит из посуды, скатерок, съестного, она знала по предыдущему своему приезду и, хотя в кухне с тех пор многое изменилось – прибавилось кое-что из вещей, продукты хранились не в подоконном шкафчике, а в холодильнике в прихожей, – легко разобралась в невесткином хозяйстве.
Запах пищи, приготовленный матерью, пробудил у Минакова совершенно отчетливые воспоминания.
…Их дом. Обжитые, изученные, словно ощупанные руками, деревянные стены и низкий потолок на двух матицах с рваным следом осколка на задней, в детской половине за занавеской.
Осколок с войны, когда в первый год недалекой бомбой, снесшей такой же домишко через улицу, подняло и грохнуло и их избу. В тот ночной час в доме находилась одна мать – стерегла пожитки, дети перед бомбежкой сбежали вниз, в дворовый погреб-выход. Их всех там тоже здорово встряхнуло при взрыве. Соседка, Варя Грибакина, бывшая в погребе со всеми детьми, после говорила, что они уже было отпели Ольгу, – думали, в дом угодило.
К осколочному следу привыкли, как привыкают к своим рубцам, морщинам. Убери его – душа сразу бы отметила, дрогнула б непонятно, как если бы обнаружилось вдруг, что исчезла старая боль, которая давно изучена, с которой свыклись.
Узоры прошлой жизни замаячили перед Минаковым.
…Кирпичный приступок у плиты, выскобленный на углу, где мать направляет под лапшу ножик. Лапша на трех желтках, крутая, – стол скрипит, когда мать, бросив пястку подсыпки, затирает и затирает тугой сбиток. А потом Мишка с тайным страхом ожидает, когда она, быстро и мелко кроша тонко раскатанные, свитые в трубки листы, чикнет себе по пальцам… Ножик тонкий, стершийся чуть ли не до верхнего ребра, его гибкое жало, мелькая у чутких пальцев, легко отсекает желтые спирали кружев.
…Оконные карнизы – готовые крыши для воробьев. С тех пор как Мишка помнит себя, покатые доски птичьих кровель сберегали крикливые выводки серых чирикалок. С раннего утра и до сумерек шныряли пестрые хлопотуны у крытых гнезд, стрекотали, дивясь аппетиту горластого потомства, и без раздумий кидались в драку с нахальными или просто любопытными чужаками, сующими нос в их владения.
Воробьи сами закладывали один из выходов своего жилища, и Мишка, соображая, когда оперятся новые птенцы, забирался к карнизу, запускал под доску руку и выскребал с насиженного места очумевших пискунов. Он не губил глупых птах, просто показывал ребятам, пытался кормить мухами и червяками и, позабавившись, клал воробьят на место. Бывало, что ему удавалось подловить и взрослую птицу, когда та, с добычей в клюве, подежурив для порядка у порога своего жилья и убедившись в безопасности обстановки, ныряла под карниз. Тут Мишка ее и прищучивал. Но тоже отпускал, повозившись.
…Особый день в доме – когда выставляют рамы. Его долго ждут, примериваются к погоде, присматриваются к соседям, и наконец мать решает? в выходной. В этот день происходит что-то диковинное и радостное. Хотя чего тут такого: вытянули присохшие переплеты, выскоблили подоконники и промыли затускневшие стекла. И все тут – да не все. Тут каждый ждет своего дела: Мишка руками вышатывает гвозди из старых гнезд в боковинах и помогает матери отпечатывать тяжелые рамы и тащить их на чердак. Санька волокет на двор размокшие кирпичи, закладываемые между рам от сырости, а Зинка собирает с них лежалую вату – на игры.
Трещит отдираемая оклейка, и чудится, что с этими звуками в окна пробивается возвращенное солнце. Тут кончается зима, – выплескивается вместе с мыльной обмывной водой на помойку. Дом становится глазастее и шире, веселее смотрит на улицу. Долго после этого ходишь по комнате, точно не узнавая ее.
…И еще – притолока. Не первая, у дверей с улицы в сени, а вторая – в капитальной рубленой стене. Слава богу, что не каменная, – что б тогда сталось с Санькиной головой! Так уж установилось: во всякий приезд, как перерос проем, раза два он обязательно заденет макушкой притолочное ребро. И всегда на выходе из дома: то ли когда радостный гулять наладится, то ли по утрам, спросонья.
А у матери, как только он на ходу саданется теменем по острой кромке, у самой искры сыплются из глаз и сердце защемливает. «Господи, сынок, прямо зла не хватает!»– говорит она в такой момент, морщась от натуральной боли в груди. А Мишка, если оказывается в это время в доме и видит очередной Санькин причес, выдает готовое: «Чего ты косяк пробуешь, он все равно мягше». Молчит Санька, только кряхтит, как старик, да трогает ладонью макушку – не выступила ли кровь…
5
Минаков даже вздрогнул слегка, как-то поежился от этих картин. Все они пронеслись в его сознании очень быстро – может быть, в какую-то одну секунду, или, как говорят, миг, и словно бы прибавили чего-то материному супу, который он съел тоже быстро и с большой охотой. И прихлебывал он как-то не по-обычному, как давно привык, а так, как делал это в детстве.
– Твой суп. Как был твой, так и есть, – сказал он, облизывая ложку.
– Да так, сынок, по-простому, – отозвалась Ольга, в общем-то довольная похвальными нотками в голосе сына. – Было б из чего.
А Лиде материно варево не показалось, – ее собственные бульоны были прозрачны, как стекло, и запахи их были тонки и определенны. Но она была человеком уважительным – она улыбалась, и кивала довольно головой, и аккуратно черпала бочком ложки вытомленный в закрытой кастрюле суп.
Ольга смотрела на детей и думала: как же она расскажет им о том, с чем приехала. С чего начнет? Отзовется ли невестка и хватит ли у нее сердца воспринять ее предложение так, как должна это сделать любящая жена?
За сына Ольга боялась меньше – он не должен отказаться. Ее тревожила Лида – женщина ровная, вроде бы и ласковая, но все-таки… все-таки чужая…
«Нет, господи, лучше не думать пока об этом, – поежилась Ольга. – Пожить, поглядеть, узнать, чем они дышат…»
– Ну, еще по одной? – Минаков открыл графинчик, куда перед ужином перелил стоявшую в холодильнике початую бутылку водки. – Чтобы не хромать…
Мать прикрыла свою стопку рукой:
– Нет-нет-нет!
– Как это нет! – Минаков уверенно занес граненую посудину. – Водочка, если в меру, только на пользу. Доказано и проверено.
Но Ольга не убрала руку, а потом, чтобы не обидеть сына, прижала широкий, грубого стекла стаканчик к груди и замотала головой:
– Я уважить – всегда уважу, а так – что добро переводить? Мне оно без вкусу. Право слово, сынок. Ну одну, поддержать компанию, тут надо, я не отрицаю. Ты себе наливай, а как же.
– Ну смотри, тут дело такое, неволить нельзя. – Михаил плеснул маленько в Лидину стопочку – та согласно кивнула – наполнил свою. – За все хорошее!
– Вот и дело, сынок. Слава тебе господи, все теперь есть. Как вспомню, как жили! Разве сравнишь?
– А есть недовольные…
– Это с жиру, сынок, если на жизнь жаловаться. Ну, погляди сам, разве сравнишь? – Ольга обернулась к двери в комнату, потом оглядела сплошь пластиковую кухню. – И Санька хорошо получает, и у Зинаиды жилье– любо-дорого, только живи… А есть как стали?
Минаков смотрел на мать и вкусно, серьезно и четко жевал. Она продолжала:
– Погляди, как теперь ходят в гости. Как принимают у себя в дому. Наделают салатов, голубцов, и колбаса обязательно, и рыбу нажарят. Цельные столы. Посмотришь – чего только нет! Я сама, как подходит праздник, так, кто из знакомых едет в Москву, обязательно заказываю чего-нибудь – колбасы получше, селедки.
– Жить, конечно, стали лучше, факт, чего тут говорить, – сказал Минаков. – Может, поэтому и безобразий сейчас так много.
– Каких безобразий?
– А всяких. Хулиганства, пьянства, распутства. Вон зятек твой от нищеты, что ли, куражится? Давить их надо, мам. Ну, не живьем, понятно, не совсем, а придавливать – ставить на место, чтоб чувствовали, хамы, ответственность перед окружающими. Я бы на месте милиции…
Ольга слушала сына и кивала головой. Но внутри ее что-то забеспокоилось, засопротивлялось его словам, что-то закопошилось, готовое опереться о твердое и встать, выпрямиться и защитить самое себя. От чего защитить? Кого?
Отвлекаясь от неспокойной речи сына, Ольга словно бы поиграла сама с собой в недоумение, пообманывала было чуточку себя, но тут же созналась в прегрешении: зятя защитить… Да, его. Это ведь о нем сейчас толкует сын, поминая милицию… О нем, да. По голосу слышно.
– Ну это правильно, сынок, – отозвалась она, стараясь не дать понять, что упустила главную нить его рассуждений. – У нас тоже случай на случае. Я скажу, тут от человека зависит. А Толик, когда трезвый, ничего не допускает такого.
– Да ты же сам говоришь: в два, в три приходит! – Минаков поглядел на жену. – Лид, а? Возьму и я – в два, в три и под хорошей мухой. А? Как тебе понравится? – Он засмеялся.
– Да уж, – сказала Лида голосом, который выдал ее с головой: она, мол, и мысли не допускает о подобных вещах.
– Вот видишь, – сказал Минаков матери. – А у меня вроде бы не меньше прав на это.
– Каких прав, сынок?
– Нет, я говорю вообще. Каждый ведь, может так.
Короткое, неясное стеснение в груди постепенно прошло, и Ольга, посетовав в душе на свой характер, повела разговор мягче.
– Если бы только не пил. Совсем ведь другой человек, когда трезвый. Вот как выхлопотали квартиру, взял все в свою рассрочку: шифоньер, стол новый со стульями, холодильник за сто шестьдесят рублей. Летом теперь с малыми детьми без холодильника как без рук. Вот вроде вашего, чуть поменьше. – Ольга показала рукой в угол. – Конечно, никто не без изъяна, у каждого что-нибудь есть, без этого не бывает. А Зинаида – тихая ведь она, по существу, расстраивается, конечно, нервничает, а ничего не может поделать. Я понимаю, его к друзьям тянет, к шуму, а там и выпивка – это дело теперь момент.
– И она пусть идет. Куда он, туда и она, куда он, туда и она, – перебил Минаков мать, – все поймет как миленький, определенно…
Ольга промолчала, не найдя сразу подходящих слов для ответа. А в сознании ее близко высветились последние часы, проведенные у дочери перед отъездом…
6
С Вовкой, внуком, они долго ждали отца с матерью. Ольга перестирала скопившееся детское белье, развесила его на рыболовных жилках в ванной, все время охая, причитая вслух от радости сбывшейся сказки. Не сказка ли – такая квартира! Одна прихожая в половину ее хаты. Балкон внутрь дома – лоджия, теплая постоянная вода – пять минут, и постирушка. Готовые шкафы чуть ли не в каждой стенке. Первые дни никак не верилось, что их не обманули, не обидели, не обделили при распределении, – о чем не уходила тревога ни на минуту. Ольга не помнила за собой такой радости, какую она испытала, переступив порог нового дочериного жилья.
На полу в большой комнате Толик расстелил газеты, налил всем чуть ли не по целому стакану водки, и они, под сладкие слезы и какие-то легкие блаженные слова, выпили все до дна, и Толик грохнул свой стакан об стенку. Он потом и за Лариской ходил в ясли, и нес ее, совсем не способную разделить их безмерной радости, на руках до самого дома, – ночевать они еще долго ночевали на старом месте, и Зинка все тряслась, как бы кто-нибудь не вселился нахрапом в их двухкомнатную. «А что, с участковым не выгонишь…»
И вот все вроде улеглось, ушла горячка, и Ольга засобиралась к Михаилу. Выходило вроде, что дочь настояла, чтобы она проветрилась, пожила в покое и без хлопот хотя бы недельку. «Теперь тебе, самое время ездить по гостям, угольником: то к Мишке, то к Саньке, то опять ко мне, – говорит. – Зарплата не задержится». Это да, каждое тринадцатое число получает Ольга свою пенсию. Слава богу, заработала.
Но не отдых влек ее к старшему сыну, если бы отдых…
Зинка говорить говорит, а попробуй уедь от нее, если в доме такая обстановка. Часто до ночи высиживают зятька родного, до позднего поздна – все огни по городу погаснут, радио на кухне замолкнет – все ждут. Тут уж Ольга не уходит, дожидается, хоть время отметить. А это особенно зятю не по нутру. Ай, что вспоминать!..
Внук объегорит кого хочешь, а бабку и вовсе как нитку вокруг пальца обовьет. Весь букварь у него размалеван в разные цвета, в тетрадках одни трояки, а как уроки учить – все в одну минуту норовит успеть. А потом, ясное дело, – на улицу. Как редька горькая пристанет, пока не выклянчит своего.
Он уже и уроки все поделал, и отгонял свое на дворе, уходив, как всегда, одежу и обужу, и сидел в своем углу за столом – снова портфель перебирал, когда явилась Зинаида. Слева надутая Лариска за руку уцепилась – своим ходом, видать, осиливала лестницу, – справа сумка с едой книзу тянет.
– Господи, – сказала Ольга, принимая сумку, – опять нагрузилась.
– Найму, что ли, кого? – устало ответила дочь и принялась раздевать Лариску. Сняла с нее игрушечное пальтецо с варежками в рукавах на резинке, шапку и в платочке пустила в комнаты. Лариска побежала в заднюю, к Вовке.
– Кутаешь ты ее, – сказала Ольга, вздыхая.
– Ну что ты говоришь! – Зинаида в секунду доходила до слез, когда чувствовала несправедливость. – Попробуй раскутать! Опять на справку садиться? Спасибо. – Она сняла пальто и повесила его на один из крючков на месте будущей удобной вешалки. – Мне уже стыдно на работе: неделю работаю, месяц на справке сижу.
– Ну что мне, совсем к вам переселяться? – Ольга, верно, сто раз задавала дочери этот вопрос. Это уже был, собственно, и не вопрос, это была некая натяжка струны, дабы она зазвучала яснее и определеннее. Она больше пытала себя, щупала со всех сторон свою натуру: не будет ли промашки в ее рискованном шаге – переселения к дочери, чего она и хотела, и боялась.
Нельзя сказать, чтобы неурядицы в жизни Зинаиды с Толиком она целиком связывала со своей персоной, – мол, теща в доме, и все тут. Однако чувствовала, что молодые тяготятся ею и, пусть слепо, безотчетно, жаждут своего свободного одиночества, потому и отыскала им неподалеку от себя комнатенку в каменном доме, – только бы съехали из ее развалюхи, как все чаще называли дети родной кров.
Хозяйка квартиры оказалась своим человеком, понимающим Ольгу, они и в возрасте были близком, и жизнь прожили схожую.
Но покоя дочь и там не нашла. В стороне от матери оказалось не так-то просто: всякие ложки, поварешки – и те вдруг обрели неведомое доселе значение. Да и ранний ребенок, а потом и второй – Лариска, до ужаса слабая, несъестная – как говорила Ольга об ее полнейшем равнодушии к пище, температурящая от любого ветерка. Так и пришлось Ольге жить на два дома – и у себя, и у дочери.
А потом и квартиру выхлопотали – к юбилею Победы, как детям погибшего, дали. Жить бы – помирать не надо. На первую пору Ольга и дневала, и ночевала у дочери, однако угол свой, рубленный еще дедом Павлом, свекром, – насовсем не оставила: где-то в укромье души затаилось сомнение.
Еще у себя в избе она пыталась поставить дело так, чтобы хозяйкой считалась Зинаида, – с замужества и имя-то ее переиначила, укрупнила, чтобы не по-девичьи, солиднее звучало. И деньги расходовые пробовала в ее руки передать, – для авторитета, для обретения опыта: рано или поздно все равно отделяться придется.
Но руки дочери чересчур легкими оказались, чересчур. Поначалу как бы в игрушки играла: это – на кормежку, это – за Вовку в садик, это – Толику рубашку купим, это… А деньги счет любят…
А может, и пообвыкла бы Зинаида, приспособилась, приноровилась бы к заботам дома, да зять стал куролесить. Мало раз в неделю под хмельком стал приходить. Когда Ольга чужих видела на улице в скотском виде, было противно – и все. А как свой-то да изгаляться начнет!.. Трезвый – мягкий, чистый лизоблюд с похмелья, а как снова выпьет – словно подменили. Будто порчу кто навел на малого.
– Совсем к вам переселяться, а? – точно далеким, блуждавшим где-то эхом вернулись Ольгины слова в выстланную гладким паркетом комнату.
Зинаида выпрастывала из сумки харчи: что – в холодильник, на утро, что – под руку на стол, к ужину. И Вовка уже рядом крутится, зыркает, чего бы полакомей, без жданья перехватить. На что не надо глаз у него острый, – он первый и отца увидел, когда тот, напрягая ноги, неровно двигался через двор.
– Папка идет, – сказал Вовка, вытягиваясь у подоконника. – Опять пьяный. – Он посмотрел, как оценили его весть мать и бабушка.
– Глаза бы не глядели! – Ольга подхватила Лариску и пошла с ней в дальнюю комнату. – Вот же турок завоеванный!
– Уезжай ты к Мишке! – крикнула ей вслед Зинаида. – У него ни этих вот, – она с досадой оттолкнула Вовку от творога, – ни этого нет, – кивнула она в сторону крепко затрещавшего в прихожей звонка.
…Зинаида, достав превшую под подушкой пшенную кашу-рассыпуху, готовила ужин, а Ольга, тетешкая, так и сяк развлекая внучку, напрягала слух, ловила обрывки слов, доносившихся с кухни.
Потом она не выдержала и с Лариской на руках вышла из спальни.
– Ты бы спросила, где он был! – сказала она дочери, кивая головой в сторону зятя. – А дома двое детей.
– Это не ваше дело, понятно? – пьяно откликнулся Толик. – Где был, там нет… У Вальки Архипова, понятно?
Последние слова он произнес так же задиристо и торопливо, как и первые, и Ольга подумала, что он не врет, что действительно был у своего приятеля Вальки, – жена у того и сама никогда не против составить таким вот компанию. Но оставить концевыми слова зятя она не могла.
– Конечно, не наше дело, наше дело – вот, детей твоих нянчить да горшки убирать.
Зинаида чистила картошку, порывисто откидывала со лба выпавшую из гладкого узла прядь, часто, как ребенок, шмыгала носом.
– Вот какая у вас квартира, все у вас есть, – говорила Ольга, стоя перед зятем. – Или ты неухоженный, или дети?
– Чего вам надо? – От хмеля у Толика отуманились глаза, он напрягал все лицо, разгоняя застилающую пелену. – Чего вы все время лезете? А? Чего вы…
– Тьфу! Глаза бы не глядели! – Ольга, точно флаг, вскинула на руках хныкавшую внучку и заторопилась из кухни вон.
А Зинаида, вышедшая следом, быстро скрылась в маленькой комнате и там, на Вовкином диванчике, приготовила для мужа подушку и расходное байковое одеяло.
Ольге хотелось и дочери сказать что-нибудь горькое, чтобы и ее лишний раз проняло, – уязвить как-нибудь, поддеть, пусть бы огрызнулась, показала б хоть раз характер, но она перетерпела огонь в груди.
А потом Зинаида вдруг торопливо оделась и ушла, оставив мать достряпывать поздний ужин, и, возвратясь через недолгое время, положила перед нею билет на поезд. «Вот, езжай к Мишке, – сказала она, – поживи там. А заодно и обговоришь с ним все, что надо. Некуда будет деться – сам будет Лариску в ясли носить. – Это она добавила про Толика. – А заболеет – пускай сам справку берет и сидит. А ты езжай, когда-то все равно надо ехать».
А Толик и к ужину не вышел, и вообще всю ночь пролежал на сыновнем месте, как был, в одежде, в носках, скрючив ноги. Ольга в перерывах ребячьего егозенья слышала его стесненное размеренное дыхание и упорно силилась выбросить из головы заигранно шипящие слова: «За жену завалюсь – и ничего не боюсь». «Что же это за мужики еще, что за бабой хоронятся?.. – перебивала она навязчивую мысль другою, более правильною, как определила она своим долгим жизненным опытом. – Что же это за мужики, скажи на милость?..»
7
Постелили Ольге в большой комнате на раздвинутом кресле. Долго еще говорили до сна о разных делах, вспоминали родных. Лида о некоторых и не слыхала до этого дня, да и Михаил уже забыл и забывал многих. Ольга понимала это, не обижалась за стершиеся в памяти у молодых родственные корешки, – никакого, ни духовного, ни материального питания не несли Михаилу эти иссохшие жилки.
– Сынок, я забыла спросить, – уже сидя на краешке своего ложа и переплетая скудную косицу, подозвала Ольга Минакова. – Днем тут у кого-то ребеночек голосил, ну так голосил, так плакал. Вроде как кинутый.
– Где? – Михаил поднял глаза к потолку.
– Нет-нет-нет, сынок. Где-то вот тут. – Ольга, прислушиваясь, выпустила из пальцев истаявший хвостик и показала на заднюю стенку – Вроде как вот тут. – Она ладонью промокнула набухший слезой нездоровый глаз и добавила – Ну нет сил как плакал…
– А-а-а! – Минаков, смеясь, затряс головой. – Это собачонка, собачонка. – Он опустил руку к полу. – Песик вот такой, болонка. Всегда воет, когда один остается. Это он.
Ольга молча и вроде бы понимающе кивнула, но глаза ее были полны совершенного недоумения. Оно легло и на лицо и не сходило с него еще долго и после того, как Михаил, посмеявшись над материным заблуждением, отправился к себе.
8
Свою дверь молодые плотно прикрыли, и Ольга осталась одна. Она опять попридержала дыхание, навела уши на подозрительную стенку. Нет, ничего похожего на рыдания. Квартирные шумы сливались в единый, наполненный жизнью гул, н ни в одной различимой, вдруг выделяющейся ноте – звуке голоса, быстрых шагах, глухих неясных стуках – не улавливалось никакого трагического тона.
Ольга успокоенно вздохнула. Поглядев на зашторенное окно, принялась раздеваться. Достала из жесткого, с железными уголками чемоданчика ночную рубашку – длинную, тяжелую, с кружевной оторочкой понизу, у шеи и на рукавах, – бережно натянула ее на голову и привстала. Рубашка быстро и неслышно стекла вниз, до самого пола. Ольга села, прижала на коленях скользкую ткань. Санькин подарок. Сколько уже лет. Дома в комоде лежит, в гостях лишь и потребляет ее Ольга. Поначалу решила было отдать эту ферязь дочери, да Санька не позволил. Надо носить, – некому оставлять после себя, у всех все есть… А с собою не возьмешь…
Ольга обвела глазами комнату. И здесь, с тех пор как она побыла, кое-что переменилось. За плотным стеклом в серванте – нарядная нерасходовая посуда, разных размеров рюмки, рядами повторенные во внутреннем зеркале. У боковой стенки наготове маломерный столик: будьте любезны, читайте газеты. Они сложены стопкой в сквозной щели и вольно кинуты сверху – видно, что посвежее. Над столиком тикают часы.
Ольгу потянуло встать, и прочесть выведенную на медной бляшке надпись: «М. Г. Минакову за высокие показатели…» Но дарственные слова она помнила наизусть и потому не встала с постели, а повторила, слово в слово, золотую вязь про себя, прошевелив, сколько надо, губами, прислушалась к слабеющему пульсу многолюдного каменного гнездовья.
Потом она взяла в руки приготовленный загодя альбом с фотокарточками. Альбом толстый, тяжелый, тоже подношение сыну – «от семьи Приваловых». Не знала Ольга таких.
Замерев на какое-то малое время, она обеими ладонями провела по тисненому переплету. Надрезанные морщинами, сплюснутые у ногтей пальцы замерли на шершавой обложке. Пальцы были небольшие и толстые. Никому, верно, и в голову бы не пришло назвать их как-нибудь по-особому, как иногда называют: нервные, короткие или, как, допустим, говорят почему-то, – правильные. Пальцы – да и все. Часть руки. Ольга иначе и не ощущала их, и других слов для них не расходовала да и, видимо, не имела.
Но, опустив ладони на тяжелую холодную книгу и напрягши самые кончики пальцев, она почувствовала, как по ним побежали, устремились к ее сердцу острые нити ее собственной и многих других судеб, тайна которых скрывалась под толстой негнущейся крышкой. Вот она сейчас освободит пальцы, снимет руки и выпустит на свет сказочных птиц минувшего. Сказочных, потому как что минуло – словно и не было, не вдохнешь его более пряным ветром детства, не тронешь благодарными перстами, и байки о житье-бытье в вечной памяти – только сладкий туман успокоения.
Ольга отвернула переплет…
На левой стороне от руки наискосок было выведено: «Лиде и Мише Минаковым в их знаменательный день от семьи Приваловых». Ниже стояло число – выходит, к пятилетию свадьбы. Ольга еще в прошлый приезд видела альбом и надпись, конечно; хотела спросить у сына, кто это такие – Приваловы, да как-то не спросила. Все карточки тогда неровной пачкой, раздувая книгу, лежали у задней корочки. Теперь фото были отсортированы и укреплены на плотных картонных листах. Лишь небольшая стопка их – разномастных, потускневших – так и задержалась на старом месте в тылу, за последней страницей. Ольга к ним и приклеилась глазами.
По обороту первой же карточки увидела: Георгий. Вон и год его рукой поставлен: «1936», как и на той, что у нее в комоде хранится и тыщи раз просмотрена. Ниже развалистыми буквами: «Супруге Ольге и нашему будущему сыну».
И правда ведь сын оказался. Напророчил. А в ту пору, когда фото прислал, она еще жила со свекровью, приготовлялась к первым родам. Это сколько же лет было-то? Ей самой-то? Тридцать шестой год, лето… значит, двадцати двух еще не было? Ну да. А баба Мотя все боялась – не доживет, не увидит своего третьего колена. Ее, как чахоточную, отселили от них года за два до службы Георгия, но она, с баночкой-плевательницей в кармане жакетки, раз в неделю навещала их. С палкой ходила, останавливалась, отдыхала по дороге. В финскую она и умерла, совсем высохла, как хворостина.
Полина Андреевна, свекровушка, царство небесное, каждое утро шла к матери, уповала: не отмучилась ли? Отмучилась наконец.
«Хорошо помню, хорошо помню», – словно оправдываясь перед кем-то, шептала Ольга, глядя на пожелтевший портретик Георгия, а думая о его бабке Моте, прабабке своих детей.
А Георгий здесь – на действительной. Глаза сощуренные, козырек фуражки на самых бровях, – видно, в солнце снимался. И легко определить, как он пытается улыбнуться. Губы чуть тронулись, погнулись маленько, – скорей всего, фотограф и подначивал его: чего, мол, сидишь, как истукан.
Голова у Георгия вытянутая немного, виски костистые, плоские. Как и у Саньки. У Михаила круглее лицо и скулы острее. И у Зинаиды с потягом виски, – особо видно, когда волосы заберет назад покруче. Это что же, значит, и Санька от бабы Моти кое-что взял в лице? Выходит, взял. Чудно, колодка одна, а каждая обувка на свой манер.
Ольга усмехнулась. И хотя следующая ее мысль была горькой и тягостной – ей подумалось о том, что вот уже и Мишка, и Санька переросли годами Георгия, скоро Зинка обгонит, и как это несправедливо и ужасно, «как жалко-то, господи!»– она так и не складывала губ, морщила в теплом удивлении лоб и переносье и перекладывала, разглаживала рукою гладкие картоночки, доносящие до нее удивительно отрадный вкус прошлого.
Старых карточек было немного, десятка полтора, – отделенных Михаилу еще в отрочестве, во время учебы в техникуме, и пересланных матерью в начальные годы его самостоятельной жизни.
Ольга взяла в руки тоненькую, с отломанным уголком фотографию. Мишкин класс, и он сам – сбоку в верхнем ряду. В старой вязанке, застегнутой у ворота, с заштопанными локтями. Цельными годами в этой вязанке ходил. Это в каком же они? Ага, в шестом. После девятого он решил специальность приобретать, в техникум уехал.
Мишка учился хорошо, – никогда в школу не вызывали и не ругали, как других. Все правильно, поэтому один и получил полное образование. Высшее – выше уже нету. После техникума поработал и дальше учиться надумал. И Санька мог бы тоже лучше учиться, тут уж и жить стало легче, да больно ветру много в голове было. Все сквозь пальцы утекло. Мишка б – тот не выпустил, не-ет… Эхма…
А вон Коля Подчуфаров – с ним Мишка был ближе всех, Докукин, вон – этот, дай бог память… нет, забыла… Вот Литков, Сережа, Вера Видулина… А вот и Тамара. Тамара…
Ольга воскресила в памяти тех одноклассников сына, с которыми до сих пор изредка сталкивалась в городе: на вокзале, где работал дежурным потучневший, мешковатый Докукин (имени его Ольга не помнила), около стадиона – тут она встречала иногда Сергея Литкова, ставшего футбольным тренером. Литков рано облысел, еще парнем, потому-то, видно, и играть сам вскоре перестал и переключился на обучение других. Он, кивая головой в ответ на Ольгин поклон, смутно представлял себе, с кем здоровается, – память никак не возвращала нужных минут из детства, – но делал это всегда охотно и приветливо.
На Тамару Позднякову, девочку, сидевшую в центре снимка рядом с учительницей, Ольга смотрела очень долго; притаив дыхание, вглядывалась в крошечное светлое пятнышко лица, угадывая в нем хорошо знакомые ей черты взрослого человека.
В свое время она видела Тамару часто – были, можно сказать, соседями, жили в двух кварталах друг от друга. Удобнее всего в город было идти через второй проулок, и Ольге по пути на завод волей-неволей приходилось миновать большой, с четырьмя окнами на улицу, дом Поздняковых. В те же утренние часы торопилась в свою лабораторию и Тамара, – она была микробиологом. Когда случалось им встретиться глазами ц Ольга поспешно произносила одно и то же: «Здравствуй, Тамара», та коротко и тихо отзывалась: «Доброе утро» или «Добрый день»– и уходила своей дорогой, уходила быстро, не оглядываясь, не оставляя и намека на возможность добавить или воспринять еще хотя бы слово.
В первое мгновение у Ольги стыло сердце, она теряла власть над своим лицом и выглядела, как осознавала позже, нехорошо, глупо, и почти непроизвольно вырывавшееся приветствие «Здравствуй, Тамара», только усугубляло ее смущение.
Но Тамара удалялась – словно таяла, и Ольга, со стеснением в горле, потерявшими твердость шагами шла следом.
Потом Тамара куда-то исчезла, ни разу не попадалась она Ольге на глаза. Оглядываясь на высокие, ровно занавешенные окна ее дома, Ольга не замечала никаких видимых изменений, новых примет в его привычном облике, но, с другой стороны, его обособленность, тихость, пустота крупного скошенного крыльца, которое давно не использовалось (ходили через двор), приобрели вдруг для нее новый, тревожно-таинственный смысл.
Она вроде бы различала за застывшими шторами какое-то зыбкое движение, улавливала горячечный шепот и горькие вздохи. И долго еще, пока суета большой улицы не подхватывала и не закручивала ее в гомонящем водовороте, ощущение неясной вины и тревоги не покидало Ольгу. «Кругом виноватая»– так бы определила она свое состояние в эти минуты. Человек совестливый, Ольга многие чужие вины перетапливала в сердце как свои, оттого душа ее редко пребывала в равновесии и покое. Никогда не удавалось ей совершенно забыться и спокойно, быстро и глубоко уснуть вечером, отойдя от действительных забот и мнимых.







