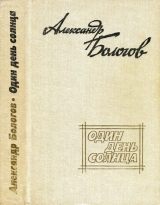
Текст книги "Один день солнца (сборник)"
Автор книги: Александр Бологов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 25 страниц)
– Мамаша! – окликнул ее Черенков. – Милости просим к нам. Прими стопку за успех в наших надеждах… – Незаметно он толкнул Надю плечом.
«Губы-то, господи, как оладьи…»– подумала, останавливаясь, Егоровна. Пить ей никак не хотелось, да и станция подходила, но она все-таки замедлила шаг.
– Северяне все так гуляют, только успеют сесть, – сказала она, имея в виду Черенкова, на билет которого обратила внимание при посадке, проверяя, имеется ли на нем штамп остановки в Москве.
А тот, довольный и уверенный, протянул ей свой стакан и жестом показал, как надо его опрокидывать.
Эх, пить будем
и гулять будем,
а смерть придет —
помирать будем! —
пропел он чуть не в полный голос, – так, что в соседнем купе кому-то не понравилось. Но Егоровна отказалась от угощения, как ни наседал на нее голосистый северянин.
– Я сейчас молодую пришлю, – сказала она, чтобы легче отвязаться. Что-то в губастом ей не понравилось. «Больно боек», – подумала про него.
Вот смерть пришла —
никого не нашла… —
слышала Егоровна за спиной, топая к служебке.
3
…Черенков проснулся. Он лежал, не шевелясь, не открывая глаз, и прислушивался. Во рту было сухо и горько, голова трещала. Так, впрочем, по утрам было всегда, если он терял меру и пил все подряд – и белое, и красное. Дома об этом постоянно напоминала Фаина. Здесь ее не было…
За спиной – Черенков лежал, оборотясь к переборке, – кто-то помешивал чай – ложечка тонко позвякивала о стенки стакана. «Уже чай разнесли… Сколько же сейчас?..» Он решил посмотреть время, сунул руку под голову – нащупал расческу, платок… Потом, еще не особенно беспокоясь, привстал и повернул подушку – часов под нею не было. Не оказалось их и под матрасом, в изголовье, и в складках пододеяльника и простыни, не оказалось и на полу, – могли ведь и свалиться…
…Егоровна наполняла третий поднос: нацедила из старенького фарфорового чайника густой заварки – на палец, кинула в стаканы ополоснутые ложечки и вышла к титану за кипятком.
В тесном проходе еще толпился народ – работал только один туалет. Второй Егоровна закрыла – там протекал бачок, с потолка капало.
– Чаек еще будет? Не кончается? – как-то мягонько спросила ее дородная женщина в шелковом халате, стоявшая в очереди последней.
Егоровне послышалась в голосе какая-то угодливость, и ей это не понравилось: чай – это ее работа, и она всем разнесет, кто хочет… И заварит как следует, на этом грех экономить.
– Пока есть, – неопределенно ответила она, – вставать надо раньше…
Женщина неожиданно обиделась:
– Это что, тоже входит в ваши обязанности – устанавливать, когда людям надо вставать?
«Господи, бывает же: с одного слова – в лай. А как мягко стелила…»– подумала Егоровна, а вслух, тоже осерчав, ответила:
– А как бы вы без нас вставали, хотела бы я знать? Куда бы девались? Как будильники ходим – будим, всю ночь, не проспал бы кто…
– Я не о ночи, я вообще, – сказала примирительно толстуха.
– Дело ваше: спите, если хотите. Я тоже только об чае говорю.
В очередь в туалет встал еще один из запоздавших.
– Там часы украли, – сказал он, кивая в глубину вагона, – золотые.
– Что вы говорите?!
– Да, ночью.
– С руки срезали?
– Я не знаю, украли…
Егоровна, вместо того, чтобы идти с чаем к пассажирам, вернулась в служебку и поставила поднос на столик. Молча села.
– Что там еще? – спросила Люда, готовая тотчас пойти в коридор и установить порядок. Подошло ее дежурство.
– Кража у нас, – глухо отозвалась Егоровна. – Пойди разнеси, – указала она глазами на стаканы с чаем.
– Что украли? Чемодан? – зло спросила Люда. – У кого?
Егоровна, ничего не отвечая, качала головой.
– Нечего ушами трясти. Мы им не сторожа, – Люда была возмущена в первую очередь людской беспечностью. – Раскидают вещи по полкам, а потом сами не знают, где что, и паникуют. Как в тот раз… Ученая-то? Сколько нервов помотала нам со своим ящиком? Коллекция, коллекция! А он – через два купе, на самом верху, туда ей и клали, когда садилась. Тьфу!.. А оркестр? Ансамбль-то? Напились до чертиков, а потом, говорят, шмон во всем вагоне будем делать – динамик не найти. А приносили вы его в вагон? Это что – иголка? Вы сами себя сперва посчитайте – все ли. Они ведь и сами, паразиты, ничего не помнили. А пластинки показывали: на весь Союз, дескать, записывали их!.. Так сколько мы переживали? – Люда решительно взялась за поднос – Пусть кладут на место. Если ценное – под себя, специальный ящик сделан, оттуда никто не возьмет. А мы не сторожа: один в карты играет – смотри, второй вещи не туда кладет – смотри…
Вернулась она скоро. Доложила:
– Часы, тетя Сим. Только какие-то очень дорогие, может – дарственные. И божится, что утащили: некуда, мол, деться было с вечера. Всё уже обыскали. А я говорю: ищите еще, уже были такие случаи, когда теряли да находили.
– Кто хоть? У кого украли? – спросила Егоровна мрачно.
– На семнадцатом месте, мужчина такой…
– A-а, – Егоровна отозвалась, словно была готова к такому ответу, – северянин.
Люда взяла со стола парусиновый складень, где хранились билеты, развернула его и извлекла из семнадцатой ячейки свернутую бумажку.
– Точно, из Мурманска едет, с пересадкой. Остановку в Москве делал.
Егоровна махнула рукой:
– Да я знаю.
– Ночью, говорит, украли. Под подушку, говорит, положил, а утром сунулся, – а там пусто.
Егоровна вздохнула и принялась мыть грязные стаканы. Люда поправила постель, подоткнула под тюфяк одеяло.
– Тетя Сим, ложитесь-ка. Мы-то тут при чем?
– При чем… Все равно виноватые. Он еще к бригадиру пойдет…
– Пойдет, он говорил.
– А что бригадир? – Егоровна оставила стаканы, повернулась к Люде и продолжила таким тоном, будто та и была ее начальником – Что я – рожу ему часы? Может, свои отдать? Дак у меня их нету.
Мокрыми пальцами она торопливо отстегнула ремешок, сняла с руки Людины часики и протянула хозяйке.
– А эти не мои.
В дверь служебки постучали, и тут же она отворилась. За нею стоял Черенков.
4
Когда он приподнял подушку и не обнаружил под нею часов, то сразу почувствовал, что их украли, что больше их он не увидит. В таких случаях говорят иногда: мелькнула мысль, заподозрил неладное, мгновенно решил или что-нибудь еще в этом роде. Ничего подобного Черенков не испытывал. Какой-нибудь минутой позже он, само собой, обрел ясность мысли, чтобы взять в толк случившееся; в первое же мгновение он, как бы сказать, лишь ощутил руку судьбы.
Золотые часы, купленные к сорокалетию, он и дома-то надевал по особым случаям, – для постоянного пользования имелись другие. Они, эти золотые часы, и приобретены были – как и два кольца с александритом, за которыми Фаина продежурила в очереди с полмесяца, – как дорогая вещь, которые, как показывает жизнь, со временем все более растут в цене. Только в последние годы, уже после женитьбы, на золото дважды было повышение, а зайди в ювелирный? Именно, что шаром покати. Теперь это – капитал, как в старое время. Ковры, хрусталь тоже лежали в свое время – «о чем люди только думали!..», – а теперь попробуй достань, если нет знакомства. Но все равно это не золото: ковры изнашиваются, моль может завестись, хрусталь, как ни береги, бьется…
Золотые часы он взял с собою в отпуск случайно – так ему казалось – и тайно от Фаины, взял в последний момент, как если бы неожиданно вспомнил об этом. А ведь держал в голове давно, думал о дорогой вещице с удовольствием, испытывая некоторого рода просветление души, но думал как-то неопределенно, как говорится – просто так. И вдруг в последнюю минуту как осенило: надо взять. Отстегнул обтянутый, просоленный дотемна ремешок старой «Победы»– «Все-таки мировые часы; умеют у нас, мать честная, делать, если захотят!»– и достал из серванта новые – блестящие, золотые. Екнуло сердце? Ерунда, он не такой человек, чтобы от этого у него екало сердце, даже смешно. Сердце колыхнулось потому, что, затягивая на запястье пружинный браслет, подумал об Эле – пусть увидит, черт возьми!..
С Элей Черенков познакомился два года назад, в Алупке. На пляже нетрудно распознать одинокого человека, – в начальное время отдыха, разумеется, пока он еще не оброс компанией. И Элю Павел приметил сразу же, как только та появилась на городском пляже – единственном приличном для дикарей. Он видел, как она, расположившись на свободном лежаке у самой воды, еще не очень ловко, не привыкнув, устраивалась, а потом некоторое время искала глазами будку для переодевания. А уж когда она вышла оттуда в купальнике – светлокожая, а оттого и несколько смущенная, – сомнений в том, что она на пляже впервые, у Черенкова не осталось.
Он подошел к ней тотчас, как она успокоилась, то есть легла, закрыла глаза и, сама себе улыбаясь, выставила желанному солнцу подбородок. А он – как обалдел. Как магнитом потянуло. Приблизился и – совершенно неожиданно для себя – очень уверенно, как-то даже нахально вызвал ее на разговор и познакомился. И понял вдруг, что все последние дни здесь проведет с нею и что никто ему больше не нужен, все знакомства, что успел завязать, – ничего не стоят.
Смущала ее молодость – разница лет в пятнадцать; но, как и в первый день, при знакомстве, когда ему все удавалось – находились нужные слова, получались шутки, не было никакой робости, – в последующее время с нею было так же легко и просто. Он назвался начальником цеха, занесло, мать честная, думал, что на неделю встреч можно чем-то и козырнуть.
А Эля оказалась такой сладкой, такой желанной, что Черенков, когда пришло время расставаться, неожиданно для себя не на шутку загрустил. Он был с нею заботливым и щедрым, мягким настолько, что просто не узнавал себя, и был, что называется, счастлив.
Эля не задавала лишних вопросов, никогда ни на что не жаловалась, ничего не требовала, сама, если успевала, платила за их ужин, – и все просто, без натуги, как бы само собой. В ней не было того, что всегда раздражало Черенкова в женщинах и, если говорить честно, отпугивало от них, – жажды свить гнездо. Как только он замечал такое, – а особого труда это не составляло, – он «закрывал лавочку».
Человек бывалый, он в некоторые минуты, оставаясь с Элей наедине, испытывал нечто вроде робости перед нею, – молоденькая лаборантка из Ярославля имела крепкий характер.
Он, естественно, тоже старался держать марку.
Два года не виделись, писем друг другу не писали, но связь поддерживали – по телефону. Черенков звонил ей на резинокомбинат. Эля и в этих коротких разговорах оставалась такой, какой он ее видел с самого начала: обо всем говорила без затей, весело, откровенно, а Черенков… пыжился. Да, да. Не хотел этого; повесив трубку, ругал себя за глупое бахвальство, но, слыша далекий милый голос, нет-нет да и загибал что-нибудь про свой «собственный» цех, про планерки у главного инженера…
Сердце его, когда он пристегивал на руку золотые часы у серванта и думал об Эле, колыхнулось чуть сильнее обычного именно по этой же причине: вся его затея с часами отдавала чуждым Эле форсом… Но признаться в этом все-таки не хотелось.
5
– Вы что-нибудь делаете? – жестко спросил Черенков, едва вошел в служебку. Обращался он к Люде.
– А что нам делать? – отозвалась за нее Егоровна.
– Как что делать? У них в вагоне обворовывают людей, а они!.. – Черенков чуть было не добавил: «Может, и вы из той же шайки?»– но утерпел, решил погодить, это всегда успеется. Однако его распирало от злости. – Милиции сообщили?
– Поезд, что ли, останавливать? – хмуро, вопросом же, откликнулась Егоровна. Она понимала, что самое верное сейчас – это говорить как можно спокойней, удержать себя, не горячиться. В конце концов человек, может, и верно пострадал.
Черенков повысил голос:
– Власть какая-нибудь тут есть?
– У нас везде одна власть, – громко сказала Люда.
Черенков шумно втянул через нос воздух и, перебивая ее, продолжал:
– Кто-нибудь отвечает за нормальный порядок? А если у вас тут человека пришьют? – Он прикрыл за собою дверь, чтобы посвободней обращаться с проводниками. – Вчера солдата ободрали как липку, сегодня… Где у вас бригадир? Или кто? Начальник поезда?
– В шестом вагоне, – сразу же ответила Егоровна, видя, что никакого разговора с ним не получится.
– Да вы ищите, – снова вмешалась Люда, – что вы кричите на весь вагон? Поройтесь сначала в своих шмотках. – Она сердито смотрела на Черенкова, надеясь, что этим манером несколько охладит его. – Поройтесь, поройтесь… Вот так трепют нервы, а потом самим стыдно становится. Вы не первый с таким случаем. Вот совсем недавно ехали одни…
Что было «недавно», Люда сказать не успела: Черенков хлопнул дверью и ушел.
Ах, люди, думала Егоровна, чуть что – сразу к начальству. Нажалуются, наговорят в запале черт знает чего, а какой прок? Кому польза и в чем? Ну, вот сейчас хотя бы? Бегунов-то – да, обрадуется: еще появилась зацепка, чтобы прославить ее на весь кондукторский резерв.
Знает она: давно бы выжил ее из бригады, будь его воля. А ведь кем был-то, господи, когда пришел? Кем был-то? Деревня деревней. А съездил на курсы – и нос в потолок, из грязи в князи…
Не любила Егоровна своего бригадира. Начальство он устраивал: бойкий, пронырливый, частыми обращениями не надоедает – сам себе голова. Проводники знали, что в резерве он не на плохом счету. Но ведь то, что ценится в конторе, не всегда хорошо по существу, – это тоже знали в бригаде.
Первое, на чем строился мир Бегунова с проводниками, была доля с безбилетников. В сезон, когда те кучками роились у каждого вагона, бригадир озабоченно сновал вдоль состава, приглядываясь к обстановке, и громко повторял заученное: «Отойдите, отойдите, кто без билета! Ни одного места нет!» В нужный момент он умело исчезал из поля зрения окружающих, и отчаявшиеся было горемыки в секунды просачивались в бурлящие чрева вагонов.
Провозила иногда зайцев и Егоровна – из жалости. Легко ли было глядеть, как мается в сторонке, в тени фонарного столба, выжидает удобного момента какая-нибудь парочка молодых, не сумевшая в суете и заботах загодя обзавестись билетом, или нескладный паренек-гепетеушник, в длинной, не по росту, форменной тужурке, зябко прячущий руки в здоровенных пустых карманах казенной одежки…
«Ладно, ладно, – ворчливо говорила она, пропуская в тамбур какого-нибудь переволновавшегося бедолагу. – Нечего меня благодарить, не я везу…»
Денег она с безбилетников не требовала, да и сажала обычно только таких, у которых – по глазам было видно – копейки за душой не было. Делиться ей с бригадиром, таким образом, было попросту нечем, однако Бегунов, от внимания которого не ускользал ни один посторонний в поезде, был уверен, что Фиёнина обманывает его. А ведь это именно он находил общий язык с ревизорами, умело ублажал их при случае в своей каморке, и дела, слава богу, обходились.
Правда, в некоторые моменты и его брало сомнение: а может, и в самом деле старая дура не берет положенной мзды, как об ней говорят некоторые из бригады?.. Но от сознания этого Бегунов озлоблялся против Егоровны еще пуще, тем более что Люда, как он видел, несмотря на недовольство других молодых проводниц, во всем поддерживала ее и все делала так же, как она.
В свою очередь, и у Егоровны не было хотя бы мало-мальски заметного уважения к бригадиру, не лежало сердце к его ухватке и вертке. Годы ее были неинтересные для него – крепкого живчика, с молоденькими ему легче было водить компанию. Замечала Егоровна, как тискал он, между делом, таких, как ее Люда; не одной, видно, мозги закрутил. Да и пусть, ей-то что? Годы молодые – не ее годы, – так думала. Только бы к Люде не лез, юбочник чертов. Надкусит такой вот яблоко – другие быстро обгрызут…
Бегунов в самом деле, имей на то власть, давно бы отвязался от занудливой старухи, какой видел Егоровну, но ее спасал стаж, опыт – полжизни провела на колесах. Мелкие огрехи, неизбежные в любой работе, случались не только у Егоровны – у нее, может быть, и менее других, – но каждый ее промах бригадир раздувал, насколько хватало возможностей…
– А вы из какого вагона? – спросил гладколицый крепыш, когда Черенков сообщил ему, с чем пришел. Когда он говорил, у него как-то враз обнажались чуть ли не все зубы, словно им было тесно во рту.
– Из девятого, – сказал Черенков.
– A-а, Фиёниной! Опять… – Плотненький остроглазый мужичок участливо глядел на Черенкова и быстро обдумывал случившееся. – А вы хорошо поискали? – спросил он голосом, вселявшим не очень большую надежду.
– Да… это… – Черенков не знал, что и сказать.
– Понятно, понятно… – Бригадир, как показалось Черенкову, что-то быстро обмозговывал, соображал, очевидно, с какой стороны подступиться к делу.
– Я им говорю, а им как до лампочки, – зло, но и растерянно произнес Черенков. Надо было не столько разжалобить поездное начальство, сколько поднагнать страху за наплевательское отношение к службе, заставить пошевелиться, – может, не все еще потеряно. Так он понимал обстановку.
У Бегунова была своя система укрощения пассажиров. Что бы там ни происходило, велика ли, мала была вина его людей и была ли она вообще, он одинаково искренне – во всяком случае так казалось – возмущался нерадивостью проводников, отчитывал их за грубость с пассажирами или за другую какую провинность, и все это не скрываясь, при народе. Обиженные или потерпевшие уже от одного его разговора с подчиненными испытывали некоторое облегчение. Потом, мало-помалу, бригадир снижал напор, напряжение шло на убыль, – что ему в конце концов и нужно было. Как бы там ни было, в сердцах пассажиров он в отличие от многих проводников оставлял большей частью теплый след, жалобы в его собственный адрес поступали редко.
– Опять, значит, – невесело повторил он, – старая история…
– А что такое? – спросил Черенков, почуявший в словах бригадира тревогу и осуждение. – Какая история?
– Я говорю, старая история, – не в первый раз у нее это, в ее вагоне.
– У кого?
– Там их двое? Так у пожилой, Фиёниной. Вторая – еще цыпленок, первый год работает.
Бегунов замкнул дверь и, выйдя вперед, быстро направился к девятому вагону. Торопился и Черенков. Чем свежее следы, тем легче в них разобраться, – дело ясное. Но возвращался в купе он, как во вражье логово: и дух вагона, и полки, и лица еще совсем недавно приятных соседей вызывали злобу и отвращение…
6
«Студент!..»– мелькнула мысль, когда прошло первое недоумение. Догадка о краже пришла сразу же, как только рука не нашарила часов под подушкой. Но, пока было где искать – на полу, под простыней, на столике, – уверенности в этом не было. Он даже ощупал карманы пиджака, хотя помнил – туда не клал, не было такой привычки.
– Вы что-нибудь ищете? – спросила знакомым голосом Надя.
«Шлюха», – мысленно отозвался Черенков, а вслух, помедлив, произнес:
– У меня часы увели.
– Да что вы?! Вы шутите…
Черенков даже не повернулся в ее сторону. «Ну счас… Ну ладно…»– пробормотал он глухо и снова перевернул подушку, поднял одеяло, пододеяльник. Потом снова полез в карманы висевшего у изголовья пиджака…
– Олег, у Павла часы украли, – сказала Надя вошедшему в купе мужу. Тот почти повторил ее слова:
– Ну да? Шутишь…
Часы он видел, с вечера, – желтого металла, крупные, они весело посверкивали на жилистой руке северянина. Было видно, что – золотые.
– Прямо с руки?! – спросил он, удивляясь наглости жуликов.
– Снятые были, – задержав на соседе взгляд, ответил Черенков. Он тут же быстро отвел глаза – не мог смотреть, что-то происходило в душе: он не исключал того, что и вот этот пентюх, рыбный мастер из Калининграда, мог упереть его двухсотрублевые. Может, он для виду таращится таким телком, поджимает свою синюю губу…
«Ах, сволочи!..» Черенков в одну минуту перекрестил всех, кто оказался в поле его зрения. «Шлюха» Надя, казалось ему, смотрела на него так же похабно и откровенно, как и накануне, когда жалась дрожащим бедром. «Все они, подлюки, такие, все одинаковые», – пробежало в голове. А он-то, он-то – «М-м-м!..»– выманил ее в тамбур, говорил ей смелые, откровенные слова… А может, она заодно со своим лопухом? Или даже сама – самостоятельно, без него, хапнула?!
В таких случаях надо брать за глотку сразу и не давать очухаться, не размазывать. Это – закон, он это знает. Начнется говорильня, потекут ахи, охи – с ними все и уйдет, как в песок. А ведь кто-то – вот рядом – стоит и слушает, а может, и посматривает искоса, отворотя для маскировки лицо; затаился на время, а в душе уже несет, несет эту подлючью радость – владения вещью чистого золота. Чужой вещью – как подарком, как находкой на улице… Но ведь точит же его душу хоть какой-то страх? Должно. Это – тоже закон. Это бывает с каждым, если есть вина. По себе, черт возьми, знакомо… И тут нужно сразу ударить в самую точку – твердо поглядеть, сказать верное слово… Только без истерики, но резко и внушительно. Как просто… Дескать, пошутили – и хватит. И замнем для ясности, забудем о недоразумении. Мало ли что в нашей жизни случается. Может, он, кто взял, уже и переживает, уже бы и вернул взятое – ну его к чертовой матери! Все равно будет жечь душу, не давать покоя… Но как это сделать? А так и сделать!..
Черенков, смягчая выражение лица, выпятил вздутые губы и поглядел на соседей. Ему вроде бы не верили. «Вот сейчас обнаружишь свои поганые часы, и глаза будет некуда деть…»– торопилась передать ему своей неясной улыбкой Надя.
– А куда клали?
– Куда… Вон, под подушку, чтоб – под рукой.
– И хорошо смотрели?
Черенков машинально снова откинул одеяло; уже без особой опаски встряхнул его, – но легонько, над постелью.
– Что тут смотреть, куда им деться… – Он, в который уж раз, взялся за пиджак, стал прощупывать подкладку около карманов.
– Как вчера Тима искал свою костяшку?! – вспомнил сосед. – Ай где, ай где? Нас ведь хотел обыскивать, скажи, нет?
Тима – да, навел шороху, всем дал жизни. Хватил выше меры, так и очки не помогли. Вначале вроде шуточки: товарищи, где же бабка? Ну а куда она могла деться? Кому она, спроси меня, нужна? Ползал, ползал, отодвигая руками чужие ноги – в том числе и Надины, до громкого смеха от смущения или щекотки, – а потом чуть не зашипел, как какой-нибудь очковый ползучий.
– Посмотрите, посмотрите каждый у себя! – запричитал под конец. – Не могу же я рыться у вас в карманах!…
Во, фрукт!.. Обыскивать собрался…
– Да кому она нужна!.
– Вот именно…
Весь форс как сдуло. Смотреть было противно, как он из-за этого дерьма собачьего всем нервы натянул.
– Тебе что, отчитываться надо?
– Почему отчитываться?
– Да так хлопочешь…
– Эта бабка была завернута в берестяную грамоту. Грамота уже в Москве, восстанавливается. А по хронологической шкале культурного слоя…
– Значит, дорогая вещь?
– Вы о чем?
– О бабке.
– Смотря для кого.
– Ну, для тебя?
– Очень.
– А говоришь – хрена ли в ней…
– Да это для вас… А для меня совсем другое дело!..
И ведь наткнулся на нее, подлюка, у себя же на полке, когда носом сунули – поройся, мол, сперва в своих шмотках…
Эта Тимина возня под конец ночного застолья, короткий противный разговор и тогдашняя мимоходная мысль: «Украл, наверно, хлюст, где-нибудь эту костяшку…»– воскресли на миг в памяти Черенкова и вдруг прояснили все – «Студент!»…
– А когда он слез? – держа в руках пиджак, обернулся Черенков к соседу.
– В Понырях, там электровоз меняли.
Черенков сел на постель и положил пиджак на колени.
– В Понырях, ну да… Он же говорил…
– Думаете, он? – спросила горько Надя.
Ах, хлюст!.. Как же это он раньше-то не сварил своею башкой дубовой?! Вот тебе и сосунок… Хлю-уст!.. Коптил мозги весь вечер, за водкой, как родной, сбегал… В минуту сгонял… А сам – глоток, и вроде голова набекрень… Лодыжку искал, где не клал. Он же, подлюка, репетировал! Ну да! Проходил первый круг… А как все набрались – сразу и намылился!.. Так пролопушить!.. М-м-м!..
Черенков представил себе, как он накрыл Тиму, как схватил его за жидкую вихлястую руку и наотмашь ударил по хрустким очкам… И как из-под кулака брызнули мелкие голубые стекла…
– Да ну-у, – сказал, морщась, Надин муж. – Глупость. Я его провожал в Понырях. Его проводница еле растолкала – совсем осовел. Да ты сам видел, – он кивнул на боковую полку, где ночью располагался Тима. – Он же чуть не смайнался оттуда.
Надя подумала, что незачем бы Олегу так горячо выгораживать студента: все равно его уже нет, и след простыл, с него, как говорится, и взятки гладки, что бы там ни было. Он – неон, теперь все равно… А то повисла эта неприятность надо всеми, как гиря, – головы не поднять. Сперва ей было немного неловко за вчерашние вольности с Павлом – «От вина все…», – но с первыми же его словами она на этот счет успокоилась. А Олег все гнул в одну сторону:
– С платформы – все к тебе норовил: проститься, говорит, адрес взять. Я говорю: ладно, давай свой, я передам, а так что же человека поднимать. Вот, – он полез в карман брюк и вытащил оттуда смятую страничку из записной книжки. – Это его институтский, в Москве, – Олег протянул бумажку Черенкову.
– Пусть бы разбудил, – сказал в раздумье тот, расправляя листок.
Надо же, он думал именно о том, как, если потребуется, можно будет разыскать студента… А он вот – адрес. Хотя… почему обязательно адрес? Может, это так, для понта – нацарапал, что взбрело в голову, для отвода глаз, и привет. Но ведь, спроси меня, он мог и вообще не стараться, не вырывать этого листка – гладенького, в клеточку, – не портить вещи, не выводить на чем-то мягком, может, прямо на коленях или рюкзаке, этих проклятых букв… Черт его знает… Да и вид у него все-таки – не жулика… Хотя – жулика, не жулика… Это ведь у тех, кто срок сидел, – как клеймо на лице, как написано, что оттуда. А кто не сидел…
– Ты погляди как следует! – услышал Черенков. Олег до этого говорил что-то еще, но Черенков не слышал, видел только, как тот шевелил губами и потряхивал головой. – Иногда вот так сунешь куда-нибудь, а потом лазишь, лазишь – склероз, и все. А Тима – что ты! Глупость… Я же его сам поднимал в Понырях…
Черепков внимательно посмотрел на соседа. Как он свеж! Точно вчера и капли в рот не брал… Умылся – и как снова родился. А ведь хлестал вечером без заминок, больше пол-литра выдул один, и все как с гуся вода… Вахлак он только на вид, раскрывай варежку. С какой стати он так отметает студента? Что это ему дает? Не просто же – от щедрости души? Факт… И студент, мол, ни при чем, и мы, мол, все – тоже. А иначе бы чего мне не клепать на того же очкарика? Кати на него бочку – теперь все будешь, прав. А тут получается так, что все – чистенькие, у всех хата с краю. Ну, жу-ук!..
Черенков глядел на Олега, не мигая, и тот замолчал и отвел глаза в сторону. А слово перехватила Надя.
– Это мог сделать любой, кто ночью проходил мимо, – сказала она. – Часы, допустим, упали, а с полу и ребенок поднимет.
– Надо сказать проводнику, – предложил кто-то Черенкову.
– А вот и она, – проговорил Олег, увидев направляющуюся к ним Люду. Девушка разносила чай.
7
Пока добирались до места, Черенков успел высказаться перед Бегуновым о проводниках – в частности, о молоденькой, в куцей – выше ног – юбке. Но юбка – черт с ней, сейчас не в этом дело, – хотя вагон – это тоже, между прочим, не бордель. А вот как она себя ведет – это театр…
Проводник, говорит, отвечает за ваш покой и безопасность. Правильно. А ты где была всю дорогу? Юбку сушила? Мы, говорит, вам не сторожа – караулить у каждого… Да? А за что ты деньги получаешь? А? Хвостом крутить в другом месте надо. Тут надо работать… Вот вчера какие-то арапы охмурили солдата. В карты. Накололи – будь здоров! Кто они такие? Как попали в вагон? Кто тут, в конце концов, смотрит за порядком? Что за лавочка такая?
Верный себе Бегунов согласно кивал на ходу головой, но молчал. То, что сообщал ему обиженный и злой Черенков, не мешало делу – нужно было подготовиться к своей первой оценке положения. Часы – часами, если и украли, – тут дело, наверно, с концами: поезд не обыщешь и даже вагон не обыщешь. А может, они уже и того – давно за хвостовым вагоном, тикают где-нибудь на одной из далеких остановок. Это – как стихийное бедствие. В крайнем случае, если пострадавший упрется, будет оформлен акт – по всем правилам, в присутствии лиц, с подписями. А потом, когда минует время и не будет опасения, что обворованный на этом не остановится, а пойдет выше – в управление дороги там, в министерство, акт можно пустить хоть на кулек, под семечки. А вот Фиёнииа – дело совсем другое, теперь уж она с крючка не сойдет…
С этой последней, согревающей душу, мыслью Бегунов и вошел в служебку девятого вагона.
– Вот. Я к ней обратился, а она ноль внимания. На меня же, пацанка, еще и голос повышает, – указал Черенков на Люду.
– Кто дежурил ночью? – спросил Бегунов, хотя это ему было хорошо известно.
– Я, – глухо отозвалась Егоровна. С какой бы радостью ни говорила бы она этого, чтобы не втягиваться, не ввязнуть в неприятности дальше, но делать было нечего. – Я дежурила.
– Ага, – сказал Бегунов спокойно, как будто иного ответа не ждал. – А когда узнала о краже? То есть о пропаже?
– Когда узнала… Когда сказали, тогда и узнала.
Егоровна понимала, что все ее карты теперь – битые, но распинаться перед бригадиром все равно не хотела, ни за что. А он – как же иначе – уже взял дело в руки…
– А когда сказали?
– А как проснулся да хватился – тут и вот…
– А что же ты мне сразу не сообщила?
– Да он только проснулся-то – вот, я уж чай разносила.
– Время-то все равно какое-то прошло! Да в таких случаях!.. – Бегунов глядел на Егоровну, и его острые глаза выражали крайнее возмущение. – Нет, Фиёнина, до тебя, видно, ничего не доходит, ты все равно по-своему сделать норовишь.
– Да ты спроси его, он минуту назад пришел, – пыталась Егоровна навести ясность и оборачивалась за поддержкой к Черенкову, но тот молчал.
– Надо составлять акт, – сказал, обнажая зубы, Бегунов.
8
Когда она была моложе, ей часто писали благодарности. Вот так же разыскивали бригадира, брали у него общую тетрадь для жалоб и предложений и выносили в ней благодарности за чуткость и отличную работу. Спали пассажиры на голых досках крашеных полок – постели появились куда позже, – не всегда кипятком удавалось их напоить, не оказывалось его в станционных кубовых, а вот на тебе – писали благодарственные отзывы. Много их, самых разных людей, прошло у нее перед глазами. Кого тотчас забывала, едва успевала высадить, кого помнила не один месяц, а то и год…
…В одной из первых поездок – еще на Ригу – перевозила в общем вагоне паровозную бригаду. Двое из нее отзоревали, отужинали и быстро угомонились, а третий, помощник машиниста, молодой еще, как присоседился сбоку, так и просидел, продежурил с нею до утра. Сам притянулся и ее привязал.







