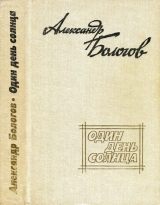
Текст книги "Один день солнца (сборник)"
Автор книги: Александр Бологов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 25 страниц)
Александр Бологов
ОДИН ДЕНЬ СОЛНЦА
Повести и рассказы



ПОВЕСТИ
Облака тех лет
Облака тех лет
Опять плывут над нами,
Облака тех лет…
Из песни
1
 учшим Костькиным другом был Вовка Агапов – самый честный и смелый, самый преданный из всех, кого Костька знал. Ему можно было доверить любую тайну, можно было сидеть с ним на крыльце и молчать и все равно понимать друг друга, как если бы разговаривал. И все, что ни делал Костька, Вовка принимал как свое, и точно так же Костька всегда переживал за него, будто сам и был Вовкой Агаповым. Только ему Костька клялся в верности – расковырял себе иголкой руку, прижал выдавленную каплю крови к Вовкиной капле и повторил за ним три раза: «Кровь одна обоим дана, клятву нарушишь – дружбу разрушишь…»
учшим Костькиным другом был Вовка Агапов – самый честный и смелый, самый преданный из всех, кого Костька знал. Ему можно было доверить любую тайну, можно было сидеть с ним на крыльце и молчать и все равно понимать друг друга, как если бы разговаривал. И все, что ни делал Костька, Вовка принимал как свое, и точно так же Костька всегда переживал за него, будто сам и был Вовкой Агаповым. Только ему Костька клялся в верности – расковырял себе иголкой руку, прижал выдавленную каплю крови к Вовкиной капле и повторил за ним три раза: «Кровь одна обоим дана, клятву нарушишь – дружбу разрушишь…»
Воспитывал Вовку дед, родителей у него не было. Никто не знал, что с ними произошло, куда они делись, каким образом и когда оказались в Рабочем Городке дед Алексей с внуком. «Покрыто мраком», – говорил Вовка. Он и в самом деле ничего не знал ни об отце, ни о матери, приходившейся деду родной дочкой.
Когда Вовка был маленьким, старику без труда удавалось гасить его зыбкое любопытство, тающее при первом же повороте темы разговора. А к тому времени как подрос и стал все чаще задумываться над тем, откуда идут его родственные корни, дед постарел, ослаб памятью – добиться от него какого-либо прояснения в этом вопросе стало невозможно. «А кто ж их знает», – разводил он руками в ответ на очередную Вовкину просьбу рассказать, где его родители. Вовка не верил деду, не любил его, ждал, когда же он наконец помрет, – тогда, считал, родители сразу бы нашлись, приехали бы к нему, и прежде всего отец – «красный командир», как называл его дед.
Когда подошло время, дед стал готовить Вовку к школе – об этом его предупредили в детском саду. Он купил внуку новые штаны, две рубашки – светлую и темную, а букварь и все, что еще полагалось для учебы, обещали выдать бесплатно на выпускном утреннике.
В тот их праздник Вовке, как и всем его одногодкам из старшей группы, вручили не только заветные буквари, но и новые – сплюснутые и задубелые – портфели. И к ним по два ключика. Вовка и его первые дружки, Костька Савельев и Валька Гаврутов, затискав в разные отделения буквари и пеналы, сразу же и заперли замки блестящими ключиками.
Валька Гаврутов – ему чаще других не везло в жизни – немного погодя никак не мог открыть свой портфель, чтобы убедиться в целости того, что в него положено. Дело уже подходило к слезам – в такой-то день! – и Марина Васильевна, воспитательница, пожертвовав головную шпильку, согнула ее и, как гвоздиком, разъяла в конце концов незадачливый замок. А после, чтобы справедливо уравнять Вальку со всеми, окончательно отвела беду – заменила ему бракованный портфель другим, предназначенным для кого-то из захворавших. В одну минуту Марина Васильевна заняла в Валькином сердце больше места, нежели за все долгое время воспитательства.
Посадили группу посреди двора на табуретки и стульчики – первый ряд пришлось положить набок, чтоб было пониже, – и запечатлели на общем снимке. У сидящих – портфели на коленях, лицевой стороной развернуты к фотографу; последний ряд тоже выставил их напоказ – Валька Гаврутов даже руку согнул, подымая бесценный дар над Рыжохиной головой. А голова Рыжохи крупная, нечесаная, глаза круглые – что пуговицы; видно, как она прячет в проеме табуретки босые ноги, заслоняя перевязанную грязной тряпкой щиколотку. Рыжоха до самых холодов бегала босиком – берегла ботинки.
Глаза, если приглядеться, у всех распахнуты во всю ширь – такой уж момент был, самый важный в прожитой жизни.
Такими же оловянными пуговками уставилась Рыжоха на Костьку, когда первым знаком близкой беды полыхнул за Выгонкой маслозавод. Пожар начался под вечер, когда остывающее малиновое солнце, замедлив ровный ход, как бы повисло на время у сизой кромки земли.
Шла третья неделя войны. Всех, подходивших под закон о мобилизации, уже забрали в армию, увезли в торопливых эшелонах. Многие уже и в землю успели полечь, но похоронки еще не достигли мест своего назначения, и война пока виделась хотя и грозным, но все-таки далеким заревом.
Сильно постучав в окно, Рыжоха приникла к раме и всмотрелась в темную глубину дома.
– Костька! Эй, Костька! – Она крикнула и прижалась лбом к стеклу еще плотнее – с улицы трудно было что-либо разглядеть.
Костька тут же выскочил, замахал рукой:
– Чего ты, дурочка! Ленка спит…
Он даже хотел войти и стукнуть Рыжоху по желтой нечесаной голове, но, увидев ее выпученные глаза, остановился.
– Смотри! – Рыжоха подняла подбородок и, подав Костьке знак идти с нею, попятилась, отбежала к палисаднику противостоящего дома. – Смотри! Во!..
Над крышами, где-то далеко-далеко от их улицы, поднимался к нему черный столб дыма. Было душно и тихо. Живые темные клубы быстро ползли вверх, и лишь на большой высоте, словно упираясь в невидимое препятствие, порыхлевший столб загибался в сторону.
Дым был страшным, такого Костька и в жизни своей не видел: чтобы до самого неба и чтобы такого аспидного цвета. Жилые дома так не горят…
– Давай – на крышу? – предложила Рыжоха и, не дожидаясь ответа, припустила к савельевскому сараю, примыкавшему к сеням. Они не раз туда лазали.
Костька подержал дверь, по которой она взобралась на дощатую кровлю, влез следом за нею сам и, кинув беглый взгляд в сторону пожара, ничего толком не разглядев, шагнул к фронтону дома.
В первый раз так решительно ступил он на крутой железный скат. Цепляясь пальцами за выступы швов, он упирался голыми подошвами в давно не крашенный шершавый настил и карабкался все выше и выше. Ноги дрожали, голова словно бы стала пустой и легкой до тошноты. Рыжохе даже показалось, что вот-вот сейчас скользнет он босою ногой, выпустит из рук гребешок фальца и, растянувшись, поедет по крыше и ухнет там, внизу, об землю…
Но Костька дополз до конька, оседлал его. Выпрямляя ноги, привстал было в рост, – но нет, не удержаться! – снова сел на острое ребро, повернул голову к дыму и уставился на него напрягшимися глазами. И, словно потеряла равновесие или, надломленная, закачалась душа на слабой паутинке последней воли. И паутинка эта, вытянутая до крайнего предела, запела тонким голосом отчаяния.
– Маслозавод? Да? – нетерпеливо крикнула снизу Рыжоха. С ее места тоже можно было определить, где горит, но увидеть все ясно мешали соседские крыши. – Костька! Маслозавод?
Костька молча кивнул. Он пригнулся ниже, словно далекий красный огонь, резко выбивавшийся из дымного вихря, мог в самом деле смахнуть и его с неудобной, ненадежной опоры. Туда, за Выгонку, – западную окраину города, с тревогой поглядывали люди, когда говорили о войне. В той стороне безвозвратно скрывались спешившие к фронту эшелоны…
Напротив, на толевой крыше сарая, показалась Лизка Щекотихина, ползущая на коленях вдоль карниза.
– Лизка! Куда тя, заразу, понесло? Ай, господи-и! – тут же донесся снизу истошный крик ее матери. – Ребяты где? – Она поглядела в даль проулка и наугад визгливо позвала – Фе-едьк! Борька-а!..
Погрозив дочери кулаком, не переставая стенать, Лизкина мать побежала вдоль домов. Где-то за углом тоже слышались глухие испуганные вскрики и плач, словно за плотной стеной причитали над несчастьем. Из ближнего проулка навстречу Щекотихиной выскочила Кофанова Лина – толстая, нездорово разбухшая баба. Как наседка цыплят, гнала она впереди себя своих светлоголовых малолеток. Лизкина мать приостановилась, спросила что-то у Лины и тут же, наддав голосу, побежала дальше, в проулок.
Лина, подталкивая выводок к дому, увидела на крыше Костьку и так же, как только что мать на Лизку, – испуганно. и зло закричала:
– Куды ты выперся, ирод! Слазь счас же!.. Пожар на весь город, а он вон тебе что!.. Погоди, мать с работы придет, она тя, апостола, погреет…
У Кофановых хлопнула дверь. Плача, пробежал еще кто-то по улице.
«Шпионы… шпионы…»– прошелестело понизу – по палисадникам, дворам и закоулкам, по листьям замерших кустов. И обдало душу липким холодом, как если бы вдруг оказался среди ночи в глухом незнакомом месте, где каждый звук неожидан и неясен и даже собственные шаги отдаются по-чужому… Или, может, это послышалось Костьке – то, о чем только и говорили в последние дни на работе у матери, предупреждали по радио, толковали соседи, сходясь по вечерам у колонки?
Он бросил последний взгляд в сторону маслозавода. Любопытства наблюдать пожар не было. Не было желания с острой и вместе с тем сладостной тревогой торопиться к огню, чтобы успеть увидеть его безжалостную, необоримую силу, почувствовать беспомощность людей перед его слепою властью.
«Шпионы…»– Костька мгновенно скатился с крыши и влетел в комнату. Маленькая сестренка уже проснулась, она хныкала и ворочалась, пытаясь освободить спеленутые руки. Костька сунул ей в рот выпавшую пустышку и быстро вернулся к двери, заложил в гнезда литой, отполированный ладонями деревянный брусок.
2
С того часа жизнь и переломилась, это Костька мог сказать совершенно определенно. Словно чудовищным лезвием рассекли ее на две части – довоенную и сущую. И довоенная, немудреная и ясная, разом отошла, отодвинулась за какую-то далекую стеклянную ограду и сияла оттуда неправдоподобно теплым светом. Там, за этой сверкающей стеной, осталось высокое звонкое небо с неторопливым бегом облаков, привычные утренние звуки просыпающегося города и томительное предчувствие грядущих радостей каждого нового дня в кругу милых сердцу приятелей. Остались первые тайны и первые прозрения – знаки пробуждения новых, неведомых доселе, сладко тревожащих сил. Остались прежние заботы и забавы…
Рыжоха встретилась Костьке и перед самым уходом из города. Все привычное глазу – люди, дома, трамваи, машины – словно бы вдруг потеряло опорный стержень. Трамваи носились безо всякого расписания, иногда проскакивая привычные остановки. Суетились люди, густо набегая в проулки и скапливаясь на площадях в неурочные часы. Болтались на заборах плохо притиснутые газеты и плакаты.
– В деревню? – закричала Рыжоха от своего дома, увидев, как долго запирает двери и проверяет верность замков Ксения, Костькина мать.
Костька утвердительно кивнул. На руках у него была туго завернутая в тонкое одеяло Ленка. Рыжоха видела, как тяжело ему держать в одной руке сестру, в другой – большую, набитую доверху корзину.
– А вы? – Костька вроде бы и не произнес слов, а только вскинул голову и показал глазами на дорогу.
– Не-е, мы остаемся, – без заметного страха отозвалась Рыжоха и поглядела на свои окна, за которыми проглядывались плоские лица приникших к стеклам Личихи – Рыжохиной матери – и ее деревенской сестры, заявившейся накануне.
Рыжоху сердито поманили из-за окна. Она шмыгнула в приотворенную изнутри дверь. А Костька, передав Ленку матери, перехватил поудобней плетеную ручку и, не имея сил нести корзину отстранив от ноги, пританцовывая, заспешил следом.
За спиной у Ксении висел мешок, на лямки пошла светлая тесьма, долгое время хранимая в комоде на всякий случай. Вот он и пришел. Тесьма не очень широка, да все не веревка – меньше врезается в плечи.
Ксения приостановилась, подсадила свободной рукой груз у поясницы и поймала витую дужку корзины.
– Ничего, сынок, терпи, – сказала она, сдерживаясь, чтобы не обернуться, не поглядеть еще раз на родное гнездо, где оставляла не только обжитые до слепого осязания потертые углы и пороги, но и немалую долю своей души, впитанной старыми стенами за долгие годы жизни. Однако не пересилила тяги, задержала шаг, оглянулась. «Сохрани бог… сохрани и помилуй…»– шевельнулись губы так же точно, как шевелились когда-то у матери, испрашивающей у судьбы милости.
За пыльным элеватором, где шоссе крутым загибом уходило под железнодорожные мосты, кипел затор. Гудели машины, ругались люди, и, перекрывая их хриплые голоса, ревел скот. Большой гурт живым наплывом запрудил горловину тоннеля. Измученные гуртовщики хлестали палками голодных, давно не доенных коров, пинками расталкивали овец. Многие коровы хромали – копыта их были сточены до живого.
Пешие беженцы взбирались на насыпь и переходили пути поверху. Так поступила и Ксения. Она с трудом поднялась на полотно – подъем был крутой. Внизу, в пыли и жару, копошилась никем не управляемая зыбкая масса. Как искры из костра, вырывались из общего гула хриплые отчаянные крики. Подпирая передних, не видя, что там, в голове, происходит, беспокойно и требовательно сигналили шоферы все новых, подходивших от города машин.
Ксения остановилась. Передав сыну живую ношу, вытерла уголком одеяльца потное лицо, еще раз – за насыпью уже ничего не увидишь – поглядела из-под руки в сторону дома. Солнце набирало высоту – глазам было тяжело… Дальняя застройка расплывалась в сизом мареве.
За вторым поворотом шоссе – город уже отступил – они перебрались через кювет и, пройдя немного, устроились на отдых. Костька снял рубашку, полевой ветерок быстро высушил легкий детский пот. Ксения обтерла белой тряпкой лицо и шею, влезла рукой за ворот – там было горячо и влажно. Распеленутая дочь беспокойно сучила ногами и всхныкивала – требовала еды.
– Сейчас, сейчас… – отдуваясь, подала голос Ксения. – Эта уж свое не пропустит.
Она расстегнула ворот пошире, прижала тряпицу к грудной впадине, потом достала грудь.
Костька глядел на дорогу. На взгорок, натужно ревя моторами, взбирались две перегруженные полуторки, следом за ними тянулись другие машины. Люди двигались по обочинам, их было немного – редкая прерывистая цепочка, женщины и дети, как и они, Савельевы.
С той стороны, где они выбрали остановку, к шоссе подходила молодая березовая рощица, что и привлекло Ксению. Она расположилась под первым же деревцем, в тени.
С поля изредка подувало плотным, полным жарких запахов воздухом, словно где-то далеко взмахивали огромным опахалом. Заглушая шум дороги, в траве гудели шмели, стрекотали кузнечики живо шелестела на гибких ветках березы свежая листва. Ничто вокруг не напоминала о беде: в полную силу дышало пестрое разнотравье, обжитое невидимым глазу, но голосистым миром, покои й лад которого не поколебались, кажется, ни на волос. Густели после полудня горько-пряные запахи, ярко светило близкое горячее, солнце.
«Может, и зря ушли? – подумала, оглядываясь вокруг, Ксения. – Зря дома побросали? Как все там будет без глазу? Может, все же, и не дойдет до нас, задержат где – вон сколько людей к фронту погнали…»
Она остановила взгляд на шоссе и удивленно произнесла:
– Костя, сынок, что это там такое?..
В их сторону, роняя на ходу пожитки, быстро бежали от шоссе перепуганные люди. Некоторые оборачивались, глядели на небо и, пригибаясь к траве, не разбирая пути, бежали дальше, к березняку.
– Ложись! Ложи-ись!.. – кричал и махал им рукой худенький старичок, пытаясь остановить бегущих. Но его не слушали, не обращали на него внимания, и он тоже, пересиливая одышку, продолжал трудно бежать к спасительной роще.
Видимо, в то же самое время, как Ксения увидела бегущих в ее сторону людей, она услышала и сухой треск. Низко над шоссе пролетели два самолета. На их длинных боках были ясно видны чужие знаки – на желтом пятне ровные кресты. Сухой треск – были очереди их пулеметов. Раздались испуганные крики, сбилась с хода и завалилась в кювет груженая полуторка. Повеяло смертью…
– Ложи-ись!.. – задыхаясь, сипел старичок.
Прижимая дочку к груди, сгорбившись, Ксения бросилась вместе со всеми к лесу. Костька обогнал ее, он несся напрямик, по высокой сухой траве, сбивая метелки кипрея.
Самолеты скрылись за бугром, но в ушах все стоял гул их моторов – пронзительный, незнакомый, как и двойные кресты на узких боках. Гул этот, не успев растаять, стал вновь усиливаться, и остановившиеся было люди кинулись дальше к деревьям.
Самолеты делали второй заход. Один, как и до этого, нацелился на шоссе. Второй, шедший следом, отвернул в сторону, пересекая дорогу устремившимся к зеленой роще людям. От рева двигателя заложило уши; упавшая в терновник Ксения словно ощутила спиною жар и тяжесть смертоносной машины. Перекрывая нарастающий грохот мотора, застучал пулемет. Частой строчкой впились в землю пули и, не настигнув жертвы, точно бы сами омертвели в ее холодной глубине. Ксения напряглась всем телом – боль не отозвалась нигде. Дочь была притиснута грудью…
Когда Ксения приподнялась и в тревоге глянула в сторону леса, она вначале не увидела никого. Потом из травы, прислушиваясь, оглядывая небо, стали подниматься те, кто не успел добежать до спасительной чащи. Выпрямив непослушные ноги, вдохнув тугого воздуху, Ксения, как могла громко, позвала:
– Костя-а!
Из-за деревьев показалось несколько человек, и среди них и сын. Бледный, с полными ужаса глазами, он подошел к матери и дрожащими руками поправил обвисшее до земли сестрино одеяло.
– На, подержи, – сказала Ксения, передавая ему дочь. – Надо за вещами сходить…
Она скинула мешок и, неуверенно ступая, направилась туда, где они в страхе бросили корзину.
Лена, минуту назад прижатая к земле и отчаянно пищавшая под материным телом, спокойно смотрела на брата, тянулась рукой к его лицу и что-то лопотала. Она щурилась от яркого света дня, залившего все вокруг.
Невдалеке сошлись в одном месте несколько человек, оттуда долетали приглушенные голоса. Кто-то наклонился над травою…
– Что там, мам? – тихо спросил Костька, когда Ксения вернулась к детям.
– Дедушку, сынок, убило…
Кровь снова отлила от Костькиного лица. Он переступил ногами и сглотнул тошноту.
– Давай быстро, сынок, быстро! – Ксения опустилась на колени. – Я сейчас золотку нашу переверну…
Она торопливо перепеленала дочь и, захватив свободную ручку корзины, твердо зашагала с сыном по скрытым травою кочкам и рытвинам подлеска, держась подальше от голого полотна шоссе.
3
Большой выход – погреб в сухом углу двора – осенью заполнялся чуть ли не доверху: туда ссыпали картошку, ставили заново выпаренные кадки с огурцами и капустой, кадушки с грибами. В летнюю пору он пустовал – молоко, квас да яйца хранили в дому в подполе.
Когда понукаемая невесткой Ксения спустилась с детьми в подвал, она не сразу нашла, где и присесть: на скудном пространстве, тесно сплотившись на закиданном соломой земляном полу, пережидали беду несколько женщин и все их малое племя. Острые глаза впились в нового человека – Ксения оробело оглянулась.
– Устраивайся, устраивайся, – ободрила сверху невестка. – Кинь наземь что и садись, и ребяты пусть. – Она указала рукой в дальний конец – Теснее, бабы. Вон на картошку можно, на остатки, – детей или что…
Крышка опустилась. В темноте Ксения пошарила свободной рукой подле себя, в прореху соломы тронула ладонью стылый пол и подгребла к ногам немного сухих скользких стеблей.
Костька жался к матери, влек цепкими руками книзу; Ксения, оберегая стянутую одеялом дочь, присела.
– Мам!..
– Чего?
Костька, оборвав шепот, придвинулся ближе и задышал в самое плечо:
– Мы тут и будем?
– Там же убьют, сынок… – Ксения подняла глаза к потолку. – Слышишь, как…
Она не успела договорить: круто, словно оседая вглубь, дрогнула земля – и прянуло в глухую темь сердце, заметалось там без привязи. В щели подволока засочилась пыль.
– Ой, господи!..
– Спаси и помилуй!
– Матушка, царица небесная!
«Сами себя отпеваем», – успела кольнуть мысль, пока Ксения вздымалась с колен. Голосили дети, стенали бабы, старухи торопливо поминали бога.
– Тихо вы все! – неожиданно, потеряв самое себя, шумнула Ксения. – Таиться надо, а вы что же? Может, уж тут они…
– Тута?!
– А то… Взрыв такой…
Ксения была городская, другой жизни, уже что-то, может, повидавшая из катившейся беды, слова ее ложились твердо и казались верными, и бабы притихли. Сверху донеслись автоматные очереди, еще незнакомые слуху. Потом вроде бы по улице проехали машины…
– Ой, как же я так!.. Я ж избу не заперла… – испуганно произнес кто-то за спиной Ксении. На голос никто не отозвался.
– По дороге всех пулями решетили, с неба… – вполголоса проговорила Ксения. – Подле нас дедку старого убило.
– Убило?..
– Ой, бабы!.. И нас бы тоже чуть… Вершок какой…
Наверху скрипнула дверка, кто-то приблизился к сходу, взялся за откидную крышку…
– Дуся!..
В ровном просвете, зажав ладонью рот, склонилась над лестницей Ксеньина невестка. Вот она опустила неверную ногу на ступеньку, затрясла головой.
– Дуся…
– Бабоньки-и!..
Перепуганный голос хозяйки погреба вызвал общий страх, глухо завыли женщины, заревели в голос ребята.
– Ну, чего там? Чего там, Дуся?
– Наверх зовуть… Всех, кто есть…
– Кто зовет?..
Все бабы, будто прошитые одной холодной ниткой, вытянули шеи к отверстому лазу.
– Оне зовуть, – Дуся повела рукой за плечо, – на мациклетах прикатили.
– На мациклета-ах!..
Дуся отерла подолом глаза, всхлипнула:
– Говорить так… быдто лають…
– А роги?
– Не видала, бабы. Каски железные на них. Можеть, под ними…
– И зовуть?
– Ага. Всех собирають. У конторы. Бомбу в нее кинули, там Никита Лунев хоронился, весь угол развалили. И Никиту – царство небесное…
Снаружи гулко громыхнула короткая очередь, Дуся осеклась и обернулась к выходу:
– Вот оно… Опять стреляють, предупреждение дають… Пошли, бабы, а то ведь оне…
– Боже ж ты мой!..
…Рогов у немцев не было – старухи тоже, видно, городили с чужих слов, – и выглядели они как обычные люди: так же передвигались по земле, так же следили глазами за сбившимся в кучу народом и вполне понятными жестами указывали, что надо делать. Однако голоса их – как сперва показалось, высокие – никак не вязались с привычным представлением о себе подобных, и поначалу Ксения вздрагивала всякий раз, как раздавалась чужая речь. Но постепенно ухо обвыкло.
Наружная стена конторы была разбита взрывом: венцы угла разошлись, голыми ребрами торчали вывернутые бревна. Рядом, на дороге, косо откинув грязно-кровяную голову, лежал Никита Лунев, сельсоветский сторож. В ногах у него валялась всем знакомая длинноствольная берданка. От крыльца тянулся промятый в пыли след, видно было, как волокли Никиту из его последнего прибежища.
С немцами был человек в гражданской одежде; он говорил и по их и по-русски. «Переводчик», – перешептывались бабы. Вот он повернулся к притихшему люду.
– Вы должны запомнить сегодняшний день – он принес вам свободу. Теперь вас никто не тронет, никто не обидит, вы находитесь под защитой германской армии. Вот, – говоривший твердым жестом указал на крепких, спокойных мотоциклистов с автоматами в руках, с диковинными толкушками за ремнями. Такой толкушкой – гранатой с длинной деревянной ручкой – они и разворотили угол старого сруба конторы, когда из-за него бахнул в их сторону Лунев из своего ружья.
– Это не относится к тем, – продолжал переводчик, – кто является нашим общим врагом: к коммунистам, евреям, активистам Советской власти. Все они будут выявлены и наказаны по законам военного времени. Вот, – он махнул рукой в сторону Никиты, над головой которого уже роились мухи, – он хотел оказать сопротивление. Так будет с каждым, кто не подчинится новой власти, новому порядку. От вас требуется одно: честный труд и соблюдение законов и распоряжений. И вы будете жить в необходимом достатке и покое…
Сыновние пальцы, туго державшие локоть, вдруг ослабли. Ксения обернулась. Белый, как полотно, Костька дернулся грудью, его тошнило.
– Не надо туда глядеть, – прошептала Ксения, отворачивая его лицо от убитого, – не надо, сынок… Глотни поглубже… – Она качнула в руках закряхтевшую дочку.
Ей и самой было худо: от страха ли, от вида ли убитого опустело в груди, как треснутая ветка закачалась голова. Потом, через какое-то время, до нее опять донеслись пугающие слова:
– …Всякий, кому станет известным их местопребывание – Котлякова, Князева, Вербина, – должны немедленно сообщить об этом властям. За каждого из них будет выдано вознаграждение.
– За выдачу – награжденье… Господи!..
– Про всех знають, – в самое ухо шепнула Дуся, за минуту до этого крепко взявшая ослабевшую золовку под локоть.
– Ага, – глухо выдохнула Ксения. Котляков и Князев были сельсоветским начальством, хорошо их знала.
– И их, если поймають, – Дуся скосила глаза в сторону неподвижного тела на дороге, – как Никиту…
– Ага…
Долетавшие до слуха слова камнем падали на сердце. Слова были холодные, чужие, словно не русские, хотя звучали вроде бы и понятно. Говорил их человек грамотный, но – видно было – не местный, издалека, такой манеры толковать с людьми тут не знали.
– …Сами вы будете в полной безопасности, гарантированной оккупационными властями. Как я пояснил выше, от вас требуется только одно: честный труд и выполнение законов и распоряжений. В этом случае вам нечего будет опасаться за свою собственность, свои права и за свою жизнь…
Ксения опустила веки. Выплывая из мрака, оранжевой рябью горел в глазах поворот дороги и на нем – вывалянный в пыли, весь пробитый осколками, навек затихший Никита…
4
– Что же это деется-то, господи! – простонала Ксения, остановившись посередине комнаты и не решаясь подойти к комоду, где сберегалось ее основное богатство – несколько простыней и наволочек, нижнее белье, вторые занавески, материя на платье, мужнин отрез…
Как разбитые губы, кривились замочные щели с вырванными краями. Железки замков, с мясом выдравшие легкие личины, светились в полутьме прикушенными языками.
– Обокра-али!.. – горько и пусто проговорила она, оглядываясь. Подмечая перемены в комнате, вернулась взглядом к ящикам комода, приблизилась к ним, с усилием потянула за край верхний – наперекос, не до конца задвинутый. Ящик был пуст.
Костька всхлипнул, провел рукавом по глазам. Не так жалко было вещей, как жгли унижение и обида: его дом, его, можно сказать, душа подло и нагло осквернены и некому пожаловаться, не у кого попросить защиты. Нечто похожее переживала и Ксения, словно голая стояла перед чужими нахальными глазами, до которых нельзя дотянуться ни ногтями, ничем… И нечем прикрыться, некуда деться.
Она шагнула в спаленку – отгородку без окна, заглянула под кровать, куда запихнула, уходя, узел с зимней одеждой, и, не подымаясь с колен, ткнулась головой в старую перину.
– Мам, может, кто из соседей? – подал надежду Костька.
Ксения покачала головой. Утирая глаза, тяжело поднялась с пола и сквозь слезы произнесла:
– Неужто соседи?.. Господи!..
Потом, еще пооглядевшись, добавила:
– А хоть и из них кто – все равно не найдешь, не для того брато.
Костька побежал в сарай – не пропало ли чего там. Нет, санки на кованых железных полозах, отцовский подарок к школе «полуснегурки» в старой кошелке, ломаный безмен на гвозде под крышей – все осталось на месте. Однако он сдернул безмен со стены, завалил набок пустую кадку, опрокинул санки – пусть мамка поглядит, чего понаделали эти жулики и в сарае. Они – Костька был уверен – сделали бы еще и хуже: это им что-нибудь помешало или было уже не унести ворованное.
– Ну, что там? – одними глазами спросила мать, когда он вернулся у дом.
– Раскидано все, – Костька яростно махнул рукой. – И коньки, и салазки…
Ксения перебила:
– Сбегай к Лине, спроси… Хотя постой, и я схожу.
Все вместе они направились к соседке, через несколько домов. На пороге Кофановых в нос ударил острый винный дух – Лина стояла у плиты и сушила на противне целую гору вялого чернослива.
– Ой, Ксюша!..
Ксения посмотрела на сковородку:
– Что это ты?
– А сливы, с настойки, с винзавода. – Лина указала на пропитанный синевой полупустой мешок у порога. – Так – горькие, а выжаришь сок – ничего, как из компота. – Она обтерла фартуком синий от ягод рот и отмахнулась от жарева – А ну их к бесу. Ты-то как, Ксюш?
Однако вместо того чтобы слушать, Лина, словно вот только и увидела ее, ухватила соседку за рукав и запричитала, заспешила с новостями. Она рассказала, как в день прихода немцев с утра до поздней ночи по всему городу грохали взрывы. На улицах не было видно ни души – ни военных, ни штатских, а дальняя стрельба доносилась откуда-то из-за Прокуровки.
Там долго трещали пулеметы и ухали разрывы, пока в конце концов не истаяли.
– Всю душу надорвали, – вздыхала Лина, – как будто в болоте утопали: все глуше становилось и глуше. Говорят, отсекли они там наших.
Ксения качала головой.
– А меня обокрали тут… – сказала она тяжело, когда Лина на какое-то время умолкла.
– Да что ты, Ксюша?! Когда ж это? Я ведь проходила, замок трогала… И ставни глядела…
– Ставню и вывернули, а после опять приладили. Вот так… Не разевай рот…
– Ай, господи! А чего взяли?
– Спроси, чего оставили…
Лина, и веря, и не веря Ксении, повлекла ее к выходу, чтобы воочию убедиться в несчастье.
5
Костька в это время мчался к Семинарке – огороженному кирпичной стеной парку со старинным особняком на краю обрыва, бывшей духовной семинарии. Красная ограда постепенно ветшала, оседала в землю, осыпалась. В дальних, скрытых кустами местах целые участки ее были разобраны на собственные нужды окрестными жителями, благо ни сама стена, ни старый парк государством не охранялись. Сколько помнил Костька, в красивом розовом доме с колоннами всегда располагался агротехникум, но место это иначе как Семинаркой никто не называл.
Их Рабочий Городок тоже был когда-то монастырем и тоже был обнесен высокой кирпичной оградой.
Когда у церкви удалили верхи и таким образом укоротили строение, решено было устроить в нем клуб, благо внутренних переделок почти не понадобилось – алтарь оказался вполне подходящим местом для сцены. В летнее время кино показывали на отгороженной забором площадке у задней стены клуба, где было врыто в землю несколько рядов скамеек.
Дома и сараи в Рабочем Городке – они шли сцеплен-но ломаными улочками и проулками – были сплошь деревянными, рублеными, с обшивкой, исключая двухэтажные «настоятельские» хоромы с каменным низом, занятыми под домоуправление.
Вообще-то говоря, о монастыре, заселенном рабочими семьями и потому-то и ставшем Рабочим Городком, мало что было известно: народ тут жил приезжий, однако изначальные названия, плотно легшие на основу, проступали в Городке на каждом шагу. Снежная горка на развалинах соборного придела так и звалась, к примеру, Сергиевской; дом Савельевых стоял у Грязных ворот – полевого въезда в бывшую обитель. В свое время сразу же за ними начинались пашни ближней деревни, и монастырским золотарям не было нужды колесить ночами по всему городу, чтобы опустошать бочки на общих свалках, делали это они по договоренности с крестьянами на полях. Были ворота Средние, ведущие к центру города, и Базарные, за которыми до недавних дней прибойно шумел молочный базар.
…Костька вскарабкался на Монастырскую кручу и, пройдя вдоль стены, вышел к Новосильской улице. Валька Гаврутов увидел его в окно.







