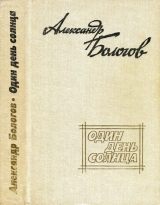
Текст книги "Один день солнца (сборник)"
Автор книги: Александр Бологов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц)
Неделей раньше ему неожиданно удалось стрельнуть у немцев банку бензина. Это произошло так просто и так быстро, что Вовка тут же решил еще раз попытать счастья.
В саду у Сергиевской горки прямо на снегу было уложено несколько десятков бензиновых бочек, около них заправлялись машины. Это был топливный склад, он даже охранялся: рядом с заправщиками всегда прогуливался часовой с карабином. Ребята не раз видели, как шоферы вкатывали по наклонным бревнам на высокую эстакаду бочки и через воронку наполняли бензином плоские канистры, которые тут же опорожняли над бензобаками машин или укладывали под кузова, в запас. В тот удачливый день Вовка, понаблюдав, как разгоряченные солдаты ловко управляются с очередной бочкой, вдруг набрался духу и протянул шоферам ржавую консервную банку, подобранную поблизости:
– Пан, гебен мир…
Часовой смотрел на него спокойно, не меняя выражения лица, а один из шоферов – он завинчивал пробку на боку бочки – мотнул головой и что-то сказал. Сказал не раздумывая, отняв руку от пробки. И Вовка шагнул к немцу, приставил к отверстию гнутую банку, а немец, ослабив винтовую затычку, нацедил в нее чистого розового бензина.
– Добытчик, – похвалила Ксения, переливая бензин в бутылку.
Потом они подходили к бочкам вместе с Костькой, каждый со своей приготовленной банкой, высматривали обстановку, но она все время была неподходящей: то суеты было много у склада, когда заправлялось сразу несколько машин и хмурым шоферам было, конечно, не до нищих, то охранник попадался чересчур сурового вида и даже, когда они один раз оказались уже у самой эстакады, строго зыкнул и махнул рукой – а ну, дескать, дуйте отсюда.
А тут Вовка вышел пройтись до Базарных ворот – главное поглядеть, какая картина у склада, и тут же во весь дух домой.
– Хуго наш дежурит возле бочек!.. – крикнул, не передохнув, Костьке, нянькавшемуся с сестрой, и, захватив обе банки, резанул к Сергиевской горке. Мать была на бирже – на работу устраивалась.
Вовка подлетел к огороженному с трех сторон колючей проволокой хранилищу и заулыбался стоявшему у открытого входа рыжему квартиранту. Хуго, в шинели, с опущенными шерстяными наушниками под фуражкой с откидным отворотом, переступал от холода ногами и невозмутимо глядел на протянутую банку.
– Пан, гебен мир… – Вовка, не закрывая рта, кивнул в направлении эстакады, где на двух продольных ребрах покоилась – очевидно, уже початая – бочка.
Немец оттянул ремень карабина и пожал плечами. Вовка понял: постовому нельзя.
– Ихь, ихь!.. Я сам могу… – сказал он, всем видом показывая, что сумеет распорядиться пробкой. – Мне уже давали раз… – И указал на бочку.
Хуго перевел взгляд с просителя на эстакаду и обратно и сделал какое-то движение головой, которое Вовка понял как разрешение пройти на огороженную площадку. Он торопливо шагнул к бочке и замерзшей рукой ухватился за гайку, она подалась, туго, но подалась – была не до конца закручена. Заиндевелая, скользкая, она обжигала кожу, но Вовке удалось отвернуть ее на круг или полтора. Подхватив с земли банку, другой рукой он что есть силы потянул бочку на себя, скрипнув на опорах, она сдвинулась с места, внутри слышно плеснулся бензин и засочился сквозь резьбу. Потом потек неровной струей, банка наполнилась, и Вовка, уцепившись за край донного выступа, оттолкнул бочку, чтобы опять ушла наверх сливная дыра. Банку было трудно держать за острую, косо отогнутую крышку, и он поспешил подставить под нее скрюченную от холода свободную руку, но тут Хуго, оказавшийся почему-то рядом, носком сапога вышиб ее из закоченевших пальцев. Ледяные брызги хлестнули по лицу – стало трудно дышать, защипало глаза.
– Никс цап-царап! – выкрикнул над ухом немец, и Вовка, прижав к лицу локоть, спотыкаясь, бросился от склада…
…Глаза промыли. Видеть они не перестали, хотя и покраснели и долго еще слезились. Матери решили ничего не говорить.
Ленчик Стебаков подсказал еще одну штуку. Встретился как-то Костьке возле станции – как всегда деловой, неунывающий, – наболтал всякого, цигарку свернул из окурочного табаку и тут же задымил, цыкая слюной. Дал покурить и Костьке. Потом схватил за руку, повернул лицом к вокзалу:
– Видел, вон пошли с чемоданами?
Костька поглядел, куда он показывал, увидел кучку немцев, с вещами, неуверенно шагавших по засыпанным снегом трамвайным рельсам, утопленным в булыжной мостовой.
– Ну, и что?
– В гостиницу идут ихнюю, в отель, где оркестр играет.
Костька пожал плечами, и Ленчик, удивляясь его непонятливости, объяснил:
– Через весь город чапать, с грузом, понял? Они привыкли к трамваям да извозчикам… А были б салазки, погрузили бы чемоданы и мешки – и по Грузовой, под горку… Иди рядом и поплевывай.
Подвоз показался небывало простым и доходным делом, и поначалу это так и подтвердилось. На салазках теперь возили воду с реки – они так и стояли в сарае обледенелые, с ровными следами от ведер и ледяными наростами вокруг. Ледяные наплывы и сосульки сбили, веревку, которой закрепляли ведра, высушили, собрали в петли, стянули концом – это мать сделала – и, как было условлено, с утра отправились к Ленчику. Тот выкатил свои длинные, на тяжелых полозьях сани, и ребята отправились к вокзалу.
Первый поезд, с которого сошли приезжие, пришлось ждать долго. Ленчиковы бурки и суконное пальто с потертым котиковым воротником держали тепло куда лучше, и то он мерз, прыгал на месте и несколько раз заводил борьбу на одной ножке с толчками в плечо. Но и Костька, и Вовка, поджимая ногу, попрыгав чуть, потолкавшись, бросали эту забаву – сил на нее не было.
Ближе к полдню Вовка, не угадав, под каким пальцем у Костьки соломка, повернул домой, сидеть с Ленкой – обязанности по дому мать им определила одинаковые. Сама она должна была идти мыть полы в клубе завода «Текстильмаш» – так он до войны, конечно, назывался. Ноги в старых дедовых сапогах промерзли насквозь, и Вовка, плохо чувствуя их, с ходу побежал бегом.
Он еще не скрылся за углом, еще скользил под горку по мертвому трамвайному пути, как подошел состав с двумя, в ряду многих товарных, пассажирскими вагонами, и Вовка, оглянувшись, увидел их, махнул рукой Костьке с Ленчиком. У тех уже до его знака толкнулась в сердце надежда, оба подкатили салазки к узкому выходу с перрона – Ленчик впереди, Костька на подхвате.
Из вагонов вышли немцы, у каждого обе руки при деле – несут чемоданы, пакеты, саквояжи. Ленчик выпихнул сани на вид – давайте подвезу! Костька глядел, как Стебаков, руками и голосом, вполне понятно объяснил, что их отель – а им, знамо дело, нужно туда! – находится в центре города, до него переть и переть, и что он готов помочь доставить к гостинице их тяжелые вещи. Через несколько минут он уже увязывал на своих санях тесно сложенные чемоданы и сумки, кивал понятливо головой, слыша какие-то советы окруживших его военных.
– Савёла! – обернулся он к Костьке. – Вон этим в комендатуру. – Он указал глазами на солдат, стоявших в стороне. – Чего ты стоишь-то?!
Костька вырулил вперед.
– Комендатур? Я? Комендатур? – подражая Ленчику, спросил он у солдата посолиднее, с ефрейторской полосой на погоне.
Тот кивнул и, обернувшись к спутникам, бросил что-то им вполголоса и, не раздумывая, поднял со снега большой металлический ящик. Другие вещи уложил поверх него, Костька, как умел, стянул их веревкой и осторожно потянул возок на площадь.
Домой, за пазухой, он понес завернутую в слюду маленькую буханочку белого хлеба, плоскую баночку консервов и три галеты – сухих, наподобие тонких лепешек, пористых сухаря. Скользкая банка холодила под рубахой живот, слюдяная обертка отзывалась внутренним скрипом, Костька нажимал на них рукой и прислушивался, и сердце его, опережая живое движение, торопливо летело к дому.
В тот день он осветился праздником: неведомым до этого лакомством из банки накормили Ленку – она уже научилась жевать, перемалывала растущими зубами все, что оказывалось съедобного в руке, по кусочку пряной ароматной рыбки досталось и ребятам. А вот галеты вызвали недоумение: оказались совершенно пресными – неужели в них забыли положить, кроме сахара, и соль? А может, потому и отдали эти странные сухари Костьке, что, обнаружив брак, нашли подходящую возможность избавиться от них? По этому поводу порассуждали все, однако, и пресные, галеты таяли во рту, и Ксения выделила ребятам – Лена тоже с заметной охотой посасывала всунутый ей в руку ломтик – лишь одну рубчатую лепешечку, две остальные решив хоть сколько-то похранить.
Повторный выход на подвоз обманул разгоревшиеся мечты. Дотемна маячили Ленчик с Костькою вблизи перрона – первый подле самых ворот, второй в отдалении, готовый в любой момент подогнать свой транспорт к платформе. Стебаков изредка поглядывал на Костьку, ждал, что тот в конце концов перестанет ломаться и подтянется к нему, но Костька не выказывал такого желания и продолжал топтаться в стороне.
По пути на станцию им встретился такой же, как они, подвозчик с Заречья – Ленчик вроде бы встречал его именно там, – тощий, до ушей заросший грязью пацан с самодельными санями. Деревянные полозья их скрипели неимоверно – доски вспарывали утоптанный снег; худущий хозяин, захватив локтевым сгибом веревку, медленно тянул свое рукоделие вверх по Грузовой улице. Ленчик окликнул его:
– Эй! Куда пилишь? Не на станцию?
Пацан, кинув косой взгляд на незваных попутчиков, ничего не ответил, и Стебаков, прибавив шагу и догнав визжащий на ходу дощатый возок, поддел его ногой:
– Ну, ты, фрайер! Уши заложило?
Голова пацана и в самом деле была замотана не то какой-то тряпкой, не то старым вязаным кашне, но он, конечно, все слышал, потому что тут же застопорил ход и неожиданно хриплым, грубым голосом крикнул:
– Че ты, падла?! Чего тебе надо?!
Пока Костька, удивленный ответом малого, переводил взгляд с него на Ленчика и обратно, Ленчик – тоже, видно, ошарашенный нахальством плюгавого конкурента – бросил свои салазки и нерешительно шагнул к тому, на ходу оценивая взаимные возможности. На грязном, неизвестно когда мытом лице – Стебакову показалось, что оно покрыто копотью, – колюче светились бесцветные глаза, губы кривились от злости.
– Че ты, падла?! – повторил малый и неожиданно сделал шаг навстречу.
Стебаков почувствовал неясный холодок под лопатками – почему так прет этот хиляк? Он даже оглянулся – не прикрывает ли кто его? Но вокруг никого не было, и Ленчик, быстро вскинув руку, ударил его в нос. Малый согнулся, как-то неловко закрываясь локтем, но тут же выпрямился и вскрикнул:
– Ну, падла!..
Костька увидел, как с его руки слетела старая рукавица и мелькнула голая рука, сжатая в кулак, и, не понимая, почему ему вдруг стало страшно, крикнул:
– Ленчик!
– А-а! – коротким вскриком отозвался Стебаков, тоже заметивший что-то в руке у зареченца. Он сильно пнул ногой его санки, и от боли в голени тот осел на дорогу. В руке у него оказался обломок бритвы с пальцевым хвостовиком.
– Попишшу, падла!.. – хрипел он, уже потеряв его, пытаясь отвечать Стебакову на его частые удары по лицу. Из разбитого носа текла кровь, но он вначале не обратил на нее внимания, а потом, точно желая показать, как с ним обошлись, стал мотать головой и разбрызгивать ее капли по снегу. Они падали на дорогу как мелкие ягоды.
Костька стоял в стороне, не вмешивался, все произошло так быстро, что он не успел бы вмешаться и пожелай того. Но когда Стебаков, уже было оставивший избитого, последним толчком горячки повлекся к нему, он, путаясь в саночной веревке, подскочил и перехватил руку:
– Н-не бей его!
Ленчик вырвал рукав и выругался, а Костька добавил:
– Хватит!.. Чего ты, в самом деле?
– Хватит?! У него писка, счас прошелся бы… Смотри, он мне… – Стебаков повернул руку и показал свежий, бритвенный, разрез на локте.
Костька стиснул зубы, но сказал:
– Он к тебе не лез…
Залетный подвозчик потащился со своим ящиком на полозьях восвояси, а Стебаков с Костькой двинулись дальше, к вокзалу. Но союз разладился. Ленчик по дороге несколько раз поминал драку, выставляя распоротый рукав и проясняя свое к этому отношение хорошо знакомыми на слух, но еще не освоенными Костькой стыдными словами, но Костька в основном отмалчивался.
– Ты хотел бы сам, чтобы тебя вот так же? – сказал он в конце концов, кивая назад.
– А вот это не видел? – Стебаков на ходу постучал рукой по нижней пуговице пальто.
Костьке стало противно, и он уже неприкрыто отстал, и так, на расстоянии, они и подошли к вокзальной площади. Терпели до самого темна. За все время ожидания на станции остановился лишь один состав с пассажирскими вагонами среди товарных. Надежда отдалась призрачным теплом в продрогших душах, но… К платформе, через те же ворота, где они стояли с салазками, подъехал огромный грузовик с откидными сиденьями вдоль бортов, и высыпавшие из тамбура солдаты, похохатывая, подталкивая друг друга, быстро повлезали в него, и фургон укатил.
Потом полдня толокся у перрона Вовка – ему выпала очередь идти в извоз. «Поглядим, кто из вас удачливей», – сказала мать вдогонку, чтобы особенно не переживал, если не повезет. Ему и вправду не повезло, впустую проканителился дотемна – все ждал какой-то последней минуты, пока не пришлось уже бегом гнать в Городок, чтобы успеть дойти в законное время. Расстроенным, ослабшим от стужи и голода явился Вовка домой, ноги не держали – полез на печку, пока мать разогревала на таганке его долю супа из поджаренной ржи.
– Ничего, Вов, ничего, сынок, день на день не приходится, – успокоила, как могла, Ксения, давая понять, что вины его в порожней ездке нету и что удача может прийти и в другой раз.
Но благодать почина не повторилась, хотя и Костьке, и Вовке удалось несколько раз подвезти немцам чемоданы и ранцы с вокзала до гостиницы и комендатуры. Немцы благодарили больше словами – данке, данке! – да изредка остатками сигарет в красивых пачках или конфетами в трубках – дали однажды Вовке такой столбик леденцов. Сигареты были платой выгодной – Трясучка за них давала и хлеб, и крупу. Почуточке, конечно, но никогда не скаредничала. Сама она добывала еду на базаре: меняла вещи, посуду, обстановку; жила в свое время в достатке и удобстве, барахла ей могло хватить надолго.
Надежды на подвоз таяли, улетучивались, но вера в его возможные счастливые неожиданности окончательно не уходила, тлела, при каждом новом выходе из дому согревая душу светлым лучиком ожидания. И вот как-то в метельный день, при круто спавшем морозе – чуть ли не до оттепели, Костька с Вовкой встретили на вокзальной площади группу фельдфебелей. Все одинаковые – молодые, с одним рубчатым кубиком на погоне, каждый с чемоданом и новым ранцем, – немцы обрадованно погрузили вещи на салазки.
– Я, я, флюгплац! Флюгплац!.. Аэродром! – подтвердили они вразнобой, когда, уловив это слово в их объяснениях, Вовка повторил его.
– Ничего себе!.. – тихо бросил он Костьке, увязывая груз. – Успеем, а?..
Костька как-то неуверенно выдернул из-под полозьев лямку.
– Мы быстро, – бодрясь, но тоже не очень твердо сказал Вовка и обернулся к ближнему фельдфебелю – Пан, это далеко, это за Ботанику, за город…
Немец пожал плечами, очевидно, ничего не понял.
– Надо шнель, а то нас заберут, когда назад пойдем… Понимаете? Ферштейн?
– Шнель, шнель, ихь ферштейн, – фельдфебель, кажется, сообразил, о чем идет речь, и закивал – Я, я…
– Зибен километров, – показал Вовка на пальцах.
– Зибен километер?! – Немец поглядел на его руки и, покачав головой, сказал что-то своим спутникам. Те пригасили улыбки, обменялись отрывистыми восклицаниями.
Все они – впрочем, как и остальные, те, кому подвозили до них, – вели себя непонятно: стояли, распахнув шинели, курили, но никто не помогал укладывать и крепить свои же манатки.
…Снег сыпал второй день, у них в Городке его было навалено чуть не по колено. По главным улицам трактор таскал сколоченный из толстых бревен утюг снегоочистителя, раздвигавшего сугробы по сторонам проезжей части. На расчищенных полосах дорога была плотной и скользкой, по ней ребята и тащили санки. Немцы шли следом, они несколько раз останавливались и отряхивали густо запорошенные шинели и шапки с козырьками, потом опять поджимали умаявшихся извозчиков. Вовка, когда совсем оттянуло руки, перекинул петлю через шею и под мышки и тащил салазки как запряженный, так до войны по очереди волочили саночную сцепку, возвращаясь с горки, Костька подталкивал сзади. Его делом было удерживать воз, чтобы не опрокинулся, и помогать Вовке, особенно когда попадались сугробы. Тут приходилось упирать во всю силу, потому что салазки не катились на полозьях, а скребли по снегу брюхом.
На первых порах Вовка оборачивался, бросал шуточки по поводу удачного рейса, но за трамвайным парком кончились полосы расчистки, и тащить поклажу стало трудно. Вовка взмок; Костька глядел, как он распахнул пальто – истасканное, куцее, новое дед так и не собрался, не успел купить, тянул до осени, чтобы и в росте до конца выгадать. Потом Вовка снял шапку, хлопнул ею по коленке, отряхивая, и стал стирать с лица пот. А макушку заснежить успело – так, на забеленную, и нахлобучил дедово наследство. Все уже дедовское носил, этим и спасался. И Костька тоже вспотел, тоже сил тратил много. Даже ноги ослабли – дрожали, как отсиделые.
И немцы, конечно, не выражали особой радости, не в большое удовольствие была такая прогулка. Сначала еще бормотали что-то, оглядываясь на небо, – видно, погоду ругали, курили, пряча от мокрого снега сигареты, а когда уж и сад Ботанический сбоку остался, примолкли, шли, руки в карманах, выглядывая поверх возчиковых голов, когда же наконец покажется их флюгплац…
А какое это было место в середине лета! Только с возрастом, когда прибавило лет – уже, считай, в школу пошли, – ребята стали различать пределы огромного поля с далекими посадками по закраинам. Над полем – столь же беспредельное небо с вечно сияющим солнцем, и в вышине, на невидимой бечеве, такая же бесконечная и светлая песня жаворонка.
Отчего сердце начинало трепетать, когда ты оказывался вблизи этого простора, где и человек, как и жаворонок со своей незатейливой песней, и упорный кузнечик, без устали стрекочущий в густом разнотравье, всякая живая травинка – каждый по-своему – обретали неведомое дыхание и волю? Новые струны, дотоле чуть слышно певшие в душе, звенели в полный голос и в свободе и радости увлекали далеко-далеко, невесть куда, где все желанно и радостно.
Трава у легкого ограждения скрывала ноги, она и дальше, докуда видел глаз, росла густой и высокой, и самолеты, со свистом и ревом проносившиеся над самыми головами, опускались на ее вязкий ковер чуть ли не по самое брюхо и тут же замедляли ход. Так, по крайней мере, казалось издалека. Валька Гаврутов узнавал летчиков при посадке, махал им руками и кричал, называя по имени.
– Дядя Коля-а-а! – орал он что есть мочи, пригибаясь, с испугу, когда двухкрылая машина, шелестя винтом, скользила с воздушной горки и проносилась в нескольких метрах от проволочной загородки. Тут Валька чувствовал себя хозяином – еще бы: вместе с дядей Колей Недоманским и другими летчиками на самолетах летал его отец. Он один успевал на посадке склонить голову и кивнуть сыну и его дружкам, когда они приходили к полю и усаживались за проволокой у полосы снижения.
В секунду проносилось над головами его пучеглазое лицо, но он, конечно, ухватывал все, и каждый думал, что дядя Игорь увидел прежде всего его и даже успел мигнуть ему из-за лягушачьих кругов на глазах.
Валька называл время окончания полетов, и, прикидывая по солнцу, переговорив обо всем, чего желала воспарившая вослед за пением живых и рокотом железных птиц душа, троица подтягивалась к шлагбауму, закрывавшему вход на аэродром. Около него и ждали Валькиного отца. Он выходил вместе с другими летчиками, сразу же отдавал сыну свой летный планшет, и тот нес его через плечо. Можно было бы, конечно, и Костьке с Вовкой попросить понести – у других, хотя бы у того же дяди Коли Недоманского – веселого, шумного, – он бы без звука дал свой планшет, факт… С другой стороны, подумаешь, невидаль – планшет нести… Валька – сын, помогает отцу, и несет… А чего Недоманскому помогать, если у него у самого ручищи как кирпичищи?..
Летчики, продолжая начатый на поле или в ангаре разговор, спор о полетах, шагали широко, и ребятам, чтобы не отставать, приходилось частить, подрабатывать ногами, словно движение их по земле само по себе неожиданно убыстрялось.
…Вблизи аэродрома дорога, к счастью, оказалась тоже расчищенной, – немцы оживились, загалдели веселей. Часовой у знакомого шлагбаума, не дослушав их, махнул рукой в сторону двухэтажного дома, стоявшего в особинку вне огороженной территории, Вовка потянул салазки к нему.
Один из немцев вошел в двери и через недолгое время появился снова в паре с солдатом, тут же направившимся к увязанным вещам. Костька теребил зубами затянутый намокший узел, но вещи можно было вытянуть и не развязывая веревки, что солдат и сделал, захватив под мышки сумку, а в руки – по чемодану. Остальное забрали фельдфебели. Один за другим скрывались они за хлопавшей створкой, вот к ней шагнул последний, самый высокий, тот, с которым Вовка договаривался на вокзале.
– Пан! – глухо крикнул ему Костька – Вовка еще, кажется, не отдышался с дороги.
– Вас ист лёс? – повернулся немец.
Костька с трудом проглотил тугую слюну, мешавшую говорить и дышать, и показал на пустые салазки:
– А как же с нами?… Далеко-то как!.. И назад еще… Мы же вам везли… Вы даже не помогали… Гебен мир брот!..
– Ихь ферштейн нихьт… – Фельдфебель взялся за ручку. – Гейт, гейт раус!..
Дверь стукнула в последний раз.
Потом, среди возгласов и шума, за окном второго этажа раздался какой-то щелчок, вызвавший хорошо слышимое оживление. Это выстрелила пробка шампанского.
…До тех пор покуда снежная завесь не размыла очертаний отдалившегося дома, Костька с Вовкой молча оглядывались, останавливались, чтобы лучше рассмотреть место у дверного проема: несколько раз казалось, что из него кто-то вышел и стоит, глядя вдоль дороги, и даже поднял руку… Потом на них крикнул часовой от шлагбаума, и они, уже не оборачиваясь, поплелись к городу.
14
Литков зашел в середине дня. Вытащил что-то завернутое в тряпицу из-за пазухи, протянул, ощериваясь:
– Домой нес, а жаловаю тебе…
Ксения молчала, руки не поднимались принять подношение. Егор был возбужден.
– Ну чего ты, едрена-вошь!.. – Нетерпение и досада мигом замутили его глаза. Он ткнул завертком Ксении в грудь. – Чего ты ломаешься? Да таких, как ты, счас – только палец загни… Ты об ком думаешь? Ты какой капитал скопить собралась? – Он зацепил свободной рукой и задрал ей подол.
Ксения даже не отстранилась – как стояла посреди сеней, так и осталась стоять, пока Егор не отпустил юбку, не убрал с глаз открывшийся край рубашки. И рубашка эта, скроенная из деревенского полотна, тоже добавила свое: «Через силу надрывается, а, гляди ты, в рубашке!.. Едрена-вошь!..»
Он положил гостинец наземь, возле ее ног, раздышался.
– Ну, не будем… Чего нам делить? – сказал, заглядывая в застылое лицо.
Ксения опять промолчала, и это можно было понять как первую уступку и осознание безвыходного положения, в котором она вдруг оказалась. Егор решил не вспугивать ее дальше.
– Съехали постояльцы? – прислушался он к звукам дома.
– Съехали.
– К Трясучке перебрались…
Это был не вопрос – так, разговор про все, что есть и было, и Ксения промолчала.
– А с сыном-то что подтвердилось?
– Воспаление двухстороннее…
– А я слыхал, тиф?
– Дак и постояльцы думали, потому и съехали, – сказала Ксения, вздохнув.
– Пожалела, никак? – Литков выгнул брови.
– Пожалеешь. Они и дрова свезли.
– Возвернуться не надумают ли?
– А кто ж их знает, захотят – дак не спросят…
– Да это да, захотят – дак ничего не попишешь.
Ксения поежилась, сделала движение к двери:
– Замерзла я…
– Отогрею, вот приду вечером… – Литков, чтоб она не успела ничего ответить, шагнул к выходу и с порога кивнул на узелок – А это поджарь, подкрепися…
В тряпке было коровье легкое – свежее, рыхлое. Затворив за собою зальную дверь, Ксения долго рассматривала Егоров подарок, вздыхала, как от тяжелого горя, ловила ухом движение в запечье, снова ставшем спальней для ребят. Потом опустилась виском на руки, сложенные на столе, и без надрыва, без всхлипов заплакала.
Поднял ее Вовка, вернувшийся со станции. Ксения открыла ему, приняла из рук мешок с горстью щепок на самом дне, что удалось ему насобирать в тупиках и на маневровых ветках, где формировались товарные составы, стала собирать обед. Вовка, отогревая руки, ушел за печку, зашептался там с Костькой. Они всегда много о чем шушукались, Ксения, улавливая порой тихий перебивчивый разговор, терялась в их горячих планах и надеждах. Смешно, кажется, было слушать такие загадывания на удачу или находку или еще какую манну небесную, но и у самой в такие минуты в ногу с ребячьими сердце подхватывалось в светлых тайных ожиданиях…
А чего же ждать в жизни такой? Чего же, господи? Ни подмоги, ни защиты ни от кого, словно брошенные и забытые. Человек с работой в одиночку не прокормится, а куда же с детьми деваться? Нюрочка – вечный живчик – умеет выплыть, приспособилась солдатам стирать, что ближе к дому, – определились одни и те же, регулярно к ней носят. Нюрочка… Нюрочка все доводит до лучшего вида, потому и носят; она с девками своими, не смотри что малы, и накипятит, и нагладит, высушит в сарайке на морозе. И дух-то от белья такого, что от нового. Как баре получают, паразиты… А все же снимись часть с Городка да отойди куда, что она опять станет делать со своим хвостом? Тут, глядишь, хлеба четвертушка, сахару горсть перепадет, обмылки остаются…
Она вот сама тоже работу нашла, хоть какое-то подспорье в марках или рублях – одинаково берут: за марку – десять наших… Целыми днями не разгибает спины, моет полы и лестницы текстильмашевского клуба. Теперь там другие картины показывают, она видит иногда, когда предварительно настраивают аппарат: то хорошо выученные солдаты длинными ровными строчками шагают мимо трибун, а кругом народ, тоже большие тыщи, кричит и ликует, то тучи бомбовозов рядами гудят в небе и сеют россыпью бомбы, а внизу, на земле, как на карте, блескуче лопаются дымные пузыри… Или – во все полотно – Гитлер в фуражке, с откинутой к плечу правой рукой и с зажатой перчаткой – в левой… Гитлер то и дело опускает руку и перебрасывается коротким словом с услужливыми господами: он едва повернется, а они уж и глаза навстречу… Неужели из-за одного него, из-за одного этого человека пошло все неисчислимое горе? И война, и голод, и такая гибель всего?.. Как страшно-то, господи!
Лина вон опухла вся…
Мысль о соседке словно подстегнула к делу Ксения зашевелилась быстрей: развернула на печи старое ватное одеяло, в котором сберегала в тепле чугунок с похлебкой, позвала ребят к столу.
Костька вышел бодрей, чем обычно, не терпелось показать, что уже набрал силенок. Ночевка в поле после пустого подвоза немцам на аэродром стоила ему лиха – отозвалась тяжелой простудой с красной сыпью. Миронова бабка – знакомая старуха знахарка с Выгонки, – к которой Ксения обратилась за помощью, дала сушеной ромашки, каких-то корешков, велела поить настоями Вовка дежурил, менял на горячей Костькиной голове полотенце со льдом, подбодрял его, было такое, что тот и слова произнести не мог от жара и бессилия. Немцы, посчитав, что у больного сыпняк, перебрались к Логвиновой инженерше, Трясучке, в тот же день Ехим прислал санитара, который и опознал болезнь – не тиф, а двухстороннее воспаление легких, – и приходил еще два раза, делал уколы. Лекарь этот принес и порошков, объяснил, когда надо принимать их больному, ребята все поняли Видно, у Ехима у самого такие же вот дети дома остались, все может быть…
Худой, ослабший, Костька сел на свое место, сладкий дух разваренной ржи заставил всех притихнуть. Рожь перед варкой обжаривали до румяного вида, так она быстрее поспевала в супе, приятнее было ее жевать. Суп был редким, зерна едва покрывали дно тарелки, не тронутая мутью жижка требовала соли – густой, ядовитой, острой соли, от которой оживает язык и проясняется каждая жилка…
– Я положила соли. Все, что было, кинула, – сказала Ксения, делая вид, что ясно ощущает ее во рту. – А сейчас пойду на базар – у меня имеется, что обменять, соль там всегда есть. Ужин у нас сегодня будет на все сто.
Костька поглядел на нее: «На все сто», – была отцовская поговорка, он всегда вспоминал ее в хорошем настроении.
Ксения растолкла в ступке отцеженное зерно для дочери, снова разбавила его отваром и в том же чугунке укрыла одеялом на печке, наказав ребятам покормить Лену, когда та проснется, заспешила на базар. Понесла она туда единственное, что имела, – часть легкого, отрезанную от Егорова куска. Она словно отчаялась – решила в самом деле приготовить детям богатый ужин, сжечь последний запас щепок, пожарить посоленного ливера. О позднем вечере, о завтрашнем дне – никак не хотелось думать…
Сердце у нее выстукало всю грудину – каждый шорох казался царапаньем в дверь. Но снаружи было тихо, во всю ночь не было налетов, не тарахтели угорело зенитки, не рвались вдалеке бомбы.
Мальчишки угомонились за печкой, дочь сыто посапывала в качалке. Чего только не лезло в голову, отгоняя сон!.. И как Николай ее прибежал с поездки в родильный дом и долез по водосточной трубе до второго этажа к ее палате и всех перепугал. Она тоже грозила ему кулаком и говорила сердитые слова, но дочку все же поднесла, повернула лицом к стеклу. «Девка?»– спросил он губами, и кружок пальцами показал, дуралей, всех в палате рассмешил. «Чего хотел, то и получил…» И как они с ним же, Николаем, в единственный летний отпуск качали мед в деревне с Иваном и Дусей, а вечером, подвыпившие и веселые, отправились на отчую усадьбу вспоминать свою молодость и неопытность. И там мужики – надо же такое! – чуть не разодрались с новым хозяином из-за того, что он скамейку возле дома снес, на которой они в парнях и девках посиделки устраивали. Особенно горячился Николай: «Ты нам всю память истребил», – сказал в конце концов заместо драки. Потом на погост пошли родителей проведать. Рано они все же померли, могли бы пожить… А может, и к лучшему: чего бы хорошего сейчас увидели? Только бы кровь последнюю потеряли…
Воспоминания распадались на лоскутки, невесомые, неясные, подходило забытье. Вот истаяли и последние ниточки сознания, что-то разверзлось впереди, душа прянула в сладостную пустоту…
Шорох под окном будто обрызгал холодной водой, Ксения откинула одеяло и замерла: не патруль ли? Нет, шаги были другие – осторожнее и мягче. Короткий стук в зальное, самое близкое к ней окно заставил вскочить и выбежать на цыпочках в коридор, холод мгновенно охватил ноги. По привычке сохранять в доме тепло она безотчетно притиснула внутреннюю дверь, скрип ее отозвался беспокойным переступом на крыльце.







