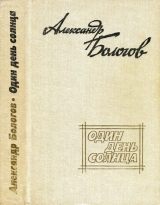
Текст книги "Один день солнца (сборник)"
Автор книги: Александр Бологов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц)
Солнце в последние дни быстро набирало силу, но крепкие морозы всей зимы прошли глубоко, донник стойко держал наружную влагу, распутица обещала быть долгой. Однако уже шевелились люди по деревням, слышно было копошение на задворках – старики да бабы прикидывали, когда и с чего начинать работу на усадьбах.
Дуся с дочками тоже возилась у хлева. Увидела золовку с сыном, бросила вилы, пошла навстречу, обтирая друг о дружку ноги на ходу. Девчонки остались возле корыта, с лямками на прибитых, на манер носилок, ручках, стояли, смотрели на гостей. Потом и они подошли, скинули грязную обувь у порога.
За столом, угощая тем, что было в печи, Дуся поведала о своем житье, послушала вести, принесенные мужниной сестрой. Несколько раз утерла подолом глаза и нос, когда Ксения рассказала о Лине и ее сиротах, покивала одобрительно, слушая про старую инженершу…
– Да, да, Ксюша, все правильно говоришь, – соглашалась со всем ее пониманием жизни, – все правильно. Одна беда идеть – другую ведеть…
Дуся заметно сдала против зимней поры: и голосом осела, и лицом похужела, – Ксения сразу увидала это, как только та приблизилась во дворе. Не в пример зимнему был и обед – кулеш пшенный жиденький на воде и каждому по огурцу соленому, на счет.
– Хлеба не пекла, – сказала Дуся, извиняясь. – Есть мучицы немного, да берегу, за Клавдей Кругловой две ковриги, шешнадцать фунтов с походом, должна отдать.
– Да что ты, и так сытые, – поблагодарила Ксения.
Дедово место у святого угла – как пустое окно: никого нет за ним, а все зовет оглянуться.
О нем разговор был с самого начала, как только в хату вошли и Ксения по обычаю спросила про общее здоровье. Как говорится: не ищи беды, беда сама тебя сыщет. Так и тут. Не успела поинтересоваться, как Дуся рассказала об их несчастье, о том, что не повезло свекру, как бил его на крещенье полицай Пашка Егоров с дружками из Утечи, когда на двух санях заявился в Укромы из волостной управы. Донес кто-то, что дед Кирилл крест со звездами поставил на луневскую могилу в лесу, Пашка и приехал суд учинять.
– Он на другое дело собрался, а тут – попутно, – поглядела отчего-то Дуся на окна. – Он уже шишка там, – вскинула она голову, – не раз отличался.
– Пашка? Егоров?
– Да-а…
– Дружком близким еще считался.
– Ближняя собака скорей укусит. Он и Князева Ми-хал Егорыча выследил…
– Михал Егорыча? Да что ты?! – Ксения зажала рот, будто сама говорит что не надо.
– Да-а. Это еще до нашего деда. Он к леснику приходил, оказывается, а все считали, что отступил, вакуировался. У лесника его Пашка и застукал. Вернее сказать, как застукал, живого-то не взял, Михал Егорыч себя гранатой взорвал и дружка первого Пашкинова за собой тоже… Ага… Ну, Егоров и почертил, поквитался за свою промашку. И дом спалил, и людей с ним, кто все там были…
– Погоди, Дуся, какого лесника? Не Ряднова ли?
– Ну да, его. На Думчинском участке его дом стоял, он сам его рубил.
– Дак у него ж семья большая была…
– А вот всю и порешил, а кто в окна лез, он из ружья стрелял.
– Господи ты, боже мой!.. Иро-од!..
– Ой, Ксюша милая, не верил никто… Сперва еще был ничего, только девкам проходу не давал, а с зимы – ну как зверь стал. Пришить хвост – так настоящий пес. – Дуся поймала Ксеньин взгляд и понизила голос – Видно, поперли их где-нибудь, поперли…
– Немцев?
– Да… Хозяев его нонешних…
Дуся вернулась к своей беде:
– А свекру он чуть глаз не выбил, собака, проволокой скрученной хлестанул. Кровь потекла, думали, с глазу, но цел остался, только закраснелся весь. «Ты что, – говорит, – звезды на кресте божьем ставить удумал? Забыл, какая власть ноне?»– «Да это у меня старый крест-то, – дед ему. – Я и твоему родителю такой ставил». – Она всплеснула руками – Представляешь, чего сказал? Про отца-то? Каково ему было перед дружками-то слушать?
Ксения закивала:
– Да, да… Я тоже его знала, отца-то.
– Дак, а как же, объездчиком в лесничестве служил.
– Ну да.
Дуся вдруг умолкла, потом перевела дух и спокойней добавила:
– Чего, в общем, говорить, и проволокой этой стебал, и ногами пинал, когда дед завалился с глазом. Хорошо в полушубке был, печенки хотя не отбили.
– Ах, иро-од! Ах, холуй продажный!.. Убить бы мог…
– Убить не убить, а калекой бы сделал.
– И никому не пожалишься…
– Староста хоть у нас хороший – Круглова Зиновия отец, Семен Пантелеич. Он и заступился: мастер, говорит, у нас единственный, и на бороны, и на кресты, а вы его прибьете… Он по церквам работает, и сам крещеный, крест на себе носит. И могильный крест у него, говорит, в кузне старый валялся, еще советского время заказу – а ему что прикажешь делать: он мастер, его просют, он и делает… Поизмывались, поизмывались – отпустили. К шоссе подались, по другому делу какому-то…
– А счас-то где дед Кирилл? Отошел хоть? А глаз-то как?
– Работаеть, куеть. Лежал недели три, отогревал битые места, на глазу примочку держал. Ванюшка, говорить, – это мой-то – придеть, возьметь должок, посчитается. А отлежался – так и ушел. Теперь далёко где-то. Два раза от него и была весть: раз муки с полмешка привезли люди незнакомые, а второй – пшена и меду… Ага, фунтов пять…
– Да что ты?
– Ага. Куеть, работаеть где-то. А сюда, видишь, и ногой не появляется.
– А про Ивана-то ничего не слыхать?
– Да откуда, Ксюша? С той стороны как же будет что? Не-ет…
– Про наших тоже ничего… Как уехали в последний раз, так – как в воду…
Уже сидя за столом, в конце обеда, продолжая делиться с невесткой своими заботами, Ксения сказала, что и ей до зарезу нужен мед для больной инженерши, с которой она подружилась и которой хочет помочь за ее душевность и отзывчивость, что для этого она и принесла из города дорогую посуду и материю. Дуся согласилась сходить с нею в Утечу и дальше, в соседние деревни, где некоторые хозяева держали пчел до сих пор.
Едва дождавшись их ухода, Костька спросил сестер, цела ли колхозная кузня, в которой они с Вовкой и дедом были в их последний приход, и, получив утвердительный ответ, решил, пока нет матерей, сходить туда.
– Ты ведь ему крест-то нарисовал? – сказала Лиза, наблюдая, как он, сняв с припечка размокшие опорки, стал натягивать их поверх невысохших портянок.
– Какой? – Портянка сбилась, Костька постучал ногой об пол.
– Тот, что он для Никиты Лунева делал?
– Я. Он сам попросил. А что?
– Просто так. Ты ведь и звездочки нарисовал?..
– Ну и что?
– Ничего.
– Лиз! – Прибиравшая на столе Таня повернулась к сестре. – Чего ты пристала? Делать нечего? Иди делай, чего мамка велела.
Лиза, не мигая, посмотрела на сестру, потом перевела взгляд на Костьку – он уже справился с обувью – и, усмехнувшись, неторопливо вышла в сени.
В кузне было сыро, остро пахло ржавчиной и гнилью. Бой наковальни покрылся шершавым рыжим налетом; рядом со стулом досыхала устоявшаяся лужа – над нею на прогибе крыши чернели мокрые доски. На этой, теневой части кровли снег лежал долго, утренняя капель оживала после каждого ночного заморозка.
Костька обошел горн, покопался в мусоре в углу, где раньше валялись куски металла и проволоки, поискал инструмент. Несколько втоптанных в землю коротких прутков он обнаружил, инструмента в кузнице не было никакого. Гнутым стержнем разворошил слипшийся шлак и золу в горне, очистил фурму, взялся рукой за мехи. Рычаг подался неожиданно легко, Костька не сразу понял, что мехи порваны и воздух к горну не идет. Он еще раз качнул тягу к прислушался, но услышал не дутье, а шаги за стенкой и замер.
В дверь просунулась голова Тани:
– Это я.
– А я думал: кто это? – Костька передернул плечами.
– А чего, нельзя? – Таня прошла к горну и тоже взялась за рычаг. – Я тоже дедушке качала.
– Он не работает, – махнул Костька рукой.
Таня вернулась к дверям и спокойно поглядела в щель между створками, словно хотела убедиться, что за нею никто не следил и не шел следом, и Костька вдруг ощутил в душе какой-то странный толчок. Он почувствовал себя так, как если бы это он сам – ее, Таниными, глазами – посмотрел на дорогу и, очень желая увидеть ее чистой, впрямь не обнаружил на ней никого. Он даже бросил какой-то готовый, внутри души родившийся вопрос:
– Никого?
– Никого… – ответила Таня, не отходя от дверей, но уже не всматриваясь в тихую пустоту деревенской улицы, а бесцельно уставя взгляд на какое-то оранжевое пятно, расплывшееся по ближней створке, у самого лица. Наконец она повернулась и, подняв подбородок, неожиданно покраснев, стала глядеть на Костьку.
– Ты что? – спросил он, сбиваясь с голоса.
– Н-ничего…
– А Лизка?
– Что Лизка?
– Она скажет, что мы ушли двое…
– Она не знает, что я сюда пошла, я свернула к Шабаевым, а потом пошла их двором.
Костька не знал, что делать. Он уже в прошлый раз, когда приходили зимой, чувствовал какую-то непонятную стеснительность, если случалось заговаривать или тем более оказываться рядом с Таней, красивой и – в отличие от Лизы – серьезной и немногословной. В этот приход странное знакомое состояние завладело им опять, едва он увидел ее на дворе, и, смертельно уставший, нашел откуда-то силы кивнуть ей и встревоженно улыбнуться. Лиза подумала, что это он ей качнул головой, и помахала рукой, дескать, сейчас придем, но Таня-то чувствовала, на ком остановил он свой растерянный взгляд.
Она тоже не знала, что делать и что говорить, потому что никогда раньше не думала о том, что может вот такое произойти: они с братом – в общем-то дальним, троюродным, одно название братом – смогут оказаться наедине и надо будет искать какие-то особые, отвечающие случаю слова и делать что-то совершенно незнакомое и необыкновенное. Нет, не то: слова и все, что они делают, остались теми же самыми, что были или могли быть, но у них совершенно изменилось значение…
Он решил, что должен начинать разговор первым, и сказал то, что было сказать легче всего:
– Были бы спички…
– Горно зажечь? Замерз?
– Дутье все равно не работает и угля нет, но все равно – хотя бы зажечь, как дедушка: сложить щепки, и – одной спичкой…
– Спичек нету, мы кресалом растапливаем, – дедушка нам труты скрутил, камней насобирал, оставил. Я тоже уже могу кресалом…
– Вот так? – Костька подышал на свои руки и вскользь ударил ладонью по пальцам.
– Ага… – Таня сняла варежки и, сунув их за пазуху, протянула руки – Ну-ка дай… руки свои…
Ее ладони были влажными и горячими, Костьке стало не по себе, когда она вдруг приблизила его ледяные худые пальцы к лицу и, коснувшись губами, стала дышать на них и согревать теплым паром.
– Н-не укуси… – не думая, о чем говорит, произнес он, дрожа, смущаясь все больше и слегка сопротивляясь ее захвату.
– Укушу… – Она и самом деле прикусила острыми зубами кончики пальцев и так держала некоторое время, обдувая жарким дыханием.
Надо было говорить, когда разговариваешь, можно делать все, что хочешь, и не будет непонятно и стыдно, но слова почему-то оставили их обоих. Костька вообще, кажется, забыл их все и тщетно силился вспомнить хоть какое-то, хоть одно-единственное, которое можно произнести и не покраснеть еще больше. А Таня повторяла, словно держалась за соломинку:
– Какие холодные-то…. Какие холодные-то…
Но потом опять произошло что-то непонятное: к нему неожиданно вернулся слух, а к ней речь, какую он понимал. Это случилось, когда у него кончилась сила терпеть невозможную боль – ее губы у своих пальцев, и он снова завладел ими.
– Ты рисуешь сейчас какие-нибудь рисунки? – услышал он из-за спины и снова повернулся к ней. Он не знал, куда деть руки, худые мокрые рукавицы остались в избе. Прежде чем опустить их в карманы, подышал в кулаки, а Таня достала из-за пазухи свои варежки.
– Надевай, мне тепло, сам видишь…
Да, ей было тепло, он сам подумал об этом, вспомнив, что пережил минуту назад. Варежки – из грубой коричневой пряжи – еще хранили тепло ее рук.
– Рисую, но очень мало, бумаги нет совсем.
– А людей умеешь?
– Рисую.
– Как?
– Ну, смотришь и рисуешь.
– А… меня нарисуешь? – Таня хотела сказать: себя – для меня, на память нарисуешь? – но не смогла этого сделать.
– Я же говорю, бумаги нет. Я уже из книжек все чистые листы первые выдрал.
Нет, оно никуда не уходило, это таинственное – сладкое и тревожное – чувство: стоило им встретиться глазами, и оба словно оказывались на концах одной натянутой струны, звон которой одинаково отдавался в перепуганных сердцах. Но они сопротивлялись этой струне.
– Когда будет, попробую…
– А по памяти сможешь?
– Нет… Нет, не смогу… Как же – не видя? Запомнить ведь невозможно – глаз, нос… Рот…
– Я понимаю… А по фотокарточке?
– По ней легче, даже совсем легко. Провести квадраты – и все. Самый простой способ.
– Я тебе дам карточку, хорошо? Только не потеряй. Нам летом всем сделали, только там лицо очень маленькое. – Таня говорила о фотокарточке выпускников Утечинской четырехлетки, на которой она – в новом полосатом платье, с выброшенной на грудь косой – получилась, как честно признавали все ее подруги, самой нарядной и красивой…
Вернувшись с речки, где, с трудом и опаской отыскав прочное место у закраины разводья, она успела-таки выполоскать стирку в еще чистой воде, Ксения зашла в сарай развесить ее и увидела в углу чужой узел.
В хорошую серую скатерть с бахромой были завернуты ношеное женское полупальто с меховым воротником, внутри него в тряпке – круглая буханка хлеба и крепкие, на красной байке, боты. «Ребята…»– подумала вгорячах, но тут же опомнилась и выскочила наружу. Вот – она видела, да не догадалась: у входа четко отпечатан след литой Егоровой галошины – он до сих пор не снимает катанок…
Ксения, положив узел на место и то и дело оглядываясь на него, кое-как развесила белье; не зная, что придумать, снова несколько раз распустила и опять стянула плетеные концы салфетки и с тревогой в сердце, оставив вещи на месте, ушла в дом. Ребята на речке помогали ей уложить стирку на коромысло и остались смотреть, как начинает ломаться лед, Она подумала, не сходить ли ей за ними, и после некоторого колебания начала быстро одеваться. Запирая дверь, долго возилась с замком и, повинуясь смутному чувству, снова завернула в сарай – посмотреть чужие вещи. И тут же охнула, увидев притаившегося сбоку от входа Егора Литкова.
– Егор?!
– Я…
– Как ты здесь?..
– Как же и ты: взошел… Как еще?
– Ты смотрел… Ты смотре-ел за мной…
Сильно потянув ноздрями воздух, Егор, не отвечая, прикрыл плотнее дверь и прикрутил за ручку проволокой.
Рыжая прядь выбилась из-под картуза, его он, перестав возиться с запором, снял и, не найдя сразу, куда повесить, кинул наземь, к стенке, сбросил и плотную, на подкладе, тужурку. Только валенки не сменил он еще с холодного сезона, Ксения глядела на них и пыталась собраться с силой.
– Ты чего делаешь? Ты чего делаешь, как у себя? – Она хотела сказать погромче, но не услышала в своем голосе крепости. – Ты зачем закрутил?
Господи, что это она говорит? Ксения продолжала наблюдать за Литковым и смятенно искала в памяти слова, которые могли бы ей помочь. Но слова были несмелые и какие-то безжизненные, – Егор на них не отзывался и даже, кажется, не слышал. Он разглядел на досках гвоздь и зацепил за него тужурку, за картузом не нагнулся, вытер потные руки о рубаху на груди. Ксения отступила:
– Не подходи!..
Литков шагнул не к ней, а к узлу с вещами, быстро, рывками, будто его подгоняли, раскинул скатертную бахрому и развернул блеснувшее шкуркой воротника пальто:
– Вот…
Потом отставил боты и сверху положил хлеб:
– Вот…
Дрожь в руках и ногах немного унялась, Ксения молча смотрела, как Егор, ползая на коленках, старается не показать свое нетерпение и какую-то неуверенность – она почувствовала ее в отрывистых словах, которые он произносил после каждого короткого вдоха. В этой неуверенности мерцала искорка спасения.
Литков, не вставая с колен, выпрямился, тут же сел, горбатясь, на краешек подстилки и сглотнул:
– Сядь рядом…
– Не начинай сначала, Егор… Бесполезное дело у нас будет.
– Погоди! Ты сядь… – Он подвинулся еще, чтоб своим движением побудить ее тронуться с места. – Давай поговорим.
– Я знаю твой разговор.
– Ничего ты не знаешь. Ты опустись, присядь… Пальцем не дотронусь, пра говорю, вот еще отворочусь, чтоб не думала. – Он ерзанул на месте.
– Я отсюда, все слышу.
– Твою мать… какая ты!.. – Егор, стиснув зубы, замотал головой, но тут же взял себя в руки – Клянуся тебе!.. Рази я затем пришел? Окромя тебя, что, никого нету на свете? Бабы куда ли делись? Никуда, я те говорю… Счас за это, – он кивнул на хлеб, – любая сама придет, и все что хочешь…
– Да, да… – Ксения, теребя пуговицу на груди, согласно опустила голову и вдруг села, опершись на руку, подогнув набок ноги. Бедром она прищемила самый маленький уголок короткого пальто, и Литков подался еще дальше на край, освобождая ей почти все место.
– Это тебе… Как раз, думаю, подойдет, – сказал он чуть потвердевшим голосом, его укрепила повернувшаяся, как он понял, в его сторону обстановка.
– Не выдумывай, Егор. Как можно это все делать?.. Это не мое, и не надо мне, и я тебя прошу: мы спокойно поговорим и давай спокойно разойдемся… Я тебе все верну: и за ливер, и за хлеб… Этот не возьму, нет, не могу я… А за то за все рассчитаюсь и спасибо скажу…
Ксения старалась не задеть в себе и не поддаться злости и чувству отвращения к Литкову, которого всегда считала мелким бесстыжим пустозвоном и пьяницей, не имевшим ничего за душой и не пользовавшимся ни малейшим доверием и уважением со стороны. Конечно, он сейчас изменился, будто бы чем обмыли, но это его обмывание словно дало всплыть чему-то еще более дурному и страшному. Тень колебания вызвал в ней только его отчаянный, не похоже на него, несмелый или же нерешительный голос, она поняла его так, что и вправду всерьез приглянулась ему. Это ее и успокоило, и позволило примоститься на полу, чтобы договорить и окончательно дать понять безотвязному ухажеру, что ее натура просто не имеет потребных ему возможностей, что она никогда не будет в силах переступить через самое себя.
Она развернулась, обхватила руками ноги и будто убрала шторку с огня, ничуть ни на секунду не угасавшего в груди Егора. Этот огонь уже высушил ему горло и бегал змеей по ребрам, подбираясь к последнему запасу терпения и здравомыслия. Он видел, как шевелятся равнодушные губы Ксении, но почти не слышал слов, думая о том, что никогда еще ни одна баба не сидела перед ним вот так мягко и складно – и тогда, когда минуту назад опустилась на руку, чуть перевившись в поясе, и вот сейчас, закрыв подбородком колени и обхватив снизу, прижимая подол, сильные ноги… В нем вроде бы боролись два чувства: одно далекое, неясное, навеваемое словами Ксении, зовущее его к испытанию и выдержке, другое очевидное, желанное как воздух, тяжелое и торопливое. Эти чувства были несоразмерны: вот уже слова совсем отдалились, перестали пробиваться сквозь тяжелые волны иной силы – темной и властной…
– Егор, ты что?! – Ксения обернулась на хриплый стон Литкова и тут же хотела вскочить на ноги, но не успела даже выпрямить их: с размаху, подламывая руки, он навалился на нее и стал терзать одежду.
Она отбивалась молча, понимая, что ни мольбой, ни угрозами – да и чем она могла грозить? – его не остановишь. Потом все-таки не стерпела, выдохнула несколько всхлипов:
– Стервец!.. Ой!.. Ничего не добьешься… Умру лучше, умру!.. Господи!..
Почувствовав, что изнемогает, она задышала в налитую тупой решительностью потную шею:
– Ну, пос-стой!.. Ну, ладно… Но только не счас… Счас ребята придут… А ключа у них нет… Пойдут сюда… Ну, сам посуди! – Она замерла. – Егор, миленький, не счас!..
Какое-то сомнение отозвалось в остервенелом движении Егоровых рук: судорожно дрогнув в последний раз, они остановились. Быстрое сердце тяжело било сверху, ему отчаянно отвечало Ксеньино. Ксения напрягла слух, забиваемый гулкими ударами в висках, услышала быстрое шарканье ног…
– Ангелочки мои, хранители!.. – неслышно прошевелила она губами.
Шорох шагов и голоса заставили Литкова выпрямить в упоре локти, он прислушался, скверно выругался и, опять расслабившись, уткнулся ей ртом в мочку уха и прохрипел:
– Ты мне… завтра же… д-должок вернешь… Тут же вот… твою мать!..
Ребята видели, как он, не особо хоронясь, выходил из сарая, как говорил что-то матери злыми губами и указывал на дверь, а она еле заметно кивала, стараясь заслонить его от их взглядов. Однако ни Костька, ни тем более Вовка ни о чем не спросили ее, и ей пришлось заговорить первой.
– Литков принес, в долг дает… – положила она буханку на стол.
– А отдавать будем? – Это справился Костька, и она сразу стала искать в его тоне скрытую догадку: может, этот гостинец без отдачи? И поторопилась ответить:
– Ну, а как ты думал? Спрашивает…
– Чем?
Ах, поганец! Ксения задержала руку, готовую тронуть саднящее колено, сбитое во время борьбы с Егором, и запереживала, что не успела поглядеться в зеркало: и на лице могли быть царапины. Как это он может спрашивать – чем? Чем брато, тем и возвернется. А чем же еще? Как он может это понимать, сопляк! Молоко еще на губах… О чем они тут, поганцы, болтали, пока она приходила в себя и расходилась с Литковым, что еще удумали, дурачье?..
Мучаясь от унижения и позора, Ксения в душе корила детей, но вместе с тем искала у них участия и оправдания своей незаслуженной вины. Она отрезала им по скибке хлеба – воду в кружках они приготовили себе сами – и ушла в зал кормить дочку.
Лена сидела в качалке среди старых игрушек, а увидев мать, сразу обиженно захныкала и выпрямилась на четвереньки. Ее мягкий, но требовательный рот захватил грудь, Ксения напряглась. Она склонилась над чистым, уже обретшим заметную смуглость лицом дочери и почувствовала, что сейчас уронит на него слезы, – они закапают с похолодевших век и разобьются об это сладкое, родное до последней кровиночки лицо – как о собственное сердце, вынутое из нее и оказавшееся в ее теряющих силу руках…
Но слезы задержались, взгляд остановился на груди, в которую вцепилась кукольная рука с расходящимися пальцами… На белой, почти не знавшей открытого света коже виднелся небольшой кровоподтек. Ксения вспомнила, что хотела поглядеть на себя в зеркало, и обернулась к нему, висевшему над возвращенным на место комодом, но вставать не стала, решила сделать это после кормления.
Тронула синяк пальцами, слегка потерла… Веки опять ощутили прохладное дуновение: загустели, запросились на волю слезы…
…Давно ли было: вот так же дрожали ее пальцы на груди, когда после их первой ночи с Николаем, дождавшись его ухода, она выгнулась перед зеркалом, чтобы смело оглядеть себя такую, какой стала, и в крайнем изумлении обнаружила на ней следы его целований – многие, пугающие… Отвечать на его неистовство или хотя бы терпеть его в первые минуты соединения казалось ей стыдным, она не чувствовала в себе той страсти, которая виделась за каждым его словом и жестом, но она терпела и, как могла, отвечала его ласкам, считая, что так и нужно делать, если она стала его женой. И не сразу проснулось в ней это ощущение мучительной радости, к которому Николай, неожиданно приведя однажды, влек и влек ее в минуты любовного полета, как к единственному и последнему глотку безумного счастья.
Никакие другие губы, кроме губ мужа, не касались ее лица и тела, близость с другими была непредставляема, как непредставляемы чужие глаза на своем лице или острая боль в совершенно здоровом теле.
Конечно, она слышала о случаях такого рода, как измена, ревность и семейные разрывы, случалось, была свидетелем бессмысленных, унижающих и оскверняющих душу скандалов и полных замирений после них, но вроде как не верила в истинность этого, потому что оно было вне ее представлений о жизни.
Ее сопротивление Литкову вызывал не только возможный позор измены мужу, но и крайнее, безотчетное сопротивление души, преодолеть которое значило лишить себя самой главной жизненной основы. Однако она чувствовала и то, что он от нее теперь не отступится.
Среди ночи всех разбудил громкий стук в ставню. Ксения торопливо натянула юбку, стук повторился – такой же резкий, требовательный.
– Ауфмахен!
– Господи, облава!.. – На ходу застегивая кофту, она крикнула ребятам, чтобы снова легли, выскочила в сени и выдернула прижимной брус из гнезд, – дверь тут же распахнулась. Посвечивая фонариками, в дом протопали трое патрульных с оружием, кто-то еще остался у входа. Громко переговариваясь, немцы осветили и осмотрели зал, глухую каморку, прошли в запечье и прогладили фонарным лучом ребят, съежившихся под вытертым одеялом, светлый круг пробежал и под койкой.
– Гибтс фремден?
Ксения поняла интонацию как приказание ответить.
– Своя семья – и всё, и больше никого, – сказала она, оборачиваясь к выходу в кухню и как бы приглашая обойти все, что еще не осмотрено.
В кухне впереди идущий солдат остановился перед погребной крышкой и ковырнул ногой подъемное кольцо:
– Ауф!
– Ага, поднять… – Ксения открыла лаз.
Немец опустился на колени и всунулся головой в подпол, рука с фонарем скрылась в глубине.
– Гроссер келлер! – донеслось оттуда.
После небольшой паузы солдат поднялся и буркнул:
– Нур мойзе…
– Да, да– кивнула на всякий случай Ксения.
В комнате плакала Лена – свет фонарей и голоса разбудили ее, – немцы не обращали на нее никакого внимания. Но вот они ушли, застучали в окна соседнего дома.
Костька с Вовкой засыпали, укрывшись с головой, так легче было согреваться, для тепла же мать бросала им на ноги и какую-нибудь лишнюю одежку. Сблизив лица, было удобнее и разговаривать. Часов в их распоряжении не было – Нюрочкины ходики, с прибавленным весом на гирьке, тикали в материнской комнате, не было и света, и никому не было известно, когда они, сморенные долгими разговорами, забывались в хрупких снах, уносящих в золотое прошлое…
…Безбилетное сидение в ногах у зрителей первого ряда на киноплощадке и радостные всхлипы в самых острых, до последнего слова знакомых местах картины; отчаянный визг девчонок при ловко подстроенных завалах санок на Сергиевской горке; тревожный восторг в первую минуту власти над вечно пугающей водой, когда вдруг почувствовал, что дно реки ушло из-под ног, но какая-то скрытая в тебе, до этих пор неведомая сила, одолевая страх и неверие, держит и даже движет тебя, послушная твоей собственной воле; общее натирание «под негров» камышовым илом и недолгое, до высыхания стягивающей корки, лежание на мелком, смешанном с пылью песке, а затем – по команде самого нетерпеливого, под дикие крики и брызги разбега – ныряние в освежающее лоно реки…
Все это и многое, многое еще, что мерцало звездами в памяти и воскрешалось легко, как дыхание, было в прошлом. Воспоминание о нем никогда не угнетало, как это часто бывает у взрослых, и было неисчерпаемым и всегда доступным тайником далекой радости.
…Шаги и голоса группового патруля затихли в проулке, ребята перестали прислушиваться и, успокоившись, подтолкнули под бока и макушки обметанные кромки одеяла, надо было копить тепло.
– Кого ищут, ты думаешь? – спросил Костька. Шепот его заглушал все окружавшие и жившие внутри укрытия шумы и звуки.
– Кого найдут. – Вовка думал о чем-то другом, потому и ответил неопределенно.
– А знаешь, что сейчас по всему городу облавы делают?
– Ну?
– Этих ищут, кто немца в люк затолкнул…
В сточном люке у трамвайного депо немцы нашли труп своего солдата. Как всегда в таких случаях, они захватили десять оказавшихся поблизости от этого места жителей и прохожих и через два дня, после объявления по радио, расстреляли их у стены Госбанка. Глухая стена этого старого кирпичного здания, служившего казнохранилищем и до революции, выдержала не одну такую казнь.
Ходили слухи, что новое убийство солдата – дело рук партизан и подпольщиков, скрытно действующих в городе и окружающих деревнях. Их существование подтверждалось и в листовках, обнаруженных в некотором количестве на улицах, во дворах домов и даже на крышах: они, очевидно, были сброшены с самолета.
Костька с Вовкой не видели расстрела, о нем рассказал Ленчик Стебаков, обежавший всех знакомых по школе ребят и сообщивший, что среди убитых на площади заложников была и Марина Васильевна, воспитательница Городковского детсада. Мать и тут поплакала, порассуждала сквозь слезы, кто из детей и с кем мог остаться у Марины Васильевны.
– …Не найдут. – Вовка даже потряс натуго укрытой головой.
– Почему думаешь?
– А ты почему думаешь, что найдут?
– Я говорю: могут. По следам могут. Собаку пустят, это в сто раз легче. Потом допрашивать начнут…
– Кого? По каким следам? Что думаешь, они дураки – те, что немца под люк скинули? Если даже кого и поймают, про остальных не скажет.
– Да?
– Ни за что… У них клятва.
– Кровью?
– Конечно. До последней капли. На смерть.
Костька напряг коленки, в которых грел, сжимая, руки, сказал, глотая слюну:
– Я бы тоже ни за что не сказал, н-ни за что.
– Я бы сразу как-нибудь убился, чтоб не пытали. – Вовка так коротко и резко шмыгнул носом, что Костька и спрашивать его больше ни о чем не стал.
Как это делалось и до войны, лед у железнодорожного и городского мостов был взорван за несколько дней до начала подвижки. Однако, в отличие от прошлых лет, взрывы прозвучали не очень слышно и не вызвали того волнения и радостного беспокойства, которое всегда пробуждали у ребят, с каждым днем все гуще скапливавшихся у набережных парапетов и оживавших сходах к воде.
Зрелище ледокола вблизи Рабочего Городка было особенно сильным: старый монастырь в свое время прилепился к городу на скалистом выступе крутого берега реки, розово-красные кирпичные стены с ее стороны шли частью по границе слоистых известняковых обрывов. Берег со временем размывался дождевыми ручьями, сбегавшими к реке, осыпались и утаптывались спуски к ней, по которым обитатели соседней округи ходили за водой для стирки.
В большие разливы ближние улочки низкого противоположного берега заливала полая вода. С монастырского холма было хорошо видно, как захваченные врасплох жильцы затопленных мест собирались на крышах, втаскивали на них матрасы, подушки, одежду, как они передвигались от дома к дому на низких лодках – и делали все это, как казалось, спокойно, молча. А может быть, просто оттуда не долетали голоса..
Иногда это повторялось два-три года кряду, люди бедствовали на чердаках и крышах, вылавливали из воды плавающие вещи, но спадала вода, подсыхали улицы и огороды, и они – на вид без горя и печали – снова возвращались к своей обычной жизни… Для жителей других районов все это выглядело чудным и непонятным.
Егор Литков любил ледоход. До войны, когда жилось вольней, всегда караулил его начало, в этот день обязательно напивался и слонялся, задирая зевак, по берегу, слушая шорох льдин и всплески воды при их разломах. Иногда вскакивал на какую-нибудь льдину и, пьяно отмахиваясь от тех, кто пытался его остановить, приседал, пританцовывал на ней, махая руками забеспокоившимся свидетелям его ухарства. Инстинкт самосохранения срабатывал в нем четко: едва намечалась опасность серьезного отрыва от берега, Егор – пьян не пьян – вовремя успевал прыгнуть обратно, и дело в худшем случае обходилось мокрыми ногами да подтруниванием разочарованных зевак.







