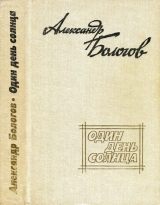
Текст книги "Один день солнца (сборник)"
Автор книги: Александр Бологов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 25 страниц)
Нет, самое красивое – вот так, как есть, когда волосы вольно падают к шее и чуть-чуть не достают до ворота. Они и сами вьются на концах, закручиваются внизу наружу, а вот когда она их еще поднакрутит, легко взобьет щеткой, чтобы дать свободу, – тут самое то, что ей надо. Она давно это знает, хотя и примеривается к другим фасонам, когда непричесанной оказывается у зеркала.
Люда приблизила лицо к самому стеклу и потерла безымянным пальцем под глазами, потом отстранилась и оглядела себя всю – общим взглядом. Представила – что она наденет, что сделает с собою, когда пойдет на свидание с Валерием: подбелит у корней волосы, аккуратно-аккуратно положит тени, накрасит ресницы… И, конечно, сделает маникюр.
Тут она вспомнила про Егоровну, вздохнула. Подумала, что обязательно расскажет об этом случае Валерию – разве не интересно? Золотые часы!.. Она передаст в лицах, как суетился этот сумасшедший северянин, как он бегал по вагонам в поисках бригадира и как Бегунов (мужик – будьте покойны!) постепенно, но верно осаживал его и приводил в чувство. Это он умеет.
Люда обеими руками оправила сзади юбку – провела туго по бедрам. Она вроде бы снова ощутила, как Бегунов твердо притиснул к ней ладонь и явственно «испытал» ее.
Все с этого начинают, подумала она спокойно, главное – как отнесешься и ответишь. Опыт у нее по этой части, несмотря на молодость, был. Только Валерий не тронул ее до самого последнего момента, пальцем не коснулся, чтоб хотя бы показать, как к ней относится. Он и этим оказался ей очень интересен. Но прежде всего, конечно, осторожностью в отношениях и вниманием. У нее совершенно не было уверенности, что он может заинтересоваться ею, хотя бы чуть-чуть, то есть не на один вечер, и захочет увидеться еще раз. Потому она и держалась с ним вначале, как с любым случайно пригласившим на танец. Но запомнила этот танец на всю жизнь, все до каждой мелочи, запомнила и его, и свои первые слова.
Сегодня они снова увидятся вечером. Только бы побыстрее кончалась эта их поездка…
10
Бегунов писал на листке, вырванном из общей тетради. Почерк у него был мелкий и не очень разборчивый, но так как все фиксируемые слова он повторял вслух, Черенков стоял спокойно. В акте все вроде бы было на месте, он получился во всю страницу. Правда, номера дома и квартиры пострадавшего Бегунов на всякий случай переставил, чего тот, конечно, не видел, даже подумать об этом не мог, ибо, перечитывая акт, бригадир назвал дом и квартиру на улице Полярных Зорь в Мурманске, где жил северянин, такими, какими они были в действительности. Черенкова не устраивало другое – слово «пропали».
– Как это пропали? – запротестовал он. – Увели их, украли, и писать надо так же.
Его широкие губы, обвисшие в ожидании, сомкнулись, скулы обтянулись и побелели.
Бегунов какое-то время помолчал, – покуда по очереди ставили подписи под актом. Подписал его и Черенков, поощряемый энергичными кивками бригадира – давай-давай, мол, потом разберемся в деталях.
– Пока нам что известно? – отозвался он наконец. – Что часов нет на месте. А вот куда они делись? Куда? Вы можете сказать сами? Или назвать кого? Вот так…
Черенков глядел потухшими глазами.
– Вот так, – понимающе повторил Бегунов.
– А зачем же мы все это пишем? А?
– Как зачем? Мы должны зарегистрировать случай. Сообщим в линейный отдел милиции, в резерв. А если вещь найдется, вас разыщут и вернут. Если, конечно, подтвердится, что ваша.
– А кто же будет искать? И когда вы собираетесь это делать?
Бегунов неопределенно развел руками, потом, словно вдруг вспомнив про нужную ниточку, потянул ее, сказал быстро:
– Еще тут не все, наверно, обыскано. В вещах смотрели? Еще пошуруйте. Да, да. Может, в туалет ходили да оставили. Все мы живые люди. – Он указал рукою на Егоровну, согнуто сидевшую ближе к двери – Вон, у нее же был случай. Одна мадама наводила в туалете красоту и кольцо с руки оставила. Как подарок тому, кто наткнется. Ну, и что вы думали? Хорошо, что проводник первым увидал и пошел по вагону узнавать – чье. А если бы кто другой? У нас ведь еще не коммунизм… Тоже – караул, обокрали?
Акт – свернутая пополам бумажка – лежал на столике. Долгий разговор ничуть не продвинул дело; наоборот, как-то разжижил его, загнал в трясину. «А как сейчас там-то, в купе? – подумал Черенков. – Может, что новое узналось? Вдруг кто обнаружил у себя?.. А что, сунул сам спьяну в чужой пиджак – все они, так же, как и его, висят в уголочках, – лежат себе часики, оттягивают кармашек… Эта шалава забила мозги – ничего, кроме ее наглой ухмылки в тамбуре, и не помнится. Куда клал, каким манером клал?..»
– Я счас, – сказал он, давая понять, что отлучается по какой-то срочной надобности, а не по причине того, что тут уже говорить не о чем. – Пойду спрошу там… – И быстро покинул служебку.
– Люд! – высунулась вслед за ним в коридор и позвала свою подменщицу Егоровна.
Та не отозвалась.
– Где ж это она? – Егоровна рада была встать и пойти на поиски ненужной ей в данную минуту Люды. Она и снялась было с места, но бригадир остановил ее.
– Погоди, – сказал он совсем иным тоном, нежели говорил до сих пор, в присутствии пассажира.
Егоровна подалась назад.
– Что же это ты так, а? – выставил свои японские зубы Бегунов.
– Чего я?
– А с этим другом. Что же ты это опять делаешь, а?
– А я-то что, господи? При чем я-то, Иван Якимыч? Рассуди сам…
Редко когда Егоровна называла Бегунова по имени-отчеству – разве что на начальстве, на людях. А так все больше безлико: бригадир, главный… Тут, понимала, надо было называть полным именем.
– Скажи мне, почему все чепе случаются только у тебя в вагоне? То у тебя шапку дорогую на ходу в окно выкинули…
– Да они же передрались, перепившие были!..
– Посто-ой! – Бегунов не шибко, но все же чувствительно, высоко вскинув ладонь, ударил по столу. – Ты скажешь еще. Скажешь… – Он нагнулся, поднял с пола слетевший со стола листок бумаги. – То фотоаппарат забыли…
Егоровна, вдохнув воздуху, открыла было рот, но Бегунов упреждающе поднял руку и продолжал:
– Да, да, да, – сами должны глядеть, сами. Никто не говорит. А почему сразу, как люди вышли, не прошла по вагону, не поглядела, что, где и как? Тут же крикнула бы вдогонку – может, владелец фотоаппарата еще на платформе был…
«Да, тебе бы его отдать, а не нести в резерв, еще похвалил бы», – мелькнуло в голове Егоровны. Ей было ясно, что Бегунов опять захлестнул ей веревку на шее, и тут уж лучше не шебуршиться – только дыхание потеряешь.
– Я ведь ничего не придумываю, – Бегунов вертел в руках авторучку, выводил на столе какие-то линии, как будто отмечал все промашки Егоровны. – Вспомни музыкантов, когда у них своровали аппаратуру? Тоже у тебя… Что же это за вагон такой у нас, скажи на милость?..
Крупное лицо Егоровны отяжелело еще больше – губы она поджала, и оттого щеки провисли заметными складками. Она решила не перечить бригадиру, все равно ты ему слово – он тебе десять, но и не принимать близко к сердцу все, что он валит на нее без разбору.
– Вон у тебя туалет дальний закрыт. Оч-чень хорошо! Опять пассажиры жалобу накатают.
– Там текет, – не выдержала Егоровна.
– А ты где была? Текет… Ты же вагон принимала!..
– Дак воду-то когда дали, господи? За минуту-полторы до отправления. Сам посуди…
– А другие как?
– Другие как. У них не текет.
– Вот именно, пока не свербит, не чешемся.
Егоровна поежилась, подвигалась на месте, ища поудобнее положение ногам, и неожиданно вздохнула.
– Я вижу, – сказала она тяжело.
– Чего ты видишь?
– Вижу, да.
– Интересно все же?..
Егоровна чуть было не вытащила на свет истинную подоплеку бригадирских нападок – его долю с безбилетников, которую она не выделяет ему, не всовывает трояки в общую тетрадку, которую Бегунов, как бы по забывчивости, оставляет на некоторое время в каждой служебке… Но какая-то сила удержала ее. Сказала она другое, что подсказывали их перекоры:
– А то, как ты валишь на меня все, что ни есть. Туалет сам должен вперед меня проверить, а ты его мне вешаешь. Шапку меховую тогда выкинули – так это у них в драке, они и себя во зле окровенили, а ты все – мне, будто я им подносила…
– Это когда я сказал, что ты им подносила?! – Бегунов свел к переносью свои льняные брови и надулся. Он умел осадить не только таких, потерявших крепость, старух, как Егоровна. – Я разве придумал что? Я что, у кого другого случаи беру?
Егоровна махнула рукой. А Бегунов, как и всегда, раз начал – бил дальше. Надо было выжимать все возможное.
– Ты не махай! Если ноги болят, пассажиры не должны страдать из-за этого. Вот так. Все шишки на бригаду – с одного места… А ты все свое…
– Что свое-то? Что ты ко мне – как банный лист, прости господи?
– Ну, Фиёнина!..
Бегунов даже руками развел – ничего, мол, не хочет понимать человек, хоть кол на голове теши.
Егоровна, собираясь встать, зашаркала ногой, укрепила ее в разбитом тапочке. Бегунов и на обувь ее обратил внимание, и от этого тоже в пору было взбелениться – ходит как нищая по плацкартному вагону!.. Но тут, слава богу, в служебку вернулась Люда.
На Бегунова повеяло духом молодого свежего тела, как от утренней речки. Лицо его переменилось, словно смыло с него серый наружный налет и открылась живая кожа. Он встал, сделал знак Люде проводить его и вышел. Уже за дверью вспомнил об акте, вернулся, взял его со столика, сказал Егоровне:
– Этот придет, – он показал листок, – скажи, что я в том конце поезда, других дел много.
– Понятно, – ответила Егоровна, не поднимая глаз, и вдруг добавила – А Люду ты не трогай, понял?!
– Чего-о? – вроде бы удивленно, непонимающе протянул Бегунов. – Чего ты сказала? – Полуобернувшись, он ждал, когда Егоровна поглядит в его сторону. Но та не меняла позы, сказала только глухо:
– Что слышал…
– А-а, – Бегунов как бы догадался, – ты об часах? Конечно, она ни при чем, она же ночью отдыхала…
Он вышел. В коридоре, подталкивая Люду к тамбуру, громко спросил у нее:
– А как у вас топка? Как уголь? Пойдем-ка поглядим…
А в тамбуре, прихлопнув дверь, сразу подступил к ней вплотную.
– Чего не заходишь? Я тебя давно ожидаю.
– Ой! – Люда, сдерживая бригадира, выставила вперед руки и коленки. – Иван Якимыч…
– Хочешь, в купейный переведу? – Бегунов крепко захватил руками ее тонкие гибкие плечи. – В пятый? А Пономареву сюда – эти старухи легко споются… Ну?
– Я не знаю…
– Заходи, поговорим. Я буду ждать, поняла?..
11
Пока Черенков отсутствовал, в купе что-то изменилось – во всяком случае он безотчетно отметил это. Постели были заправлены, утренняя суета спадала, как вода после короткого летнего дождика. И по купе будто бы тоже прошел этот освежающий дождь – в нем было светлее, чище, спокойнее. Но на душе было сумрачно. Ходила в ней мутными кругами злоба, подпирала к самому горлу – так, что, если не сглотнешь слюны, – подавишься.
«Улыбнулись часики? Ну и что? Наплюй… – шелестело что-то над ухом. – Что они тебе? Мелочь, моль, дерьмо… Тьфу! – и растереть. Сколько всего спустил, процедил сквозь пальцы, сколько еще спустишь и наживешь!..»
«Что-о?! Ни за что ни про что – собаке под хвост? – поддавало откуда-то изнутри, с взбаламученного дна. – И сиди, как оплеванный? Три к носу? Да душа с них вон, со жлобов!.. В окно зафитилить приятнее!.. Двести хрустов – собаке под хвост? И как дурак хлопай зенками на то, как эти подлюки лыбятся!..»
Мысли, пока Черенков возвращался к своему месту, перепутались окончательно. За то время, что он затратил на полтора десятка шагов до своего купе, он успел вспомнить внутренним недобрым словом и Элю, которая ожидала его у Черного моря, успел пройтись чем-то черным по своим попутчикам и проводникам, отметить соответствующую моменту поганую горечь во рту, но последний шаг к купе неожиданно получился нетрудным и плавным… Все озарила вдруг вспыхнувшая звезда надежды: сейчас он бросит мимолетный ровный взгляд на столик, а часы – там… И вокруг – тихие, всепрощающие улыбки милых, обычных, нормальных, все понимающих людей…
Однако столик был пуст.
– Ну? – спокойно спросил Черенкова Олег. – Что-нибудь выяснил?
Говорить не было охоты, да и что можно было ответить? Черенков молча повернулся к своей постели, встряхнул, собирая одеяло, простыню, снял и свернул наволочку – спать больше было некогда – и сложил постель на краю столика. Потом скрутил тюфяк и закинул его наверх, к другим тюфякам.
– Ну ты и жарил ночью! – оживляясь, сказал ему Олег – надо было в конце концов менять пластинку. – Надь, ты – ничего, пережила?
Надя, как бы отпуская соседу грехи, улыбнулась подновленными, накрашенными с утра губами и великодушно ответила:
– Ой, я спала. Так опьянела, никогда так и не было…
– А что такое? – Черенков, закончив дело с постелью, повернулся и присел на свое место за столиком.
– Храпел. – Олегу, можно сказать, было в удовольствие узнать, что есть на свете люди, храпящие ночами почище его самого. – Тарахтел как бульдозер… Честно. Я сам хотел спуститься и потрясти…
Черенков безразлично пригладил одеяло, лежавшее поверх сложенного постельного белья.
– Тебя проводница и туда, и сюда, – еле притих, – продолжал Олег, почувствовавший, что больная тема наконец отошла в сторонку. – Как тяжелораненого переваливала… А ты так же вот, вскочил: что такое? что такое?
Черенков зацепил пальцами ворсинки на одеяле и задержал дыхание. Да-да-да… Ночью он видел старую проводницу. Он проснулся, а она стоит, наклонившись над ним, и… Что она делала?.. Она трогала подушку… Трогала подушку!.. Да-да-да-да… У нее было переполоха иное лицо… Она что-то проскрипела, когда он проснулся, и сразу же намылилась, зашаркала к себе в каморку… Ах ты, стерва ты старая!.. Как же это он, черт возьми, до сих пор лопухами своими тряс! Она! Она-а-а! Ах ты, стерва ты старая!..
Подхватив постельное белье, Черенков быстро шагнул в проход и заторопился дальше – к служебному купе. Он видел, как захлопнулась за кем-то тамбурная дверь – туда вышли бригадир и Люда. Служебка была заперта, и Черенков нетерпеливо постучался. Щелкнул ключ, дверь отворилась.
– Где часы? – не разжимая зубов, проговорил Черенков. – Где мои часы?
Егоровна долго не могла попасть ногою в тапок – только что она скинула один, чтобы встать на полку и забросить наверх часть одеял. Она стояла посреди узкой служебки – тяжелая, с болезненно хмурым лицом, – и, часто мигая, глядела на едва сдерживающего злость пассажира.
– Я говорю, где мои часы? – повторил он.
– А мне откуда знать? – Егоровна развела руками – так, что и ладони вывернула, показала.
– Ночью подходила ко мне?
– Ну…
– Зачем?
– Храпел на весь вагон…
– Подушку трогала? Под нее лазила? А?
– Я?!
– Лазила, да?
– Я тебя толкала, чтоб не храпел, дал людям спать…
– А часы?
Егоровна вытаращила глаза.
– Часы с браслеткой, а? Где они? Сосед видел, как ты отгинала подушку… Счас пойдем к нему!.. Подтвердит. Счас обыщем тут все… Где бригадир?
Егоровна молча покачала головой.
– Отдай подобру, и все будет тихо… Я – никому. Нашел сам – и все… Забыл, куда клал, а теперь вспомнил… Или позову соседа, он подтвердит, что ты!.. И хана тебе – свидетели есть!..
Черенков чувствовал, что этот разговор – последняя кривая: тут может либо вынести за поворот, выкинуть к чертям собачьим, и уже, как говорится, собирать будет нечего, либо в конце концов впишешься в правильную линию, добьешься своего, и все окончательно определится…
Подуло холодом в глаза, Егоровна сморщилась и поднесла к лицу руки – под слезы. Просочились они сквозь редкие веки, побежали жгучими ниточками по морщинам. Ах, куда бы деться отсюда от всего? Помоги, господи!.. Хоть бы дал умереть – не пожалела бы, благодарила бы только за избавление…
– Ты слезу не пускай! – донесся до нее злобный отчаянный голос. – Этим не отвертишься. Да. Счас народ позову, обыскивать будем!.. Вот так… Отдавай, пока не поздно!..
Слезы были такие же соленые, как и в детстве, но еще более ядовитей – до рези. А земля, как ни молила Егоровна, не разверзалась – привычно подрагивал вагонный пол, гулко стучали на неплотных стыках колеса…
12
Нижние полки были поднятыми и держались на защелках – проветривались багажные ящики. Белье было пересчитано и сложено в большие серые мешки. Полотенца пришлось перекладывать дважды – одного не хватало.
– А, черт с ним, – сказала наконец Егоровна, – там еще раз сочтем, может, я сбиваюсь где. Не взял же кто? Кому теперь эта вафель нужна?
– Найдется кому, тетя Сим, – отозвалась Люда. – Не только часы глаза притягивают, на все зарятся… Есть такие люди – им хоть что, лишь бы никто не увидал…
– Чтоб ему провалиться, паразиту губастому! – вослед всему, что вынесла в конце поездки, бросила Егоровна. – В мужики такой попадется – уж поизгаляется, попьет кровушки, помотаешь слезы на кулаки. Жена небось во как рада счастью такому!..
– Действительно что рада.
– Ну, ладно, ничего, перетерпели, слава богу…
– Да уж, – вздохнула Люда. Потом, поглядев, как Егоровна, бегло кинув ко лбу пальцы, вроде бы осенила себя крестом, спросила:
– А вы крещеная, тетя Сим?
– А как же, – ответила Егоровна и улыбнулась. – Ой, с этим крещением…
Во время уборки они часто заводили разные разговоры – и время текло быстрее, и работа не казалась такой монотонной. Вот и тут, взмахом руки расправив тряпку, Егоровна остановилась и, то и дело смеясь и вытирая глаза, поведала Люде одну из смешных историй в своей жизни…
Однажды в ее вагоне священник ехал. Да-да. Видно, в купейный билета не сумел достать. А у нее был уже плацкартный, рижской постройки – очень хороший вагон. Господи, твоя воля! Как увидела, что – к ней, чуть не перекрестилась при всем честном народе, по старой памяти. Бога, конечно, совсем никогда не забывала, носила имя его в душе как последнюю крепость, за которую хватаешься при крайней нужде. Но чтобы особенно верить – этого не было, прости, господи, и помилуй.
И вот – священник. Спокойный, плотный, чернобородый. На него, как на чудо какое, чуть не сбегались смотреть, – а дети-то точно, удержи их попробуй. И до того был похож на отца Евстафия, который однажды у них в деревне детей крестил, что она, пообвыкнув, не выдержала, сказала ему об этом, спросила – не могут ли быть они с отцом Евстафием какие родственники, больно уж близки лицом. Могли бы, отчего же, сказал батюшка; он и случаи такие знает, когда даже кровные братья имели одинаковый сан и многое общее в жизни или же сын шел по отчим стопам, но вот отца Евстафия из ее родных мест все же не сподобился знавать. Тогда она рассказала об отце Евстафии, что помнила, – такой забавный случай был у них в деревне.
Мама была на полосе, жала рожь. В домах оставались дети и несколько слабых да убогих старух. Она бы и сама пошла в поле, любила работать серпом, особенно к вечеру, по холодку, когда спадала жара, – но надо было и дома дела делать: за курами смотреть, за сестренкой Алькой, картошку чистить к вечеру, корову ждать.
Тут и появился в деревне батюшка – пошел по дворам слух, зашевелились старухи по избам, забегала по заулкам ребятня. Крестить пришел некрещеных. Облачение с собою принес в старинной сумке раскладной, все честь по чести. Выбрал избу он побольше – деда Спирьки, был у них такой, собрал туда всех, кто был и кто хотел, и начал крестины. Те, конечно, кто до Октябрьской родился, – все были крещеные, а кто уже после, – не все.
Как помнила, стояла она в полукруге с теми, кто повзрослей, перед скамейкой, а впереди – вторая дуга, из самых малых. Помнили они с Нюркой, старшей сестрой, которая уже училась в Слабееве, что Алька у них не крещеная, – и мама, и тятя говорили, и записали ее к батюшке. А Алька тоже уже не малая была – не положишь в купель.
Отец Евстафий окунал руки в обливной, деда Спирькиной невестки, таз и гладил ими три раза по голове, а потом по лицу того, кого крестил, – как вроде умывал. И говорил при этом: три раза дуньте, три раза плюньте. И они с Нюркой и со всеми надували щеки и плевали воздухом – отгоняли нечистую силу от Альки и от других, кого крестили.
Тут еще и неуправка получилась. В книжке у батюшки не имелось такого имени – Алька, или, как полностью, – Альбина, которое тятя из города привез, и он сказал, что окрестит ее Валентиной, потому что очень похоже: Алька и Валька. Потом отец Евстафий дал всем по вкусной просвирке и сладкой водицы и сказал про это: тела Христова вкусите, источника бессмертия примите.
Ой, как они с Нюркой бежали по колкой стерне и кричали: «Мама, мы Альку окрестили, у нее крест выстригли на голове!» – «Как так? – удивилась мама, разогнув спину. – Как это окрестили? Она же у нас крещеная!..» – «А батюшка пришел…»– И мама, завершив последний суслон, вместе с другими торопливо засобиралась с поля.
А вечером по домам служили молебны. Отец Евстафий молил, чтобы на войне живые остались – кто воюет, за упокой души, за то, чтобы урожай был и хаты не сгорели. И они с Нюркой – малые все-таки были – вместе с мамой тоже клали поклоны в красном углу и крестились, крестились щепоткой, чтобы пожара не было и тятя пришел с гражданской…
Платили батюшке кто чем мог. Она помнит: яйца давали, кто маслица в тряпке, кто еще чего. А он Всех святой водой наделил, мама ее за икону поставила. После всего этого отец Евстафий в другую деревню ушел. Потом они с Нюркой попивали святую воду тайком, по глоточку, а в бутылку простой, сколько надо, добавляли. Так мама и не знала.
Священник, которого она в вагоне везла, очень вежливо все слушал, кивал, как конь, головой, улыбался из бороды красными губами. Кое-где поправлял, если она ошибалась в церковных словах или еще в чем, а под конец, когда подъехали к Риге, поднес ей носильный крестик. А уж товарки – и они приходили подивиться на попа – долго потом подначивали: жди теперь писем или посылок каких, – в рясы, дескать, тоже люди одеты…
– Правда что-нибудь написал? – Люде показалось, что Егоровна чего-то не договаривает, и она поторопилась с вопросом.
– Да что ты! С какой стати?.. – Егоровна махнула рукой и взялась за тряпку.
…Поезд уже стоял в тупике. Оставалось вымести вагон и вытащить мусор – сбросить в железные баки, что стояли у путей.
– Ну, я пойду, ага? – сказала Егоровна, закончив протирать полки. – А то там закроются. Сколько на твоих?
Люда поглядела на часы, назвала время.
– Ну вот, уже надо спешить. – Егоровна вытащила из служебки старую хозяйственную сумку с пустыми бутылками и потащила ее к выходу. – Ты пока мети, я быстренько.
– Идите-идите, я все сделаю, – успокоила ее Люда.
Егоровна понесла сдавать пустые бутылки и банки, которые собрала по вагону и уже успела вымыть. После поездки их набиралось иногда на целую ношу.
После ухода Егоровны Люда набрызгала на пол воды, смочила веник и принялась за дело. Мела быстро, напевая вполголоса любимые песенки. Это были песенки Валерия – он их пел, он их любил, полюбила их, естественно, и Люда.
К вечеру она вымоется, приведет в порядок волосы, руки и лицо, переоденется и снова увидит его. Она расскажет, как видела во сне его и какую-то незнакомую женщину и как они отражались в огромном окне или зеркале… Интересно, как он сам объяснит сон? Может, вообще ничего не ответит, чепуха – скажет…
Песни, звучавшие в вагоне, неожиданно теряли свои слова и насыщались тем, о чем радостно думалось, чего жаждала душа, – мелодии удивительно соответствовали настроению…
Боже мой, как ей было прекрасно с Валерием! В последний раз, когда они гуляли по городу, она, кажется, впервые осмыслила это свое состояние – ощущение радости, когда он просто находился рядом… Они шли по дороге и о чем-то разговаривали, и каждое слово имело для нее особый смысл. Гудки машин, звук шагов, суматошные крики птиц в кронах молодых стриженых лип – все было, казалось, выражением ее чувств…
Люда вытянула из коридорного ящика железный мусоросборник и вытряхнула его содержимое в ведро. О донышко звякнуло что-то металлическое – так, вспомнила Люда, однажды стукнула в него безопасная бритва, выкинутая каким-то ротозеем пассажиром. Отсыпав назад часть мусора, Люда рукой осторожно пошевелила в ведре остатки – бумажные стаканчики, скомканные газеты, коробку из-под тульских пряников, и под коробкой увидела часы на ярком браслете. Они сверкали огнем – в пору было зажмуриться, что Люда и сделала от радости и ужаса.
Тут же открыв глаза и убедившись, что это, как говорится, не сон, Люда схватила часы рукой – они были тяжелые и скользкие. Сердце ее в первый момент тяжело ударило в ребра, а потом, словно освободившись, зачастило, запрыгало воробьем.
Оставив мусор, Люда бросилась в голову вагона, к служебке. Она забыла, сколько времени прошло с тех пор, как Егоровна потащила тяжелую сумку в стеклотарный ларек. Наверно, немного, подумала она, еще ведь и подмести до конца не успела. Но она все-таки высунулась из вагона, посмотрела в ту сторону, куда отправилась Егоровна. Нет, той. не было видно, и она, конечно, еще не скоро появится, если даже не будет заходить в магазины…
Люда не знала, что делать… Она оставила было найденные часы в служебке и побежала выносить ведро, но, не пройдя и половины вагона, вернулась, взяла часы, сунула их за пазуху, за лифчик. Холодный металл туго впечатался в гладкую влажную кожу.
Бросив уборку, Люда хотела побежать навстречу Егоровне, перехватить ее где-нибудь по дороге, чтобы побыстрей обрадовать находкой, но вовремя спохватилась: оставлять вагон без надзора было опасно. Однако и сидеть ждать было, кажется, выше сил. А бригадир? – вспомнила она вдруг о другом причастном к пропаже человеке. У него же акт, он же и должен теперь заниматься всем этим делом… Как же она сразу об этом не подумала!..
Люда наскоро оправила на себе одежду и, спрыгнув с высоких ступенек, побежала вдоль вагонов к шестому, бригадирскому.
Бегунов что-то писал. Оторвав глаза от своей общей тетрадки, он увидел Люду и – чего с ним, можно сказать, отродясь не бывало – несколько смутился. Все дело было в Людиных глазах – широко раскрытых, сияющих и лукавых.
«Ой ли?…»– прошло холодком по спине сомнение, и Люда, заметив его в сузившихся зрачках бригадира, еще ничего не сказав, как бы осеклась…
– Я пришла… – сказала она, переводя дыхание.
Бегунов захлопнул тетрадку и жестом остановил ее.
Он надеялся, конечно, что рано или поздно Люда должна будет прийти к нему в его служебку, как бы ни ломалась на первых порах… Но чтобы она явилась после первого же намека? Этого он не ожидал…
– Хвалю, – сказал он, прикидывая, что же делать дальше. – Правда, хвалю…
– Да… – все еще тяжело дыша, произнесла Люда.
– Пойдем в купе рядом, – сказал Бегунов. – Тут, если все же кто придет… Лучше туда…
«Вот это номер!.. Вот это девка!.. – успел он подумать, пока они с Людой быстро переходили в соседнее, пассажирское купе. – Правда, что такие пацанки нынче чудеса творят…»
Люда была без чулок – всегда снимала на время уборки, чтобы не порвать, – и Бегунов по-своему расценил это.
Он повернул защелку двери и шагнул к Люде. Только тут она поняла, отчего у бригадира вдруг затуманились глаза и дрогнул голос.
– Ты что? – Люда будто вновь ощутила, как Бегунов прилип к ней твердой рукою у них в служебке.
И сам он вспомнил то же самое – ее спокойный взгляд, когда она понимающе выдержала то его прикосновение.
– А я знал, что ты придешь, – все еще не улавливая ее тона, глуховато сказал он, – только не знал, что нынче, сразу… А ты бедовая, это я давно понял…
Он прижал Люду к столику. Она защитила руками грудь, часы под лифчиком твердо надавили на кожу.
Господи, что это она подумала? Ему же наплевать на все часы и все пропажи. А сейчас что отдать, что не отдать– концы будут одни. Носили же ему не раз какие-то забытые вещи… И Егоровна говорила, и другие… А она, дура!… Он же решил, что она пришла к нему в служебку, чтобы…
– Отойди! – сказала Люда, вырываясь из его рук и не отрывая своих от груди. (Так обычно закрывают пазуху пожилые бабы, подумал Бегунов.) – Не касайся меня!
Белесые ресницы бригадира подрагивали у самого Людиного лица, его глаза находились так близко, что расплывались в желтые неясные пятна. Он пытался дотянуться до ее рта, Люда дернулась сильнее…
– Ай! – Из прокушенной губы потекла кровь – во рту стало солоно. – Ах ты, дурак! Дурак!.. Ты губу мне…
– Сама себе…
– Сама… Ах ты, дурак несчастный!..
– Ну, ну, умная… – Бегунов понял свою ошибку…
– Уйди с дороги!
Он отодвинулся.
Люда, касаясь пальцами саднящей губы, направилась к выходу. Вернувшись в свой вагон, она сразу же подошла к зеркалу. Верхняя губа припухла, лицо было некрасивое и злое. Господи, как же она пойдет к Валере, как объяснит ему это? – подумала она. Губа, может, еще больше раздуется… А часы? Она осторожно оттянула лифчик и достала их. Часы уже нагрелись. Они тикали чисто и громко. Какие все же тяжелые, подумала Люда, только на мужскую руку, такую, как… у Валерия…
Эта мысль пришла сразу, неожиданно и легко, как если бы кто-то невидимый вдруг высказал ее вслух. Люда обернулась – не на голос, его не было, она о нем и не подумала, а от какого-то смущения: не видел ли кто ее в этот момент?
Но в вагоне, кроме нее, никого не было, Егоровна еще не вернулась.
А что, вот бы действительно такие часы Валере, продолжала виться ниточка-мысль, хотя бы примерить на запястье, поглядеть, как это будет выглядеть… Все равно, куда теперь их денешь?
Как куда? Надо возвратить владельцу! – вспыхнул холодный огонек где-то в другой стороне души. Он же чуть с ума не сошел от пропажи, весь белый свет готов был перевернуть…
Люда вздрогнула, вспомнив, как распоясался к концу пути мурманчанин, с какими мерзкими словами покидал он вагон, – самыми последними, когда уже никого не оставалось и никто не мог одернуть его.
Но ведь она и хотела это сделать – передать часы бригадиру, чтобы тот отнес их в резерв и там бы занялись розысками хозяина… А как бригадир ее встретил? Дурак! Бабник проклятый. Она опять тронула губу. Он и часы не возвратил бы, тут и думать нечего. Может быть, ей самой надо было отнести их сразу в резерв?
Господи, сколько они в самом деле перетерпели с Егоровной, сколько перетерпели – давно такого не было.
Люде вдруг стало мучительно жаль себя, так жаль, что кажется, в пору было застонать от обиды, от боли. И она заплакала. Быстрые слезы покатились по щекам, залили больную губу – защипало сильнее. Слез она не сдерживала и не вытирала – дала им волю…
Когда, постепенно успокоившись и продолжив уборку, она добралась до служебки, то заперлась в ней и еще раз внимательно рассмотрела находку. Часы были совершенно новые – ни царапинки на стекле. Люда твердо решила отдать их Валерию и рассказать ему все как было. Пусть сам решает, что следует сделать дальше, – он человек справедливый. И как он скажет, так и будет…







