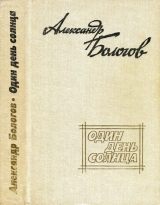
Текст книги "Один день солнца (сборник)"
Автор книги: Александр Бологов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц)
– В мост-то, никак, попало – ухнуло-то как?
– Хоть бы…
– А как потом-то строить опять?
– Построют! – Ксения сказала так, будто сама должна была давать и распоряжение на это. – Логвинов инженер, Трясучкин, опять начертит, еще лучше сделает. Мне Серафима… – Ксении не захотелось делить с Личихой новую свою близость с инженершей – называть ее, кроме имени, еще и по отчеству, и после небольшой запинки она продолжала – Трясучка рассказывала, что у него головы на десять мостов хватит, и не таких, как этот…
Что-то заставило их – обеих сразу – круто повернуть головы к подволоку, к лазу, потом и они, и дети явственно услыхали далекие частые удары в наружную дверь либо в ставню. Зенитки уже почти все замолкли, лишь дальние, в стороне Выгонки, стукали еще вдогон растаявшим в мутной выси самолетам.
Ксения откинула погребную крышку и, крикнув: «Счас! Счас… Кто еще там?..»– в удивлении, на ходу, глянула на окно. В узкие щели ставен пробивался с улицы багровый свет.
– Ксюша! Ксюша!.. – снаружи доносился перепуганный голос Нюрочки.
– Счас, господи! – Ксения откинула крючок внутренней, отвела затрясшимися руками брусок наружной двери и в ужасе попятилась: ближайший напротив, щекотихинский, дом трещал, весь охваченный буйным огнем.
Старуха Щекотихина, растрепанная, странно одетая, ошалело глядела со стороны на исчезающий на ее глазах кров и голосила, то и дело жмурилась и закрывала лицо руками. Дочка ее и малые внуки теребили бабку, оттаскивали от близкого места, где уже трудно было терпеть жару, но она упиралась и продолжала стоять на месте.
На этой стороне проулка горело несколько домов, передавших огонь по цепи. Первым вспыхнул высокий пятистенок Трясучки – позже утвердилась чья-то догадка, что хозяйка сама оказалась виноватой: дом мог заняться от ее курева, от коптилки, которую она не раз уже опрокидывала с огнем, да все пока сходило благополучно. В отпылавшем доме она и погибла.
Горящие дома, по существу, никто не тушил: колонки обсохли с начала войны, а река была близка да далёка, горстями да кружками из расходных ведер и отскочившей головешки не зальешь…
Нюрочка прибежала со своего конца, когда уже свет пожара перекрасил вокруг все, на что ни глянь: ее зеленая крыша, к примеру, словно кровью налилась. Патруль никого не останавливал, и она гнала к подруге не чуя ног. И была поражена, когда еле достучалась до нее, запечатавшейся в подвале. «С Личихой заболталась», – это она услышала от Ксении позже, когда эта мировая беда осталась далеко ли, нет, но за плечами и они собирали в старые кастрюльки угли на пепелище.
– Да как же вы так… прости мою душу грешную!.. – У Нюрочки не хватало сердца, по щекам слезы потекли. – И сама бы сгорела, и детей бы всех!..
Потащив Ксению за собой, она кинулась в дом и сорвала с окон завеси – сразу стало светло. Из подвала, охая, выбралась Личиха, кинула взгляд в окно, обмерла и опрометью бросилась вон.
– Выведи детей, пусть ко мне бегут! – толкнула Ксению в плечо Нюрочка и, тревожно поглядев куда-то в верх окна, быстро стянула с кровати вытертое до тканой основы байковое одеяло, кинула его на пол и стала бросать на него все, что попадало под руку.
Трогая голову рукой, влетела с улицы Ксения, крикнула, задыхаясь:
– Не уходят они!.. Сюда норовят!.. Особо Вовка!..
– Печет, да? – будто ничего не расслышав о ребятах, мельком глянула на нее подруга.
– Да, не пробечь…
– Делай другой узел! – Нюрочка, выбрав последние обноски из комода, уже завязывала свой. – Посуду, миски, в запечье что… Это вынесем, может, еще успеем!..
Во второй раз в дом пробежать не удалось: уже шевелились волосы от тепла, обдирало жаром лицо.
– Господи, не то б надо было вынесть!.. – плача, повторяла Ксения.
– Чего там несть-то? Чего там несть-то у тебя? – кричала Нюрочка, накидывая на себя какую-то хламиду, – она все же надеялась еще проскочить в дышащую отраженным жаром, готовую вот-вот полыхнуть избу. Но Ксения вцепилась в нее, затрясла неистово головой, и Нюрочка махнула рукой:
– Все! Всё!..
Щекотихинский дом пылал как облитый бензином, легко и быстро огонь охватил его целиком, пламя съедало дым и единой волной шумно возносилось к темному небу. Такой же громадный факел, или даже еще шире и выше, гудел рядом – полыхал соседний дом, передавший огонь. С подветренной стороны проулка всех ближе к этим домам стоял савельевский: окна его гляделись в крыльцо Щекотихиных. Искры и крупные хлопья пепла падали на его крышу и дымили на кровле сарая.
Ипатовы, соседи Щекотихиных, – всё дети-подростки с расторопной матерью и одноногим дедом – уже растащили сараи, соединявшие их дома, вместе с Личихою и ее дочерью прыскали из кружек на обнажившуюся рубленую стенку, швыряли на нее землю, стараясь докинуть лопатой до карниза – самого легкого выступа, куда мог перекинуться огонь с горевшей избы. Личиха, голося, успевала раз и два воткнуть лопату в землю и кинуть ее на разогретые бревна обращенной к огню боковины, бегала по соседям, звала на помощь, сулила отдать все, что имеет, если удастся отстоять ипатовский, а стало быть, и смежный с ним ее дом.
Ксения с Нюрочкой работали лопатами – бросали с дальнего расстояния землю; она часто не долетала до стены, падала редкой осыпью на завалинку. Землю с дороги кидали и хозяйки соседних домов, – было ясно, что, спасая избу Савельевых, они спасают и свои, вплотную сцепленные дощатыми сараями. Ближе подойти было невозможно: раскаленная стенка ждала мгновенья, чтобы обволочься пламенем.
Внезапным взрывом разметало прошитые огнем сени щекотихинского дома. Визгнули над головами осколки, туча искр взметнулась над пожаром. Упала на колени Ксения, удивленно разглядывая правую руку: осколок пробил ей мякоть ниже локтя и рукав стал быстро тяжелеть от крови. Боли и страха она не чувствовала, но голос, которым позвала Нюрочку, был до неузнаваемости хрипл и тих:
– Нюра!.. Нюра!..
Та ее не слышала.
– Что у тебя там было, паразит?! – вцепившись в плечо одного из сыновей, кричала мать Щекотихиных. Он ревел и все поворачивал мокрые глаза к опавшим стропилам крыльца, точно ожидал нового взрыва.
Нюрочка выронила лопату. Обдувая опаленные пальцы, подбежала к сидевшей на земле Ксении и увидела кровь, падавшую с вытянутой ей навстречу руки.
– Ой! Что это у тебя? Это тебя взрывом?
Ксения, закусив губу, кивнула.
– Больно тебе? Кость задета? – Нюрочка стала поднимать набухший кровью рукав. – Да что же это такое!.. Все сразу…
Постанывая, Ксения смотрела, как алые, горящие на свету капли быстрой цепочкой побежали из-под освобожденной манжеты, обнажилась мокрая, блестевшая от липкой крови рука.
– Мам! Ранило, да? Мам!.. – Костька, успевший отвести сестру, вместе с Вовкой вернулся к загорающемуся дому.
– Ранило… Давай чего-нибудь перевязать… – Нюрочка не знала, что делать. – Может, ко мне сбегать?..
По ее знаку Ксения пошевелила пальцами, согнула локоть, рука слушалась, кости были целы. Нюрочка отогнула ей подол, увидела нижнюю рубашку:
– Давай от нее, у меня нету…
– Рви, Нюра…
В это время вспыхнула долго дымившая ближняя стенка. Огонь скользнул по карнизу к водяной трубе на углу и возле нее сник. Вторая легкая волна его пробежала видней, шире захватывая дорогу, круто уперлась в раструб водостока и уже не исчезала, а быстро, на глазах, стала набирать силу.
– О-ой! О-ой!.. – вскрикнул кто-то из соседей, увидев, что огонь перемахнул через проулок.
Ксения поддерживала онемевшую руку под локоть и, отрывая взгляд от наложенных на руку листьев подорожника, от нервных пальцев Нюрочки, распрямлявших оторванную от рубашки полосу материи, глядела сквозь мутные слезы на обтекаемый быстрым пламенем дом, на ослепшие от огня стекла, за которыми чудился живой дух, метавшийся по оставленной квартире.
– Сыно-ок! – позвала она Костьку.
Тот сразу подошел, подошел и Вовка, у обоих глаза как у стариков.
– Вот ранило меня…
– Мам… ты только…
– А дом мы… не смогли… Не отстояли… Был бы брансбой… Как раньше, увидели б с каланчи, хоть бочку б пригнали… А что же мы?.. Отцу и вернуться будет некуда…
Она прижала здоровый локоть к глазам и заголосила, перебивая отчаянные голоса за спиной, где вперемешку с выкриками слышался треск досок – дальние соседи заранее рушили сараи, разрывая звенья гибельной цепи.
Звенели, лопаясь, стекла, огонь охватил всю наружную стенку и завернул за углы, пополз по крыше сарая.
Потер рукавом глаза и Костька, сказал глухо:
– Коньки там… салазки…
18
В Нюриной хате сидели в комнате все вместе – будь что будет, идти все равно было некуда, а погреба в доме не было. Проездной мост через реку оказался цел, ничто его не брало. Теперь по нему садили из дальнобойных пушек, но снаряды летели вразброд, ни один и близко не угодил в настил или ферму. Несколько их разорвалось на пепелище, раскидав оголенные печи, один – какой-то совсем уже потерянный – развалил жилой дом в сохранившейся части Городка.
Такую же, наверно, дальнего боя пушку немцы поставили вблизи Нюрочкиной избы. Когда она неожиданно бабахнула первый раз, подкинуло весь дом, посыпалась с полок посуда, вылетело несколько листов в окнах. Это было ни на что не похоже: не успели прийти в себя, снова такой же вконец оглушающий удар и снова стук посуды и звон треснувших стекол.
Высоко задрав дуло, пушка стреляла в ту сторону, откуда все громче и ближе слышался гром, а ночью высвечивалось зарево. Немец фельдфебель ловил в наушники указания и криком переводил их солдатам, которые возились у орудийных приборов. Пока другие закладывали в зарядную часть тяжелый снаряд, а за ним гильзу с порохом, наводчики подводили ствол к нужному направлению. Потом все отбегали в сторону, лишь один, отворачиваясь, дергал за шнур, и пушка, трамбуя дрогнувшую землю, подскакивала на колесах и опорах. Видимый глазу снаряд быстро скрывался точкой в прозрачном небе.
Немцев уже била лихорадка. В городе они взрывали все, что еще не успели взорвать и что служило им до последнего часа: здание гостиницы, где размещался какой-то крупный штаб, вокзал, последние крупные дома. Коротко гремели частые взрывы на путях станции и юго-восточных ветках, сохранялась одна-единственная – отходная через реку, но и она, так же как и мост, была давно заминирована. Снова горел винный завод – черные клубы над ним заворачивали, в небо к общей дымовой туче, сгустившейся над железнодорожным узлом города, где гуще всего дымили «вагонка», паровозное депо и резервное нефтехранилище.
Временные хозяева уходили – это было видно по всему. Ночью грохот взрывов и выстрелов усилился, пальба шла уже по городу. Сквозь рамы и запертые ставни несколько раз слышна была тяжелая беготня и отрывистые командные крики, прерываемые дробными очередями. Топали по улице в обе стороны, напряжение и в шаге, и в голосах было крайнее – это было слышно. Пушка, высадившая в доме несколько стекол, замолчала.
К утру стало тише, стрельба и грохотанье ушли дальше.
– Надо выйти поглядеть, – сказал Костька, когда свет уже расщепил полосами всю горницу, как называла Нюрочка комнату, где они просидели, не сомкнув глаз, всю ночь.
– Ну да еще!.. Глядеть… Там, может, эта… – Нюрочка не в силах была представить, что могло ожидать человека за дверью. – Там, может, тебя только и ждут..
Костька горько усмехнулся и поглядел на мать. Та, лелея перевязанную руку, затрясла головой:
– Нет, нет!.. Ни в коем случае!..
Когда она произнесла это, за окнами раздался слабый, но тем не менее всеми услышанный голос.
– Вас?.. Вас?.. – с усилием спрашивал кто-то, не получая ответа.
В доме притихли, напрягли слух, стало слышно, как посапывает уснувшая Лена.
– Чего-то узнать хотят, – прошептал Костька, лучше всех понимавший немецкий, – надо выйти, а то…
Женщины колебались. Главное слово было за Нюрочкой, у Ксении ныла воспалившаяся рана, и она, ничего не умея решить, только поддакивала.
– Ладно, – решилась Нюрочка, – попробую ставню дворовую отодвинуть.
Но дело это оказалось невозможным: ставни открывались снаружи. Пришлось согласиться с ребятами, пустить их на разведку. Костька впереди, Вовка следом – направились они к боковой двери, ведущей во двор. Приоткрыв ее, Костыка увидел в картофельной ботве немца, уставившего на него красные, широко открытые глаза. Немец был ранен, он лежал, опираясь локтем на заросшую ботвой грядку, и протягивал свободную руку к Костьке…
– Вассер!.. Вассер!.. – прохрипел он и, приоткрыв окровавленный рот, несколько раз коснулся губ пальцами.
Солдат заполз с улицы, от палисадника к картофельным грядкам, что с весны завела Нюрочка, вел хорошо видимый след, будто что-то проволокли. На этой вытертой дорожке темнели подсыхающие пятна крови.
– Вассер!.. – опять еле выдохнул немец и потянулся к валявшемуся рядом автомату.
На спине под рубашкой прошел холодок, Костька, не отрывая глаз от руки солдата, поспешно кивнул. Рядом в самое ухо задышал Вовка, – оба отчего-то стояли на четвереньках. Однако солдат не тронул автомата: смахнув с него пропитанные кровью петли бинтов, он зацепился пальцами за ворот френча и попробовал сказать громче:
– Вассер!.. Битте…
Костька опять кивнул и сказал – получилось у него тоже хрипло и через силу:
– Айн момент… Вассер… Айн момент!..
Он подался назад и встал на ноги и тут опять услыхал выстрелы в городе, а вслед за этим взрывы.
В горнице быстро посовещались, выходило, что напоить неподвижного немца все-таки надо. Воду понесла Нюрочка, за нею двинулись ребята. Подобрались к солдату, согнувшись в три погибели, у того – огонь в сумасшедших глазах.
– Ах!.. Ах!.. – только и успел произнести, пока Нюрочка прикладывала ему ко рту медный ковш, и слышно было, как падают внутри судорожные глотки и хлюпают в горле.
Немец ухватил липкими красными пальцами Нюрочку за руку, и как она ни старалась сберечь воду, часть ее пролилась, потекла по потной шее с кровяными следами пальцев, просочилась на грудь.
Солдат сделал последний глоток и, не отпуская Нюрочку, откинул голову и вздохнул.
Рядом с автоматом валялся вмятый в землю пустой патронный диск, за ближней грядкой сквозь зелень ботвы просвечивал телячьим верхом ранец. Солдат закрыл глаза и сморщился. Лежал он неловко, подогнув под себя руку, под боком виднелась кровь – ребятам стало худо от ее вида. Нюрочка прогнала их, сказала сквозь зубы, что идет следом. Но сама, когда ребята скрылись в хате, попыталась устроить немца поудобней. Он все видел и все понимал, кряхтел от боли и что-то тихо говорил, чего Нюрочка не могла себе перевести. Кроме двух слов, которые раненый часто повторял и которые она знала.
– Гут… гут… – говорил он, высовывая от напряжения язык. – Данке…
Немец был крупный, молодой: ни одной морщинки на бледном лице, перепутанные волосы густые, как у хорошей девки. Каска его тоже обнаружилась в соседней меже. Однако рана у него была, похоже, тяжелой: толстый френч на правом боку весь потемнел от крови, которая уже нашла выход и окрасила под телом землю.
– Гут, гут, – повторила и Нюрочка, помогая солдату примоститься на мягкой земле половчее и соображая, что никуда ему отсюда уже не деться, что так и будет истекать кровью, пока не придет какая-нибудь подмога. Рану его она даже посмотреть побоялась – да и с какой стати? Может быть, он и перевязать себя уже успел, раз вокруг окровавленные бинты.
Надо двигать назад, уже и ребята выглядывали, скрипели дверью – она рукой им махала, приказывала уйти, а раненый все как магнитом держал… Но это уже не стрелок, думала Нюрочка, поглядывая на его серое лицо, зря они напугались его автомата….
– Все, я – цурюк… там дети у меня… – потянула она руку, которую как ухватил, так и держал немец. Он потихоньку ослабил пальцы. – Я потом еще воды принесу… Вассер…
Она попятилась к дому, и тут же раскатистый близкий выстрел бросил ее грудью на перевитую ботву гряд. Тут же, ответом, бабахнул недалекий взрыв. Стал слышен лязг гусениц и перерывистый рев мотора.
– Панцер!.. – дернулся немец и, тяжело перевалившись на другой бок, потянулся дрожащими пальцами к автомату.
Нюрочка метнулась к сеням. У дверей ее подтолкнул в спину новый, еще более близкий выстрел танковой пушки, такой близкий, что зазвенело в ушах.
– По Новосильской идут! – еле переводя дух, собираясь снова куда-то исчезнуть, крикнул Вовка. За его нестриженой головой – Костька, такой же возбужденный, глаза на месте не удержать.
– Сами видели? – нетерпеливо, и веря и не веря, спросила Нюрочка.
– Пацаны сказали. Все туда бегут!..
Нюрочка заскочила в комнату, передала новость Ксении. Та поднялась – лежала поверх всего на кровати; отстраняя на перевязи больную руку, оправила юбку.
– И я пойду…
– Пойдешь?
– Все пойдем… Пусть твои Ленку возьмут, скажи им… И пусть догоняют…
– Да уж они-то вон, на выходе!..
…Ближе к Новосильской – все больше народу, откуда только взялся: женщины, старики безногие на деревяшках и больше всего пацанвы. Все спешат, у всех глаза не на месте от ожидания, от напряжения души.
– Союзники, говорят… С погонами…
– Ахти, с погонами!..
– Ага…
– Американцы…
– Или англичане…
– Второй фронт… Они тоже… В листовках было…
– Господи! А наши?
– Чего наши?
– А наши-то?
– И наши должны… Может, прямо с ими и они… Тепере всё, назад закрутилось, тепере жми – и всё…
Ксения слушала, что ловило ухо, и торопилась… Вот еще переулок, вот развалины старой бакалейной лавки Булатниковых, а вот и бугристая мостовая Новосильской…
С горки, из-за поворота, откуда до войны со скрежетом и звоном выносился долго ожидаемый трамвай, гулким шагом спускалась воинская часть. В голове колонны, широко размахивая руками, шагали офицеры: один впереди всех, чуть поодаль за ним еще двое. Звания их было не определить: форма была не русская, на плечах погоны.
– Американцы…
Офицеры старались ставить ногу прямо, топали четко, командир коротко повертывал голову, проверяя, как держится равнение. Еще тверже топали солдаты с автоматами на груди и вещмешками за спиной, плечи их тоже были заняты погонами.
– Союзники…
Кажется, все звуки забивал хрумкий твердый топ, все слушали только его да острую отдачу в груди. Но из молчаливого строя неожиданно вырвался голос:
– Здорово, женщины! Граждане!..
Вздрогнувшая панель отозвалась:
– Понимают!..
– Рота-а! – вдруг громко выдохнул не сбивавший шага, но незаметно как успевший отклониться в сторону командир. – На месте-е!..
Топот усилился и затвердел.
– Стой!.. Ать, два!..
Командир снял пилотку и сказал потише:
– Вольно!.. Р-разойдись!..
– Русские! Наши!..
– А погоны?
– Дак это… Ввели. Приказом. Теперь все будут носить… Наша дивизия первая получила… Или вторая…
– А мы-то! Думали, союзники…
– Они еще собираются…
– Наши! Наши!.. Мамочка моя родная…
– А чего реветь?.. Радоваться надо!
Ограждая перевязь ладошкой, Ксения стояла в толпе; не утирая слез, не чувствуя их, искала что-то в обветренных, покрытых пылью лицах солдат, задымивших «козьими ножками», начавших развязывать вещмешки…
Куда делся с огорода раненый немец, трудно было себе представить. Но, видно, все же уполз – промятый в ботве след шел до соседей. И автомат его и каска, и – главное – ранец так и остались лежать в межах. Все это ребята перенесли в хату, автомат и каску спрятали за бочкой в сенях, ранец затащили в комнату. В нем оказалась пара нестираного, но хорошего качества – трикотажного – белья, две пачки галет и две банки консервов, упакованный в слюду хлеб, сахар, кожаная туалетная коробка, в которой были уложены и безопасная бритва, и помазок, и мыльница с духовым мылом, и зубная щетка. Кроме этого, еще раскладная карманная печка, раздвигаемая как маленькая игрушечная кроватка, и к ней упаковка белых кусочков сухого спирта, которые горели после поджога несколько минут; книжка, похожая на молитвенник; пачка писем.
Письма, кроме одного, с красивой новогодней открыткой, сожгли при первой же растопке тагана. А оставленное долго пылилось у Нюрочки над верхним припечком, пока кто-то не сжег или не выкинул его совсем. До того чтоб перевесть открытку, как поначалу собирались ребята, дело у них так и не дошло.
Солдатскую еду и вещи Нюрочка приняла как в награду за рисковый выход к нему, когда он просил воды и был безо всяких сил.
– А что, ведь мог и убить, – повторила она несколько раз, когда все вместе занимались ранцем, раскладывали на столе нечаянное обретение.
В центре города самое оживленное место – у взорванного моста. Рядом с рухнувшими в воду фермами саперы возводят новые, деревянные. Сотни людей копошатся на спусках, стук топоров не смолкает ни днем, ни ночью. Временную переправу – понтонную – наладили быстро, но это не замена мосту. Плакаты около стройки обещают, что она будет закончена к годовщине Октября, в это не очень верится. Хотя солдаты – это такой народ, они все могут. Специалисты обследуют и переломившийся в двух местах, уткнувшийся пролетами в дно реки огромный железнодорожный мост, тут, конечно, дел будет побольше. Даже трудно вообразить, чтобы такую громадину можно было вообще стронуть с места или поднять на быки.
У моста недавно встретился Ленчик Стебаков.
– Савёла! Агап! – крикнул как обрадованный. – как? – и потер рукою спину.
На плечах немецкий френч без погон с половиной пуговиц, рожа как всегда занозистая.
Сказать бы ему пару ласковых, да ладно… Костька с Вовкой и отзываться не стали. А Ленчик тут же к саперам стал подлизываться, чинарик маклачить.
На расчистку взорванных, разбитых бомбами и снарядами зданий мобилизовано все население. На некоторых развалинах окруженные редкой цепью охраны работают пленные. Небольшая колонна их, грязных, тощих, молчаливых, – может, им просто запрещено разговаривать? – каждое утро приходит к вокзалу. Так же молча, не обмениваясь ни словом, немцы работают: плотно облепив кусок рельса, еле несут его к штабелю, выбирают из мусора целые кирпичи и половинки и складывают в ряды, идут с носилками. Изредка поворачивают голову в сторону любопытных, подолгу смотрят, глаза в глаза, не мигая, не меняя выражения лиц.
Так же вот один из них несколько секунд не отрывал взгляда от Костьки, словно силился что-то вспомнить, и, не доверяя себе, ждал ответного знака. Костька оцепенел от его водянистых глаз, а потом, когда сверкнула догадка, не мог слюну сглотнуть от волнения и непонятной тревоги.
– Вовка! – ворвался он домой, пугая криком игравшую на полу сестру. – Хуго видел!.. Зуб даю!..
Вовка глядел не понимая.
– Ну, немца, что у нас стоял!.. Денщика!..
– Где? – Вовка тоже пыхнул как бумага.
– На станции, кирпичи разбирает…
Через минуту они уже гнали к вокзалу. Ленку тащили на закорках, по очереди, – своими ногами она все равно не справлялась.
Сивого немца среди занятых медленным делом пленных отыскали не сразу, – он перешел на другой участок. Но наконец мелькнула его рваная, осевшая по самые уши пилотка, потом он оказался совсем недалеко.
– Эй! – срывающимся голосом крикнул Костька.
– Хуго! – позвал и Вовка.
Немец поднял голову и огляделся, точно хотел увидеть того, кому кричали подошедшие. Костька поманил его:
– Хуго!..
– А ну, подальше! – крикнул сидевший неподалеку охранник. Он даже не привстал с тумбы.
– Дядь, этот немец жил у нас! – двинулся к нему Вовка.
– А ну, давай отсюда! – пригрозил конвойный, выпрямляясь. – Кто жил? – Он поглядел на приблизившегося пленного. – Этот?
Немец пожал плечами, продолжая непонимающе, тупо смотреть на подозвавших его людей.
– Этот? – повторил охранник.
Лицо пленного заросло редкой рыжей щетиной, потемнелой на впалых, глубоко провалившихся щеках. Белесые пучки на выступающих надбровьях прикрывали неподвижные, какие-то расплывчатые, мутные глаза – без цвета, словно и без жизни. Но нет, что-то вроде колыхнулось в них: немец сморщил лоб и вгляделся в лицо того, кто только что манил его ладошкой… Потом открыл рот и приложил к губам два грязных пальца.
– Табак… – шевельнул он обметанными серым налетом губами.
Это был не Хуго. Тот был крепче в кости, осадистей, шире лицом. Или нет, не шире, а как-то круглее…
И конечно, – зубы… Зубы у Хуго были, как у лошади, – так говорил о них Вовка, когда Ехимов денщик скалился в хорошем настроении. Но зубы можно было и потерять… Не в них было дело. Дело было в том, что и Вовка поначалу принял этого старика за постояльца; пусть прибитого, опустившегося, заросшего грязью, но – не Хуго… Что-то было в них похожим.
– Хуго… – Костька повторил это, думая уже не о пленном, который успел опустить пальцы и раскрыть рот, обнажив голые десны, а о том крепыше солдате, что каждое утро чистил до блеска свои и Ехимовы сапоги у них на кухне и всякий раз после этого долго мыл сильные, покрытые светлыми волосами руки.
Между тем пленный снова поднес грязные пальцы ко рту, но другим способом, щепоткой, и просипел:
– Эссен… Табак…
– А ну иди! – Солдат-охранник поднял штык. – Работай иди! Табак ему, а?.. Научился! – Он повернулся к ребятам – Ну, что, не он? Не ваш фриц?
Они отрицательно замотали головами, солдат засмеялся:
– Да я понял…
Солнце вечерами стало краснеть, ежиться, закатные лучи его тускло обливали стены и крыши холодным огнем, зажигали ответным пламенем промытые окна, которые сохранили стекло. Плавились понизу над раскаленной светло-золотой кромкой горизонта далекие облака, предвещая ведренный день после ночи. Такие алые закаты наступали с началом учебы, они и радовали, и тревожили, наполняли неясным ознобом душу, заставляли молчать, затаивая дыхание.
– Смотри, – как давно это не делал, показал Костька Вовке. – Здорово, а?
Тот кивнул. Огромные светлые облака застыли над краем неба, рдяная полоса слабела, истончалась.
– Завтра – во будет денек!..
– Ага…
Они подходили к дому, несли за пазухой по целой бутылке боярышника, набранного в посадках. Еще больше его было съедено. До школьных дней было далеко: объявили, что занятия начнутся с первого или даже с седьмого ноября, в день великого праздника. Всем, кто пойдет учиться, нужно приготовить табуретку и стол на двоих, а еще раньше принести в построенный возле школы барак хоть какие-нибудь стекла.
Кое-что уже было приготовлено, например, две табуретки, на которых заранее, каждый на своей доставшейся, Костька с Вовкой вырезали снизу первые буквы имени и фамилии – так мать велела.
– Опять попадет, – мрачно сказал Вовка, поглядывая на красивые – всегда красивые в эту пору, война не война, – облака, которые уже совершенно расплющили красную полоску на границе неба.
– Ты думаешь, сколько сейчас? – стал прикидывать Костька.
– Мои стоят, – скривился Вовка, прикладывая к уху пустую руку.
– Попадет. Я тебе говорил: давай сначала воды натаскаем…
Около дома их нагнала возвращавшаяся со смены Нюрочка.
– Ребята!.. Костя!.. – она была в крайнем возбуждении. – Мать дома, да?
Не успев получить ответа, вбежала в хату.
– Ксюша!
Ксения стирала, – одноруко, приучая потихоньку и подживавшую правую. Отвела с лица россыпь волос, выпрямилась, сердито не замечая сыновей.
– Ксюша!.. – Нюрочка словно не могла слова сказать.
– Ну? Что? Нюра?!
Та оперлась обо что-то и заплакала.
– Нюра!
– Ксюша… Счас мужиков видела с паровозного… Что эшелоны угоняли…
– Да что ты!
– Они наших видели – и Федора, и Колю твово…
– Когда? Видели?! Когда видели?!
– И тогда, и потом… Уже после… И другие видели… Скворцов вот, говорят… К нему надо сходить.
Ксения быстро наклонилась и вытерла подолом потное лицо. Первая устремилась к выходу.
– Нюра, ну чего ты?!
– Я счас, счас… – Нюрочка как-то медленно, бессильно вытирала глаза. Потом зачем-то огляделась, поправила табуретку у стола.
– Нюра!.. Да что ты там!..
– Иду, иду…
– А где он живет-то?
Нюрочка вышла, она все еще дышала тяжело, округляла губы при выдохе. На выдохе и отозвалась:
– Скворцов-то?
– Да…
– Найдем, Ксюша, найдем, милая. Погоди, дай продышусь…
Ксения, облизывая в минуту высохшие губы, тряхнула откинутой головой, отвела с висков волосы…







