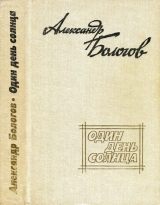
Текст книги "Один день солнца (сборник)"
Автор книги: Александр Бологов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц)
– Ксюша!
Ксения подобралась и притаила дыхание, сердце быстро прибавляло удары.
– Ксюша!
– Кто это?
– Я это – Егор… Открой…
– Что такое понадобилось?
– Открой, я тебе сказать чего-то хочу.
Она вздрогнула и прижала губы к дверной щели:
– Уходи, Егор… Я тебе правду говорю… Дети вот проснутся…
– Да мы тихо, открой… Я в самом деле хочу тебе сказать кой-чего.
– Что сказать? Говори так.
– Про Николая твово…
Ксения собрала подол, прижала в коленях, мороз защипал кожу. Сказала, слушая прерывистое дыхание за дверью:
– Что ты про него можешь сказать?
Егор кашлянул и звучно пришлепнул к двери голую ладонь:
– Да не через дверку же!.. Ты открой… Не трону я тебя, скажу вот, что хотел, и все…
Он стукнул сильней, и руки Ксении в слепом испуге потянулись к запорному бруску…
В зале Егор чиркнул зажигалкой, огляделся:
– Есть что зажечь?
Ксения вернулась в кухню и принесла коптилку. Лампадный язычок над фитилем вздулся вербным комочком, из мрака выплыли стены, комод, детская качалка. Егор, не находивший, с чего начать, увидел Ксеньины босые ноги и вдруг стал скидывать с себя обтянутые литыми галошами валенки.
– Как же ты босая-то? На-ка, на-ка, согрейсь…
Он чуть не силой, путаясь в опавших портянках, подступил к ней, заставил надеть просторные, полные тепла катанки. Ксения укуталась в старенькую байку одеяла, молча села на сундук. Литков подошел и сел рядом и тут же, задержавшись, может быть, на какую-то секунду, повернулся и обнял ее, задышал пьяным жаром в лицо. Ксения попыталась вырваться, но не сумела, Егор потащил ее к постели. Они завалились наземь около нее, звук падения встряхнул, кажется, весь дом…
– П-пусти, паразит! – Ксения чувствовала, что не справляется с Егоровыми руками. – Я детей крикну!..
– Кричи… Пусть поглядят…
– М-м-м!..
– Ну чего ты? Давай миром… Один хоть раз… Пра говорю… Или ты не баба?.. Или сама забыла все? М-ми-нутное дело, едрена-вошь!.. Чего ты боишься? Кто прознает? Николай, что ль? – Егор перехватил ее руки и прижал к полу.
Ксения едва переводила дыхание:
– Эт-то вот… ты про него… и хотел сказать?
Литков смолчал, сердце его тоже бухало, как в бочке.
Ксения шевельнула затекшими кистями, выдохнула:
– Отпусти меня… Все равно ничего не добьешься… Я правду говорю – закричу…
– Кричи… Я те сказал… – Литков потерся о густые волосы расцарапанной щекой – голова ее была повернута набок, – облизнул саднившую губу. – Дура ты, дура… – Он выругался и начал новый натиск. Затрещала материя…
– Больно, ой! – Ксения ударила Литкова по лицу и прохрипела – Не тронь!.. Своему офицеру скажу!..
Руки Егора остановились. Трудно дыша, он приподнял голову и проговорил:
– К-какому… офицеру?
– Какой ходит ко мне… Жилец мой…
Литков поднялся, прикладываясь рукавом к губе, подобрал портянки. Да, он сам видел, как обер-фелдьфебель, уже перебравшись к Трясучке, приводил в этот дом солдата с санитарной сумкой. А квартируя здесь, он, значит, высмотрел ее… Ах, Ксюшка, стерва!.. Ах, стерва… Эта, значит, не продешевит… А он-то, лопух-то губошлепый, чего намечтался, наплановал!..
– Из его портков сшила? – кивнул он на висевшую на спинке кровати дымчатого цвета юбку из плотного военного сукна.
– А что же… – Ксения даже не повернула голову, чтобы проследить за его взглядом.
– Понял…
Литков заложил портянку, привычным жестом обернул ступню и протянул руку за валенком. В тот же момент над головой его резко звякнуло стекло и страшно щелкнуло у притолоки дверей, снаружи грохнул выстрел. Он пригнулся и лихорадочно задул коптилку, в качалке зашевелилась и захныкала дочь, Ксения тронула ее рукой. В наступившей тишине из-за окна долетело несколько крепких немецких слов, прошуршали, удаляясь, размеренные шаги.
– Патруль… – сдавленно прошептал Егор. – По свету вдарили…
– Мы затемненье сбили… – так же едва слышно откликнулась Ксения.
Край мужниной шинели, занавешивавшей разбитое окно, соскочил с верхнего гвоздя, через открывшуюся полосу фрамуги в комнату проникал легко различимый свет – ночь была лунной. Густая паутина трещин окружала ровные дырки в стеклах обеих рам – где прошла пуля. Дрожащими руками Ксения взялась за угол занавески, стала крепить его, Егор принялся качать кроватку с плачущей Леной.
Все свершилось в секунды, это стало понятно, когда вдруг распахнулась дверь и на пороге появились ребята с насмерть перепуганными лицами.
– Мам, чего тут было? – Костька не сразу увидел стоявшего у качалки Рыжохина отца, а разглядев, примолк и сам подошел к сестре.
– Чего она кричит? Качалка упала?
– Не упала, не упала, сынок, – Ксения чуть не на ощупь обошла сына и подхватила дочь на руки, стала расправлять в потемках пеленки, – она просто испугалась, к нам в окно патруль из ружья стрельнул…
Она почувствовала, что Костька с Вовкой упорно рассматривают прислонившегося к стене Егора и торопливо продолжила:
– У нас затемнение отошло, а коптилка горела, они и увидели… Я всегда говорила, надо плотней подтыкать…
Перекладывая одной рукой подушку, выравнивая клеенку, Ксения прижималась телом к высокой боковинке, чтобы как-то слиться с кроваткой, не дать ребятам разглядеть свои босые ноги, рубашку с разорванным низом. Пересиливая быстро разраставшееся в груди стеснение, она пыталась вдохнуть поглубже, чтобы говорить спокойнее, но вязкий комок в горле не давал этого сделать.
Мороз вернулся, будто опомнился До войны к середине марта уже грачи прилетали, на весь Городок галдели, подновляя свои гнезда на высоких деревьях, у Сергиевской горки. В этот раз их и не чуялось.
Плотное небо висело низко, сухая поземка забивала промятые в снегу колеи и следы ног. Снег под ногами скрипел пронзительно, по-зимнему, как капуста под ножом.
Вовка с Костькой одевались во все дедово, что тот оставил после себя. У одного на ногах – старые сапоги без голенищ, опорки, в которых дед, бывало, сидел на завалинке в самую жару. В опорках по бокам дырки проделаны, шпагат, продетый в них, и держит обувь на недоросшей ноге. У другого, у Вовки – так распорядилась мать, – старые, но крепкие подшитые валенки, в которых, несмотря на большой размер, чувствуешь себя как дома. И на плечах у обоих его же, дедова, одежка – с перешитыми пуговицами, с веревочным кушаком у внука. Главное – ничего себе, голое прикрыто, терпеть можно.
Мерзли больше всего коленки, полы защищали плохо, а штаны на крепких морозах совсем не держали тепло. Костька отворачивался от ветра и тер их сквозь материю руками, ноги саднили, но не согревались. Чтобы снег не попадал в сапоги, штаны были выбраны поверх и перевязаны у щиколоток бечевками, это было просто и здорово, так делали все, если надо было идти по снегу.
Наст был жестким – в минувшие дни солнце успело прихватить уплотнившуюся поверхность, спаяло корку, идти по ней было нетрудно. Но кое-где поземка намела свежие складки, на них и сбивались ноги с ровного шага.
В Насыпном тупике стоял товарный состав, Вовка к нему и привел Костьку. Накануне вечером, когда мать, выменяв на базаре соли, нажарила целую сковородку легкого и удалось почти досыта наесться, они проговорили за печкой до полночи. Вовка рассказал об этом загнанном в тупик товарняке, к которому ему днем не удалось подойти, – на дороге, невидимые издалека, стояли охранники. Перед войной они с Костькой и сюда, конечно, захаживали, носились по проросшим полынью штабелям старых шпал, вытянувшимся вдоль крайней ветки. Рядом на насыпи стеной стояли посадки боярышника, а за ними уже лежали деревенские поля.
Было похоже, что состав пригнали под разгрузку, широкая полоса свободного места позволяла опорожнять все вагоны сразу, по всей длине эшелона, об этом и говорил Вовка ночью, подговаривая Костьку снова, уже вдвоем, отправиться к тупику. Что бы там ни было в теплушках, все равно после разгрузки что-нибудь остается: щепки, крепежные клинья, веревки, проволока. Было, что и ящики оставались, и бочки деревянные пустые, и плетеные корзины… Однако что-то пугало Вовку, и сам не мог понять что, и он предложил подойти к тупику со стороны посадок, чтобы никто не мог заметить.
Продираясь сквозь густые голые ветки боярышника, они услышали доносившийся со стороны тупика сильный шум мотора, словно буксовала или шла перегруженной большая машина. Но вот открылся и состав, он оказался совсем близко и с бугра был виден как на ладони.
У крайнего вагона вплотную к отодвинутой двери стоял фургон. В щель между ним и теплушкой один за другим протиснулись несколько человек в грязных, без ремней и хлястиков шинелях и с кое-как покрытыми головами. У одного из них ее закрывала развернутая и натянутая до самых щек пилотка, у другого – шапка с оторванным козырьком. Мелькнула и голова, обмотанная цветной тряпкой.
– Пленные!..
– Ага! – Вовка засопел и, чтобы лучше видеть, осторожно продвинулся вперед, не сводя глаз с грузовика.
Пленных привезли на другой машине, тоже крытой, с тремя парами высоких колес, она отъехала в сторону, пробороздив в снегу глубокую колею. Несколько солдат с автоматами стояли полукругом у открытого вагона. Слов оттуда почти не было слышно, немцы говорили вполголоса, жестами показывая пленным, что надо делать. Чуть поодаль, на дороге, ведущей к тупику, виднелся мотоцикл с коляской.
– Может, снаряды или что-нибудь такое? – еле слышно, в рукав, прошептал Костька. Он обернулся к Вовке – А?
Тот пожал плечами. Пленные скрылись в теплушке, некоторое время оттуда не доносилось ни звука. Потом нетерпеливо крикнул что-то офицер, стоявший у заднего борта грузовика и со стороны заглядывавший в дверной проем. Через несколько секунд там послышалась какая-то возня, шаркающий переступ ног, немец сделал шаг назад и, подав голос, махнул рукой. О дно грузовика глухо стукнулся невидимый тяжелый предмет. Слышно было, как в кузов ступил кто-то – не один – из вагона, как потащили по железному днищу сброшенный туда груз.
– Ящики? – не веря в то, что говорит, опять прошептал Костька.
– Не ящики.
– Мешки?
– Тихо!.. Убери макушку!.. – Вовка в первый раз повернулся к Костьке лицом, глаза его сузились и, казалось, остекленели.
– Сам убери… – Костька отозвался с обидой, но все-таки пригнулся и тоже прищурился, чтобы яснее видеть то, что происходило около товарняка.
Выгрузка продолжалась. Офицер уже перестал подавать команды – пленные справлялись с делом самостоятельно, – лишь изредка заглядывал с тыла под тент и бросал короткие реплики. Неожиданно он отпрянул в сторону – под сдавленный стон кого-то из военнопленных между краем вагонной площадки и откинутым бортом фургона что-то шмякнулось наземь. Немец недовольно забормотал и, поддерживая на поясе кобуру, заглянул под колеса, шевельнулись стоявшие редкой цепью охранники.
Офицер выпрямился и махнул шоферу – подать вперед. Заработал мотор, машина медленно двинулась от вагона, – на примятом снегу головою к рельсу лежал человек. Труп. На нем было нижнее белье – кальсоны и рубаха, тесемки на вытянутых закоченевших ногах были завязаны, пятен крови не было видно. Из вагона – нутро его не просматривалось – на землю неловко спрыгнули трое пленных, один из них завалился, боком коснувшись мертвого, с трудом, встав на четвереньки, поднялся на нетвердые ноги, товарищи молча смотрели на него. Потом – под мышки, за ноги, один за пояс – подняли лежавшее на снегу тело и понесли к фургону.
– Костька, пойдем отсюда!.. – Свистящий шепот долго не мог пробиться сквозь звон в ушах, Костька глядел на Вовку и не понимал. Губы зашевелились опять – Пойдем отсюда!..
– Назад?
– А куда же, дурак? Увидят – убьют…
Страх разлился по всему телу, сплюснутому и невесомому: может быть, их уже увидели и стоит пошевелиться, как ударят автоматные очереди и в посадки кинутся охранники и мотоциклисты? И вот так же, как этих, замороженных, разденут, оставят на снегу, чтоб окаменел, и бросят в грузовик?..
– Двигайся назад!.. Голову не подымай, сразу убьют… – Вовка повел вытаращенными глазами – За ветки не берись – не дергай!..
– Ага…
– Пригнись, пригнись…
Пятясь, прислушиваясь к ровному удаляющемуся гулу грузовика, они сползли с обратного склона посадок и, несколько раз оглянувшись, побежали к дому.
Перебивая друг друга, долго рассказывали матери об увиденном. Перепуганная Ксения заклинала их не ходить больше ни к Насыпному тупику, ни в другие такие же опасные места, чтобы душа ее не надрывалась до последней мочи. У нее в горле пересохло – не знала, как сглотнуть и вернуть дыхание, – когда Вовка после горьких подробностей о падении мертвеца поглядел быстрыми глазами на Костьку и выпалил, что в вагоне среди замороженных были и живые. Костька и сам вроде бы думал об этом, да не решался признаться, потому что от этого признания стало бы еще страшней, но тут отчего-то заспорил, видно, не мог понять, что же ему самому-то не хватило духу открыть эту догадку.
– Ты же слыхал, как там крикнул кто-то живой? – спрашивал Вовка.
– Я думал, это те, которые носили из вагона…
– Да чего ты говоришь! Сперва кто-то охнул, а они и выронили.
– Я думал, они сами…
– А чего им самим-то? Это они от страху и выронили. От неожиданности. Смотри-ка: может, взяли одного, подняли, а под ним – живой, он и охнул, очнулся. У них и руки расслабли. А он даже не охнул, а крикнул – ты слыхал…
– Да…
– Конечно, да.
Ксения оторвала ладони от губ, закрыла глаза и, постанывая, долго качала головой:
– И ни имени, ни звания, никакого следа на земле… И знать никто не будет, где зароют…
– Мам!.. – позвал ее Костька, зная, что она сейчас опять вспомнит отца, раз заговорила о безвестных умирающих. Но Ксения вдруг остановилась и беспокойно оглядела ребят, потом быстро, перейдя на скорый шепот, выговорила:
– Чтобы никому об этом, никому на свете, что видели!.. Если они узнают, если только вот чуть, – она вытянула перед их лицами долю пальца, – вот столько – всё, пропали! Вы и сами не знаете, что они сделают!.. Сынок!.. Вов!..
– Тетя Ксень!..
– Да, мам!..
Ксения не слушала, повторяла:
– Никому на свете, никому! Забудьте про это про все и не вспоминайте… Кому надо, узнают… А вы… Я вас прошу!..
А вечером, у Нюрочки, отвлекши подругу от громадного лагуна, в котором та кипятила солдатское белье, Ксения, словно своими глазами это видела и переживала, пересказала ей все, что услышала от детей. Удержала при себе только случай с живым голосом, на другой раз – уж такая страсть, господи!..
– Ты только никому об этом, Нюр, – предупредила под конец, – ведь они это крадучись все делают, тайно. Узнают, не дай бог…
– Об чем ты говоришь! – закивала Нюрочка, но тут же махнула фартуком в руке – А в Песках-то во рву скольких захоронили? Цыган и евреев свезли! А много кто видел… Трактором засыпали и заравнивали. Ни креста, ничего – одно поле голое.
Она крикнула девкам смотреть за бельем и повела в комнату, прикрыв от кислого пара дверь. Пока переходили, малость успокоилась.
– А мать-то где? В каморе своей?
– В деревне, отправила ее. Пусть побудет, пока не выгонют.
– Пешком пошла?
– Пешко-ом, она у меня ходкая. Я ж не раз с ней ходила. Бывалочи, устану-у – сил нет, ноги гудят, а ей хоть бы что, хоть обратно идти. Вот старые люди!
– Я тоже собираюсь, все подъела… Вчера последний ужин собрала, и тот в отдачу… Да и что полстакана ржи на чугун. Воду варить – вода и будет…
– Не говори…
Нюрочка встала и направилась к горке. Из-за нижней дверцы под замком достала узелок, развернула при Ксении.
– Ксюша, я с тобой поделюсь…
Она протянула ей плоскую баночку консервов и два – на вид хлопушек – столбика конфет.
– Ой, Нюра миленькая, когда только рассчитаюсь?..
Нюра будто не слышала.
– Я тебе и хлебца кусочек дам, – она сняла с головы платок и сунула за пазуху, промокнула потный бисер на груди. – Кусочек один, с прошлого раза еще – с расчета. Сейчас достану, на кухне в сундуке…
Рассказала Ксения подруге и про ночной выстрел в окно, и про Литкова, даже ссадину на шее показала от его зубов. Чуть слезы при этом не полила, рядом собрались.
– От ребят родных шею прячу…
– Вот кобель, вот зараза! – стучала себя по плотному колену Нюрочка. – Он думает, раз такое дело, так кажная подстелет… Мало, знать, ведьмы своей мордатой…
– Мало… – как эхо повторила Ксения.
Нюрочка вышла на кухню, покричала на девок, чтобы мешали в лагуне, и вернулась с хлебом – последним остатком от буханки. Заворачивая в тряпку, вздохнула:
– A-а, Ксюша, война все спишет…
– Ты об чем?
– Да обо всем. Вон подъехал он к тебе, принес ребятам…
Ксения порывом набрала воздуху:
– Да ты что?! Нюра? Что ты говоришь-то, опомнись!.. Как же мы в глаза-то своим мужикам глядеть будем? Не вечно же все так будет, сама же говоришь?
Нюрочка снова обтерлась, провела платком по шее, по лицу:
– Доживем ли, дотерпим ли?
– А куда ж деваться, будем терпеть… – Ксения погладила ладонью ноющую левую кисть и, опять загораясь неуходящей обидой, задышала трудней – Ночью притащился, подлец, пропуск имеет, дали ему, видишь… Распустил руки… К-каторжник!..
– Ему-то счас самая малина.
– На днях целый воз чужого добра привез – так и вогнал ходом в ворота, на подходе распахнулись: ожидали, видать. Личиха зырк, зырк бельмами по проулку: не видал ли кто?
– Видал, народ все видит.
– Конечно, видит… А твою юбку у меня различил, чья, спрашивает, – из евонных штанов?
– Ехима?
– Ну да, я ж говорю, про него намекнула, чтоб отпустил…
– Да-да…
– А как ты думал, говорю. А сама сожмалась от стыда, хоть провались. – Ксения вздохнула – Поверил, подлец…
– Дак отчего ж не поверить, гляди, какая ты у нас. Волосы вон опять за плечо, мне б таки.
– Ай, Нюр, замолчи!..
– Тела б еще чуток… Была б поглаже, – совсем красавица.
– Что буровишь-то, гос-споди? – Ксения встала, начала собираться. Поднялась и Нюрочка.
– Хоть язык-то потешить, – сказала она, потягиваясь, – а то ведь и правда совсем зарастешь…
За дверью уже не раз подавали голос дочери – им уже надоело мешать палкой тяжелое кипяченье. Нюрочка все обрывала их, но пора было и идти. Сочувственный разговор отмягчил в душе острые края, стало вроде бы легче смотреть на белый свет, вольней думать.
– Ой, Нюрочка, золотце ты мое…
– Самоварное.
– Ой, нет, подруга, не обговаривай. Золотце ты мое, у тебя только и отмякаю. Все жду, когда чего-то проблеск-нет в жизни, а ничего не вижу. Недавно кино опять глядела у себя, минуту какую приопнулась: карту нашу показывали, все государство, и фронт червяком загибается и сползает все глубже и глубже. И стрелы живые – двигаются, двигаются, и в середине карты, и вверху, и внизу – еще дальше линию проминают и все толще растут. А потом пропадут стрелы, и танки во все полотно, и пушки каждую секунду одна за одной стреляют… А голос какой – послушала бы!.. Чуть не кричит – объясняет.
– По-ихнему?
– Ну а как? Да-а. Внизу, правда, наши слова иногда пробегают, но я ничего не успеваю понять.
– А и не надо.
– А я и так.
– Ладно, – Нюрочка встряхнула фартук, – будешь думать, еще хужей будет и руки совсем опустятся. А как же нам с тобой без них, кто подопрет?
– Никто… – опять подголоском откликнулась Ксения. Она потрогала, где лежит за пазухой тугой узелок с едой, чуть поправила его и уже у порога сказала – Может, приходить помочь тебе? Или пополоскать на речку схожу, как вернусь с работы? У меня коромысло хорошее, а валек твой возьму…
Нюрочка огляделась в полной мыльного туману кухне, отозвалась неуверенно:
– Рази что пополоскать или воды принесть, поносить… Я, правда что, еле взбираюсь на берег. Пока вальком колочу, вся спина занемеет, за бельем не попнуться…
Нюрочка успела только, освободив девок, переложить дышащее паром белье в корыто и залить водой, как Ксения опять, белая, необычайно потерянная, появилась на пороге. Сразу упала в кухне на стол и уронила голову, завыла глухим воем.
– Да что ты, господи?! – Потная Нюрочка провела по подолу мокрыми руками и подступила к подруге. – Ксюша, да что такое? Не холуй ли этот опять встрелся? Да нас… ему в бельмы!..
Ксения подняла забитые слезами глаза и быстро-быстро затрясла головой, так что капли сорвались с век и растеклись по лицу.
– Да что еще? Ну, что? – Нюрочка в нетерпении ухватила ее за руку.
– Лина…
– Что Лина?
Ксения провела одеревенелой рукой по горлу.
– Ножиком?! Себе?!
– Не-ет… – Ксения опять затряслась, как в припадке. – В веревке…
15
Вовка на рубке хвороста рассек себе топором ногу. Пока мать пришла с работы, они с Костькой все успели сделать, чтоб она не узнала об этом или бы узнала как-нибудь позже. Палец со сбитым ногтем сначала посыпали золой, потом, испугавшись заражения, опять промыли рану, и Костька сбегал к Трясучке за йодом. Йод у нее уже весь вышел, и она, – узнав, зачем он понадобился, – дала жирного листа и какой-то темной мази и велела ногу завязать.
Дырку в опорке-сапоге, чтобы мать не увидала, кое-как зашили.
Сапог она сразу, конечно, не заметила, а хромоту Вовкину углядела в ту же минуту, как он захотел на двор и попытался пройти мимо нее на ровных ногах. Но они показались ей дурашливо ровными, так по нужде не шагают, если даже приспичит, и тут она все и выведала как прокурор. И раскрыть рану велела, и сама, переменив тряпку, заново перевязала палец и дала для удобства и чистоты надеть сверху стираный детский чулок. Туго было, больно поначалу, когда все раскрылось, тут уж и скрывать было нечего, но Вовка натянул его. По этой причине и пришлось с Ленкой остаться ему, а Костьке идти с матерью в деревню.
Ближние села были давно обхожены. Дороги к обмену все удлинялись и удлинялись.
Ксения и в этот раз шла не с пустыми руками, не побирушкой: несла в прилаженном за спиной мешке две сковородки и иглы для примусов, несколько кусков настоящего мыла, новые лопаты без черенков, даже бусы из мелких серебряных бляшек, подаренные Трясучкой за долгий уход при случившейся у ней желудочной болезни.
Чуть не померла, а выжила Серафима Игоревна, и это на ее, Ксеньину заботу она относит. Что правда, то правда, но не в одной ней, конечно, дело. Все по очереди дежурили, Вовка с Костькой тоже сидели и обихаживали больную, пока мать была на работе, пришлось побороть неудобство. Первый еще как-то быстро понял свое дело, а родной сын на первых порах и тазик подать не мог.
Все обошлось, слава богу, хотя Серафима Игоревна, совсем до последнего исхудавшая, и со смертью уже, кажется, согласилась, даже указала, во что одеть при кончине. А что же делать? Ксения и одеянье намеченное отобрала, и пообещала людей найти, чтобы гроб сделали, а сама и на базар не раз сходила вещи снесла – бараньего сала для питья, рису для отвара смогла достать, и к Мироновой бабке бегала за травами от желудка. Ей бы, Серафиме Игоревне, курить бросить, дать бы костям старым свежим воздухом подышать, но это – нет, не по нее, не по ее силам. Этим – еще даже говорит – только и держусь. Незаметно сдружившись с Ксенией, почувствовав доверие, о себе многое порассказала, о сестре своей ленинградской, о муже – об этом сама Ксения ее попросила, не выдержала.
– Я, – говорит, – Ксения, деточка, мало кому о нем рассказывала. Но, верьте мне, он прекрасный человек, он был вечное мое счастье в жизни, и я единственное чем живу – это его вспоминаю и все те случаи, когда он что-то говорил мне или что-то делал…
Вот так. Жена – есть жена. Сама работала учительницей музыки. Значит, она и сама очень образованная. Правда, в полдоме – он большой, с внутренней стенкой, со вторым ходом с другого проулка, – поселили добавочную семью, которая потом эвакуировалась. Вот в эту половину и перебрались их бывшие постояльцы, когда Костька легкие простудил.
Если подумать, неизвестно еще кто кому помог: Ксения с ребятами ей или же она всем им вместе. Сколько вещей хороших ей пришлось снести на базар, на еду отоварить?! Это просто судьба сжалилась.
– Случается, что и честному человеку повезет, деточка… – У нее на все случаи одно это слово.
Вот считает, что желудок ее на Линину судьбу отозвался, а не сама ли задумывала чего?.. Задумывала, а как другая решилась да сделала, так и спохватилась, так и душа – чуть не вон…
– Мам, сколько прошли?
Сыновний оклик словно разбудил, Ксения огляделась:
– Сколько?.. Сам считай… Звягино вон показалось, – значит, уже восемь верст отшагали, километров.
– А когда отдыхать будем? – Костька поравнялся с придержавшей шаг матерью, пошли рядом.
– А хочешь, в Звягине и остановимся, отдохнем?
– Думаешь, там чего возьмут? – Он слегка встряхнул свой мешок, в котором нес Трясучкины чайные чашки. Ксения даже забоялась:
– Осторожно, сынок! У тебя же там, сам знаешь… Эти вещи дорогие – фарфор…
В Звягине они даже в дома не стали заходить, и на них никто не обратил внимания, не глянул из-за окна, как в иных местах: тут, под городом, уже и к нищим на стук не выходили, и в обмен все отдали, что можно было. Надо было идти в дальние деревни – за Укромы, Утечу. Это Ксения понимала, потому и сократила как могла первый отдых, заторопила сына в нелегкую дорогу, которая дома всегда выглядит проще.
Сначала Ксения, чтобы отвлечь сына от ходьбы, скоротать тягучее время, затевала разговоры, расспрашивала о том, чего могла не знать по дому из-за своей работы и постоянных хлопот о пропитании да топке. Однако разговоры быстро утомили Костьку, к долгой ходьбе он не был приучен, и она пошла молча, шагах в двух впереди, чтобы тянулся. Сама она ходить молчком не умела. Живой ли, мысленный ли собеседник, сама ли она в его роли – был постоянным ее спутником, помогавшим оглядеться в жизни, поискать выход из очередного тупика. Она даже сама не понимала, да и не думала об этом, каким образом – иногда, кажется, и против ее воли – приходила к ней именно эта, а не иная мысль и, неотвязная, жила в ней, покуда так же незаметно и непонятно не уступала места другой – такой же неотвязной и своевольной.
Отмеченная перед остановкой в Звягине короткой зацепкой памяти, Лина после отдыха ожила в ней всей своей жуткой участью. Ушла-истлела Трясучка, истаяло что-то попутное, все место заполнила Лина…
Сначала Ксения, не успев узелка развязать – хотела отделить полскибки хлеба и одну конфетную скрутку Лининой четверке, – кинулась на кухню: в ту сторону, на дверь, указали, не вылезая из-под одеяла, ребята, когда она, пройдя в раскрытую дверь и увидав их скулящих в боковой комнате, спросила, где мать. Ребята Линины были терпимцы не по годам, никогда от них слез серьезных и хныканья не было слышно, и это их общее корябающее голосение сразу напугало Ксению.
Ни в кухне, ни в сенях матери не оказалось. Ксения прислушалась, ухо ничего не поймало, подняла крышку подпола, спустилась и обшарила в потемках пустую землю. Где же, господи? Где свалилась от слабости или болезни? Куда могла уйти со своими ногами? Далеко не могла…
Именно не могла, и не ушла, конечно, в сарайке обнаружилась Лина… Сидит, вроде как отдохнуть притулилась к стенке, и голову набок повернула.
– Лина! Лина!..
Только когда подошла да тронула ее слегка, и заметила Ксения веревку вдоль доски, вытянутую до каменной твердости.
– Ах, Лина, Лина! – так повторяла в плаче Ксения и бежала назад к Нюрочке, дороги под собой не чувствовала. И вместе с нею – одна никак не смогла, уже охолодела покойница – отсекла середину веревки, снимала-выпрастывала соседку из петли… До слез намучились обе, никак было не поднять и не перенести тяжелую, пока не пришло в голову оставить в сарае да там же и обмыть, и обрядить на застеленном полу.
Тут вот впервые и помогла Трясучка, Серафима Игоревна, пошли к ней, не к кому было больше. Поначалу узнавши про такую Линину кончину, долго тряслась, пуще обычного, переживала, потом как-то заставила себя, переборола, все перебрала, как поступить и чем помочь. Лошадь нашли, на что и не рассчитывали, и мужик-возчик за деньги и табачную придачу – все ее, Серафимино, конечно, – согласился и ребят Кофановых отвезти в деревню, к Лининым родственникам, где прижилась до этого и их бабка.
В деревне тоже пришлось всего наглядеться. Главная родня – бабкина сватья – тоже оказалась в ветхих годах, уже давно не командовала в доме, не распоряжалась ничем, кроме своего запечного угла, где теснилась теперь с городскою кумой – как привыкла называть Линину старуху.
Молодайка, когда все сообразила и разглядела новых нахлебников, устроила припадок, такая неприятная оказия ей вышла-выпала. Но Ксения уже понаблюдала, окинула глазами хату и все, что в ней было: не так, не так здесь живут, как она, или как жила, царство ей небесное, Лина в городе, – в чугуне на лавке картошка вареная нечищенная, капуста кислая в миске подсохла уже, и хлеб, ясное дело, есть – чувствуется носом.
Ну, хозяюшка, ну, родственница!.. Чужой человек – Трясучка – сердце не могла успокоить, узнавши про Лину, на такой расход пошла по похоронам, ребят содержала неделю – серьги старинные отдала в продажу… А эта поохала-поохала для блезиру, а как до дела дошло, чирьем вздулась – не трогай!..
Ксения долго терпела, никак не откликалась на хозяйскую комедию, пока не догадалась сказать:
– Ты их покорми пока да погляди, какие хорошие-то они, – она показала на лавку, где в ряд сидели тихие сиротинки, – вон сколько мужиков будет в дому, братьёв твоим двоим. – Дочек ее имела в виду.
– Да что ж я – хомут такой, куда я их дену, чем кормить стану? – продолжала та свое, но уже потеряла разгон, потому что уже завязалась с едой, поставила круговую миску на стол, ложки стала искать.
– У тебя и корова есть…
– Да что, если корова? С прошлого лета сена и то не добрали, да мужик был, а как теперь, сколь еще до травы? Уже и солому с повети подрубаю…
Это она уже в отступление пошла, и Ксения тоже мягче стала говорить:
– Ну, а куда же их, сама посуди? Я им чужая совсем, да и своих трое, они у меня с голоду точно – помрут. Помрут, и все. А ты все же тетка, а захочешь, так и матерью станешь. Не вернется отец, в приют отдашь…
– В какой приют? Когда?
– Когда наши вернутся…
Молодайка чуть глаза свои не выронила – так уставилась, но ничего, подышала-подышала рыбьим ртом и смолчала.
– И дом ихний теперь тебе пойдет, – добавила Ксения для привеса. – Я замок нашла, поставила, вот и ключ могу передать. А проведывать мы их будем, может, что и принесем когда…
Ключ молодайка взяла.
До тех пор покуда не выросли из-за бугра Укромы, не дохнуло от них надеждой отдыха и утоления голода, Костька еле передвигал ноги – сил после долгой болезни он еще не накопил. Ксения не ругалась, выдерживала, видя, с каким трудом одолевает он последние версты от шоссейного поворота. В низких местах, где проселок еще не подсох, на опорки налипали глинистые лапти, тяжелили и без того неверный шаг, тут она ждала, тянула руку, – в сцепке было остойчивей.







