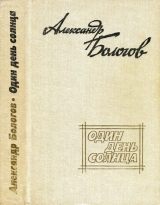
Текст книги "Один день солнца (сборник)"
Автор книги: Александр Бологов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 25 страниц)
– Принеси мне книги, – просит Антон.
– Какие?
– А всякие, побольше.
– А-а-а…
Иногда вечерами, если мы очень заняты, он просит дать ему старые книги, которые по сто раз уже просмотрены, выучены чуть ли не наизусть, В постели перед сном он листает их страницы – «Барона Мюнхгаузена», «Золотого ключика», «Конька-горбунка», «Синей бороды»… Одни просматривает быстро и откладывает к ногам, другие листает тихо, не торопясь, часто возвращается к перевернутым рисункам, – видно, еще много смысла, ведомого ему одному, осталось в этих старых верных книжках…
Я иду за ними, и тут – звонок.
Антон кричит:
– Это кто-нибудь ко мне? Или мама?
– Мама, – отзываюсь я. – Это ее звонок.
– А кто сильнее по сласти – мед или варенье? – спрашивает он за столом.
– Не кто, а что, – поправляю я.
– Ну, – что?
Я не успеваю ответить – вмешивается мама:
– Когда едят, не говорят, – напоминает она.
Это новости. Мы за едой только и делаем, что говорим. Когда же нам еще поразговаривать, если не во время воскресного завтрака.
– Когда едят, не говорят. А когда прожуем?
– Вот-вот, сначала прожуй.
Через минуту Антон объявляет:
– Я уже прожевал. Папа, давай поговорим.
– О чем?
– Ну, я поймал карася.
– А я красноперку.
– А я окуня.
– А я щуку.
– А я селедку.
– Как селедку? Она же меньше щуки.
– Ну, а как ты говорил? Такая большая…
– A-а, косатка.
– Ага. А я косатку.
– А я акулу.
– А я кита.
– А я… м-м…
– А-а-а, больше некого! – Антон хлопает в ладоши.
Действительно прибавлять уже некуда – крупнее кита на крючок никого не подцепишь. Я сдаюсь.
– А ты опять зачем-то ешь, – хитро щурится сын, едва мы закончили «рыбалку».
– Это ты корову вспомнил?
– Ага.
Ее мы видели в деревне, когда ездили за прополисом. Пробыли мы там весь выходной. На выгоне, недалеко от избы хозяина, на длинной цепи паслась корова. Целый день она не разгибала шеи – щипала траву.
Антон подбежал к ней с куском хлеба, протянул угощенье издали, но корова не обратила на него никакого внимания.
– Она не хочет, – сказал он, вернувшись, – все траву ест.
– А ты не бойся, подойди ближе, – сказал хозяин, – она смирная.
Антон отправился снова, сократил дистанцию; было видно, как он что-то говорил корове. Та наконец повернула голову и, не переставая жевать, поглядела на гостя… Он бросил ей хлеб и стреканул с выгона.
– Только ест и ест, – сказал с неудовольствием, – целый день.
– Растет, молоко дает, – заступился я за корову.
– А ты растешь? А мама?
– Мы-то уже нет.
– А зачем же ты ешь?..
Тогда же он поставил в тупик и меня, и владельца пчел, у которого мы приобрели меду и прополиса. Вдруг спросил:
– А почему у коровы рога так, а у быка так? – И выгнул над головой какую-то фигуру.
– А где ты видел быка?
– У меня есть в книжке.
Я обернулся к хозяину. Тот, кинув беглый взгляд в окошко – там паслась его буренка, – пожал плечами:
– Бык это бык, а корова это корова…
А в самом деле, отчего у быка рога так, а у коровы так?
Однако мы еще не кончили завтракать. Мы едим салат.
– У меня бой во рту, – говорит Антон, – то редиска побеждает, то лук, то сметана…
– У меня тоже, – отзываюсь я, чувствуя, как горький лук одолевает все другое. – Но я Марс, бог войны, я быстренько прекращу эту междоусобицу.
– Чего, чего?
– Междоусобицу…
Как могу объясняю, что такое междоусобица. Антон кивает и спрашивает:
– Сейчас покушаем и сыграем в хоккей? Я буду Мальцев.
– Выпей чаю.
– Я не хочу. Или в футбол?
– Чтобы опять пришла снизу соседка и разругала нас за шум? За «лошадиный топот»?
– Тогда поборемся.
– Тоже будем грохотать.
Мама подтверждает:
– Да, да. Уж как вы начнете возиться, тут не только Клавдия Ивановна, тут и сверху соседи могут прийти.
– Что же делать? Папа, давай соседку переедем к нам, а мы к ней? И пусть она играет над нами сколько хочет…
Его фантазии вырастают из его желаний. Как, впрочем, и у всех, в том числе и у взрослых. Но взрослые менее словоохотливы, менее доверчивы, нежели дети, которые легко верят как и в то, что слышат от других, так и в то, что говорят сами.
Иногда мне бывает очень трудно понять, как в его историях поселяется выдумка.
– Вот сюда мы посадим бурундука он маленький, ему хватит места, – рассуждает вдруг он, бродя по квартире. – Сюда черепаху – ее можно куда хочешь, она у Олега всю зиму спит. А тут будет коала, а я ему ветки буду носить. И я ребятам в саду расскажу – они все прибегут!..
Он даже в кладовке копается, перекладывает что-то.
– А куда же мы денем Лэсси, кенгуру? Ей же некуда прыгать…
Я молчу, не отвечаю.
– Та-ак, – рассуждает он дальше, – олень – хороший, волк – плохой, зебра – хорошая, тигр – плохой, дельфин – хороший, кит…
Тут, видимо, что-то у него заедает; издалека он спрашивает:
– Папа, а кит – хищник?
– Смотря какой. Кашалот – хищник.
– А кашалот – это кит?
– Кит.
– Ага.
Относить кита к «плохим» ему все-таки не хочется – этот великан не вызывает недоброго чувства, и он оставляет его в особом разряде:
– Дельфин – хороший, крокодил – плохой…
Сделав какие-то свои дела, он подходит ко мне.
– Папа, ты очень занят?
– Да как тебе сказать…
О-о, если я отвечаю таким тоном, можно не сомневаться в возможности отвоевать у меня несколько минут для наших общих дел. Да и меня, честно говоря, подмывает повозиться с ним в рукопашной.
– Поборемся? – еще не очень уверенно предлагает он.
Вместо ответа я начинаю закатывать рукава…
На середине комнаты мы обмениваемся рукопожатием и схватка начинается.
Позванивает в шкафу праздничная посуда, скрипят половицы, доносятся с кухни мамины предупреждения, что сейчас, дескать, заявится снизу Клавдия Ивановна, больной человек, и будет очень приятно…
– Пусть идет в баню… или в больницу!.. – пыхтит Антон, пытаясь провести подсечку.
– Цыц! – обрываю я. – Ты что это повторяешь мои нехорошие слова? Я их сказал шутя.
– И я шутя…
А вообще-то, можем мы, в конце концов, позволить себе в воскресенье отдых! У каждого свои представления о нем…
После третьей схватки, тяжело дыша, мы откидываемся на подушки и отдаем должное силе и мастерству друг друга.
– Ну, у тебя и ручищи, – отдуваюсь я. – Чуть шею не свернул…
– А ты мне тоже, вот, – разыскивает Антон что-то на коленке. – Вот покраснело…
Звонок молчит, Клавдии Ивановны не слышно – все в порядке. Значит, бросит в почтовый ящик записку…
…Антон уже что-то рассказывает:
– Мы с Вадиком, а они против нас. Мы, – ура! – и саблей, и саблей, а они подушками… А все равно нас Татьяна Леонидовна не наказала…
Через некоторое время мы играем в индейцев, и я, чтобы побыстрее закончить дело, подстерегаю его со спины. Тут уж делать, как говорится, нечего – он и томагавк не успел приготовить, когда раздался выстрел бледнолицего, то есть мой. Но что же это за игра – только начали, и на тебе… Антон ищет выход:
– Папа, давай так: по-твоему, я убит, а по-моему, – ранен, и война продолжается.
– Ладно, давай. Но раненые много не воюют – им надо в лазарет, раны порохом присыпать. А где, кстати, ты взял этот томагавк?
– Андрей дал.
Вопрос вызывает неожиданную реакцию. Антон передает мне томагавк – посмотреть получше – и рассказывает:
– Знаешь, мы мелких – раз! – к столбу пыток. Они– пленные, или принимаем в племя, если яблок принесли. И бросаем томагавк около головы…
– То есть как бросаете?
– Испытание…
– Та-ак…
– А потом пытки.
– Пытки?
– Мелких. Они пленные. Их в тюрьму – в кольцо в четыре локтя, – и сверху накрывают и прыгают. Мы прыгаем…
Ах, вон оно что. Я видел, как прыгали ребята постарше на бетонном кольце, забытом строителями на нашем дворе. Поверх кольца лежала дребезжащая дверца от «Москвича» из металлолома соседней школы. А в «тюрьме», выходит, сидели мелкие – Антон и его дружки…
– Виталик – Кауна, вождь, у него восемь перьев.
– Что ты говоришь!
– Да, восемь перьев к томагавку, за доблесть. А Андрей делает себе новый томагавк. Он, сказал, привяжет к нему волосы от маминого парика. Как скальп…
У нашей мамы, слава богу, нет парика.
– А когда пытки – бьет барабан. А потом мелких – в подвал.
– Там же страшно.
– Там дохлые кошки.
– А… мелкие не боятся?
– А чего им бояться, кто их тронет…
Для таких, как он, молчание – терпение.
– Папа, ты работаешь?
– Угу.
– А можешь и работать и слушать?
– Можно попробовать…
– Я тебе расскажу про белую перчатку. Говорят однажды мальчику: не открывай дверь, на улице белая перчатка. Он сидит. Радио потерпело, потерпело и опять говорит: не открывайте дверь, на улице белая перчатка…
– Как потерпело?
– Ну, помолчало.
– Понятно.
– Ну вот. А мальчик открыл дверь, и белая перчатка его задушила…
– Вот как…
– Ага…
Однажды он сказал, что в его комнате было еще одно окно, и он все видел по другую сторону дома.
– Там же у нас соседи, – попробовал я не поверить.
– А соседей еще не было.
С улицы он принес уже несколько ключей – все как-то находит. Один из них очень замысловатый, видимо, старинный – от какого-нибудь буфета или комода. Однажды он показал его мне…
– А вот этим ключом, когда ты был на работе, я открыл один ничейный дом…
Если бы я спросил, что он там увидел, в этом ничейном доме, он, верно, и отвечать бы не стал, потому что речь шла о ключе, а не о доме…
– Я раз иду по болоту, а навстречу лиса. А дядя говорит: вот шуба будет. А я – бегом в резиновых сапогах…
Резиновые сапоги – понятно: дело происходило на болоте. Только вот почему «шуба», а не «воротник»? Лиса ведь…
И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных… —
читаю я давно знакомую, но не теряющую притяжения сказку.
– А что такое чредой? – вдруг задумывается Антон. – Как это?
– То есть по очереди, чередуясь.
– Колонной?
– Да нет… А впрочем, подожди. Колонной? Я думаю, можно и так выразиться. А кто тебе сказал?
– Никто, и так ясно.
Изредка мама выкраивает время и для себя, гулять отправляемся все вместе.
Недавно на улице встретили собаку, овчарку. Неся в зубах мужскую перчатку, она неторопливо шествовала по тротуару. Хозяин, с поводком в руках, словно забыв о ней, шагал и горячо спорил о чем-то с приятелем несколько поодаль.
Сначала Антон быстренько качнулся к моей ноге, а когда собака и ее владелец отдалились, сказал:
– И у меня тоже… Я играл в снежки и сбросил варежки. И вырвалась овчарка и схватила, Я – за ней… И отбил снегом… Только это другая.
Мы постояли около стадиона, послушали музыку. Мимо решетки проносились веселые люди, шуршали, позванивали коньки.
– Папа, знаешь, когда мы катались, – Антон отступил на пару шагов, – я вот так, вот так. – Он взмахнул одной, потом другой рукой. – Ты видел бег на коньках по телевизору?
– Да-а, – я кивнул.
– Беговыми – з-зык, з-зык…
– Ты? На беговых?
– Когда тебя не было… – Он сказал и снова приник к решетке, за которой гудел каток.
«Пора уже покупать и коньки», – подумал я и поглядел на жену.
Она улыбнулась и произнесла:
– Пора, папа, пора…
– Мама, включи, пожалуйста, телевизор…
– Нельзя, Антоша. Ты же знаешь: детские передачи уже кончились.
– A-а, сами-то вы будете смотреть.
– Это для взрослых.
– Это не для кого, это, наверно, про войну…
– Нет, нет, сыночек, скоро спать. А то опять не выспишься.
– Ты бессовестная…
Последнее слово сказано негромко, но, однако же, так, чтобы мама могла расслышать. Застигнутая врасплох, она секунду-другую молчит и, дабы убедиться, что сын наш еще не совсем потерянный человек, просит подтверждения:
– Что ты сказал?
– Ничего…
Тут явное отступление. Но все же не сдача в плен – это ясно, и обиженная мама не выдерживает:
– Противный мальчишка! Завтра снова не добудишься в сад, а ему, видите ли, включите взрослую передачу…
Разве ты забыл, что такое режим? Ну-ка быстро в кровать!
– Папа, я поссорился с мамой, – говорит он, подойдя ко мне. – Она меня отругала.
– Было за что? – интересуюсь я.
Он недоверчиво смотрит на меня – неужели я в самом деле не слыхал его и маминых слов… И решает проверить это.
– Папа, постели мне постель…
– Ты сам умеешь…
Тон мой не оставляет сомнений – я все слышал.
Через полчаса жена тихонько зовет меня к его кровати – он спит в ботинках…
Показывать характер он умеет, хотя мама и беспокоится: «Ох, трудно ему будет в жизни, – едет на одних эмоциях…»
– Я тебя накажу, сын, – говорю ему как-то в сердцах.
– А я выпрыгну в окно.
– Ты же разобьешься…
– А я в воду.
– Оч-чень интересно.
– А я скажу: цветик-семицветик! – и он сделает речку…
Когда я уезжаю в Командировки, он грустит, иногда плачет. Один раз даже отправил мне письмо – скопировал мамино, написанное для него печатными буквами. Я еле разгадал, что в нем было, – все буквы глядели в обратную сторону.
– Пусть лучше мама едет в командировку, – предложил он однажды, когда я собирался в одну из дальних поездок. Но от одной мысли об этом навернулись слезы. – Нет, пусть лучше бабушка…
А бабушки с нами не было.
Если у него прекрасное настроение, солнце светит из каждого угла квартиры. Его доброта не знает меры, а сердце покоя. Он готов каждому говорить только хорошие слова, готов дарить игрушки, книжки, тайны…
– Я все буду делать то, как ты говоришь, – говорит он. – И что разрешишь. Всегда-всегда.
Я киваю головой, треплю ему вихры, улыбаюсь, как может улыбаться вполне счастливый отец, и иду к маме за разъяснениями.
– Что это с ним? – спрашиваю.
– Как что? Да он уже две ночи не спит. Завтра же суббота, в деревню едем.
– Тьфу ты, дьявол! Верно…
Несколько дней назад, когда решался вопрос о поездке, мама поставила условие: до самой субботы, чтобы жить спокойно, без нервотрепки, – ни слова о деревне, об автобусе, о рыбалке.
Терпеть ему уже, очевидно, невмоготу…
Наконец – сборы. Кажется, ничего не забыли… Но что такое с Антоном, почему у него такие горькие, полные обиды глаза?
– Ты не знаешь, в чем дело? – спрашиваю у жены.
– В чем дело… Ты ему какую удочку дал?
– Нормальную, новую… А удилище там сделаем, орешник найдем.
– А крючок?
– Заглотыш. На плотву.
– Господи, название-то какое… В общем, поговори с ним пожалуйста.
Спрашиваю:
– Ну, что случилось, сын?
– Папа, дай мне большой крючок, я хочу поймать большую рыбу…
Вскоре на лесном озере, дрожа от нетерпения, мы готовим снасти для лова.
– На, – протягиваю я банку с наживкой, – насаживай.
– А он укусит…
– Они не кусаются.
– А у него рот есть?
– У червя? Очень маленький.
– А какой? Вот такой? – Он соединяет пальцы так, что между ними ничего не остается.
– Еще меньше, с кончик иголки.
Антон колеблется, ждет, пока я насажу червя на крючок своей удочки, и говорит:
– Ну ладно, все же ты насади, он не укусит, у него рот с кончик иголки, а я рыбу за тебя понесу, и удочки, и еще чего-нибудь сделаю…
Утром, пробежав босиком по квартире, он заявляется на кухню.
– Папа, я тебя опять во сне видел…
Он сонно смотрит на меня и улыбается, и я вижу, как он растет. Года полтора назад, так же прибежав спозаранку из своей комнаты, он рассказывал об этом по-другому…
– Папа, я тебя видел во сне, ты меня – тоже? Правда, я хорошо себя вел? А куда ты дел саблю?
Теперь и слезы у него не так близки; он растет и все тверже запоминает уроки прошлого, как запомнил, конечно, новогоднюю елку у тети Аллы в Ленинграде…
…У всех уже, наверно, побывал Дед Мороз, всем принес подарки, всех поздравил с Новым годом… Не приходил только к тете Алле. И вдруг, как всегда неожиданно, когда все решили, что он уже не придет, раздался звонок… Это был Дед Мороз.
– А где тут хорошие дети? – зарокотал он в коридоре и ввалился в комнату и вытащил из серого мешка подарки – всем-всем. И бормотал что-то непонятное себе в бороду низким голосом… И Лена смешно визжала, как будто ей не было стыдно…
А потом, когда Дед Мороз ушел, пришло сомнение:
– Это был дядя Витя?..
– Да что ты, да какой же это дядя Витя?
– А голос его…
Тут просто все засмеялись, а Лена громче всех, и кто-то сказал:
– Вот чудак, как же это может быть его голос, если это Дед Мороз!
– А где же дядя Витя?
– Дядя Витя? А он пошел позвонить дяде Гере, с Новым годом поздравить.
– Нет, это был дядя Витя…
И тут опять кто-то засмеялся и сказал:
– Все-таки догадался, а! Ну, дядя Витя, дядя Витя, – успокойся…
– Дядя Витя?!
– Ну да. Ты же и голос его узнал…
И тут произошло странное – задрожали губы, заблестели и стали набухать глаза…
– Это был Дед Мороз… Дядя Витя пошел звонить… А это был Дед Мороз…
– Антоша, да ты же сам только что сказал, что узнал дядю Витю!..
– Нет, это был Дед Мороз…
За окнами темно, словно уже наступила осенняя пора. А ведь еще не кончился август, еще по вечерам долго доносятся со двора ребячьи голоса – в последние дни каникул улица влечет особенно сильно. Еще зелены деревья; не сразу заметишь, что листья их уже поблекли и что молодые липы вдоль тротуара шумят уже не по-летнему, игрою каждого листика, а – всею кроною, тронутой первым увяданьем.
Сегодня шума ребячьего за окном не слышно – там дождь. Тяжелые капли, заносимые ветром, стучат, как камешки, по железному водостоку окна, отдаваясь в сердце неясной тревогой.
Но сегодня грустить нельзя – сегодня у нас серьезное дело: мы выясняем музыкальные способности Антона. Вернее сказать, эти способности определят в школе, куда мы, посоветовавшись со знающими людьми, решили его определить; мы же проводим репетицию.
Как сказали те же знающие люди, на экзаменах проверяют слух и ритмику, то есть просят исполнить какую-нибудь нехитрую песенку и вслед за преподавателем повторить сыгранный ритм.
С ритмом все оказалось просто. Когда ему все растолковали, Антон вполне прилично стал выдерживать нужные паузы и мерно ударял пальцами по клавишам. Оставалась песенка.
– Какую же нам взять? – Жена, улыбаясь, поглядела на Антона.
– Давайте «В лесу родилась елочка»?
В лесу родилась елочка,
в лесу она росла;
зимой и летом стройная,
зеленая была…
Куплет пропели вместе, но песенка показалась слишком бледной – здесь определенно нельзя было показать, на что ты способен.
– Знаешь, только ты потише немного, – попросила меня жена, – и пой правильнее – режет ухо.
Антон вскинул на нее глаза:
– Как режет ухо? Кто режет?
– Это так говорят…
Перебрали еще несколько знакомых песен.
– Антоша, а вот эту – «Там, вдали, за рекой…»– вспомнил я. – Отличная песня. Ты ведь слыхал ее? Даже если и не слыхал, ее легко выучить. Давайте попробуем. Или – «Шел отряд по берегу…»
Ах, эти песни гражданской войны! Как просто им унести нас в то огненное время, как легко тронуть душу. Широкое поле и сизые дали; лихие атаки и красные знамена на ветру… И близкие лица сраженных…
Шел отряд по берегу,
шел издалека,
шел под красным знаменем
командир полка.
Голова обвязана,
кровь на рукаве.
След кровавый стелется
по сырой траве…
– Тоже ведь хорошая песня, – говорю я, вздохнув – Но давайте «Там, вдали, за рекой…». Антоша, ты пока прислушивайся, вы же много в саду поете…
Там, вдали, за рекой,
зажигались огни,
в небе ясном заря догорала.
Сотня юных бойцов
из буденновских войск
на разведку в поля поскакала…
Антон слушает, как мы поем, и без слов чистым голосом ведет грустную мелодию…
…Вдруг вдали, у реки,
засверкали штыки —
это белогвардейские цепи…
Я оставляю клавиши. В сумерках, под беспокойные порывы осеннего ветра и дробные всплески дождя за окном, плывет тревожная песня… За нашими голосами голос Антона едва различим…
И бесстрашно отряд
поскакал на врага,
завязалась кровавая битва.
И боец молодой
вдруг поник, головой —
комсомольское сердце пробито…
Ведет за собою живая песня – я уже сам, кажется, забыл о нашем занятии, о сыне. Я пою. Что-то подрагивает в горле…
Там, вдали, за рекой…
– Папа…
…Капли крови густой
из груди молодой
на зеленую траву стекали…
– Господи, сыночек, это же песня… Ну, что ты… Мама стоит около сына. Я вижу Антоновы глаза – полные горя и слез, тяжелых и чистых, готовых вот-вот сорваться и разбиться, как стеклышки…
– Папа, а кто победил?
– Наши, сыночек, конечно, наши…
– Нет, правда?
– Конечно, правда.
– А боец?
– Его спасли.
– А он же погиб – он же сам сказал коню?..
– Ну разве может убитый говорить? Он был ранен…
– Правда?
– Конечно, правда…
Я говорю серьезно – я сам верю, что там, вдали, за рекой, где боец прощался со своим другом-конем, он не погиб, он остался жив…
Кончилась зима. Прошла неделя как мы снова отвезли его к бабушке, в последний раз перед школой. Дни заметно прибавились. Может, поэтому они кажутся такими тягучими? Жена иногда ходит по квартире так, словно кого-то ищет. То вдруг остановится у окна и смотрит на улицу, то начнет перебирать Антоновы майки. Я понимаю ее. Когда она подходит ко мне, я закрываю глаза рукой и говорю:
– А тебе темно?
Она молчит, закусив губу.
– А здесь вот будет жить черепаха, – показываю я на коробку с Антоновыми солдатиками.
Жена молчит.
– Ну-ну, – говорю я не очень твердо. – Посмотри на календарь – совсем пустяки остались…







