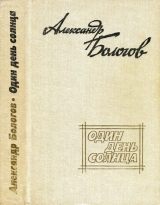
Текст книги "Один день солнца (сборник)"
Автор книги: Александр Бологов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)
Билет в прицепной вагон
Пора же, мати, жито жати,
Ох, и колосок налился.
Колосок налился!
Пора же, мати, дочку дати,
Ох, и голосок сменился.
Из народной песни
1
 ак и в первый раз, Ольга приехала неожиданно. Было очень рано: по улицам города потекли только первые, еще неторопливые ручейки рабочего люда, и от остывшего за ночь асфальта веяло влажной прохладой – поливальные машины успели окатить мостовые.
ак и в первый раз, Ольга приехала неожиданно. Было очень рано: по улицам города потекли только первые, еще неторопливые ручейки рабочего люда, и от остывшего за ночь асфальта веяло влажной прохладой – поливальные машины успели окатить мостовые.
Неторопливо двигаясь, Ольга по ясной примете нашла знакомый переулок. Приметой были несколько огромных деревьев – тополей, росших на этой земле, видимо, задолго до того, как поблизости поднялись прямые коробки панельных домов. Деревья стояли не в ряд, кучкой, и для них в асфальте тротуара были оставлены круговые пустоты чуть пошире крепких, толстых стволов.
Постояв чуток у подъезда, а потом и ка этаже, у самой двери, за которой не слышалось ни звука, Ольга позвонила. Михаил с Лидой стояли уже в прихожей, застегивали, как говорится, последние пуговицы, когда вдруг коротко звякнул звонок. Лида даже вздрогнула, – это было похоже на вскрик у самого уха. А Михаил опять, уже твердо, решил про себя: «Завтра же сменю этот чертов гудок».
Ольга прибыла утренним поездом, затемно, и чуток посидела на вокзале, чтобы угодить в самый край – лишь бы застать детей до работы. Так оно и получилось. А Михаил – и обрадованный, и вместе с тем удивленный, – впустив мать в тесную прихожую, сразу же и зажурил ее, что ничего не сообщила, не предупредила их.
– Господи, сынок, не в полтиннике дело, – оправдывалась Ольга. – Телеграмму ведь они могли и ночью принесть. А зачем же вам сон сбивать? Мне ведь какую телеграмму ни занесут, все одно сердце сожмет. Распишусь на бланке, где надо, уж рассыльная уйдет, а я все боюсь распечатать. Право слово.
– Да не на вокзале же сидеть? Дом-то в ста шагах! – И Михаил, и Лида, укоризненно улыбаясь, глядели на мать.
– И ничего, и очень хорошо побыла, – успокоила их Ольга. – Посидела чуток, подумала обо всех. – Она вздохнула.
– Ну, ладно, – заторопился Михаил, – мы побежали, а ты тут командуй. Чай поставь, помойся с дороги. Колонку помнишь как зажигать?
Ольга утвердительно кивнула головой и вдохнула воздуху, чтобы сказать про колонку, успокоить сына, но тот торопился.
– Ну-ну-ну, командуй, – сказал он, – отдохни с дороги.
Ольга понимающе улыбнулась и махнула рукой, – чего уж, мол, сама все знаю.
Когда дети ушли, она разделась, скинула обувь и прошла в светлых шерстяных носках на кухню. Там долго сидела на белой гладкой табуретке, смотрела в окно на голые ветки тополя, дотянувшегося до пятого этажа и даже выше.
На одной из веток возился грач. Он уцепился клювом за тонкий побег и, оттопырив крыло, круто поворачивая голову, пытался его надломить. Грач был молод, – у него был темный, не осветлившийся клюв и плотное глянцевое оперенье. Сучок не поддавался. Грач оставил его и переступил лапами, устроился на ветке поудобней. Затем коротко, на всякий случай, огляделся и решительно ухватился за облюбованный отросток. Ольга словно бы услышала, как хрустнула веточка, грач рывком оторвал ее и взмахнул крыльями. Но то ли слишком тяжелой оказалась ноша, то ли неловко подцепила ее птица и на взлете выбила своим крылом, но хворостинка вдруг выпала из клюва, скользнула по пустым веткам вниз, и грач, описав крутую дугу, взмыл над крышей. «Ай, незадача, – огорчилась Ольга. – Ветвь-то еще живая, а он ее выбрал, глупый».
Потом она вымыла грязную посуду – ее оказалось немного, – убралась на кухне. Расставляя чашки в узком вертикальном шкафчике, Ольга отметила большую аккуратность невестки, тихо порадовалась за сына. И опять села у окошка, глядела на близкий соседний дом, – там торопливые хозяйки уже вскрыли вторые рамы и протирали мятыми газетами мигающие стекла.
А на земле уже суетилась детвора. Ольга пододвинулась к окну вплотную, прислонилась коленками к холодной батарее и устремила взгляд вниз, на детей. Она стала «выбирать» себе внука.
Маленький человечек в меховом комбинезоне валко, как под водой на глубине, вышагивал впереди старухи. «Ать, ать… – сердцем проследила Ольга его неровные, вприпрыжку, шаги и тут же решила – Не-ет, больно ходок, не уследишь за эдаким-то, не уследила б Лида…» Она просеивала глазами мелкую ребятню, но никак не могла остановить выбор. «Может, внучку?..»– подумала она и зашарила глазами по двору, навострила ухо – на голос. Но из детского щебета доносившегося к ней неясным отдаленным хором, легко поглощавшим отдельные возгласы, Ольга не могла выделить достойного внимания. «Ну и ладно, – успокоила она себя. – Сами хотят ли?..»
Она оставила окно и – то ли неловко повернула тело, то ли нескладно переступила ногами – вдруг почувствовала тонкий, как волосок, укол в груди… Нет-нет… Ольга беспокойно осмотрелась, совершенно уверенная в том, что причина ее неожиданного испуга находится где-то тут, поблизости, однако не заключена в ней самой, – и не в слабой пояснице или неудачном шаге тут дело. Господи, что же это?.. Ольга замерла и услышала – не ощутила, а именно услышала – удары собственного стареющего сердца и под его аккомпанемент – далекий, безысходно-скорбный плач. Ребеночек… ребеночек… Она навострила ухо и вышла из кухни в комнату и прислушалась. Но дом был весь полон звуков – он был блочный, и невозможно было определить, откуда исходит плач. Ольга вздохнула, неслышно прошлась по большой комнате, потрогала пальцами обои.
Ее опять потянуло к окошку, и она устроилась у широкого балконного проема. Отсюда не было видно двора, но хорошо гляделись – словно на гигантском телеэкране – верхние этажи противостоящего дома. Солнце золотило его ячеистый фасад. Многие окна были растворены, кое-где на балконных перилах выжаривались зимняя одежда, подушки, стеганые одеяла. Женщины упоенно полировали дрожащие рамы.
2
Михаил и Лида пришли оба сразу, вместе, и неожиданно скоро – еще и день не сошел.
– Черная суббота, кончаем раньше, – весело сказал Михаил матери.
– Дак я потом-то сообразила, – живо откликнулась она, – народ-то весь по квартирам, а вы ушли. А потом ить правда – суббота…
– Она не для всех черная, многие конторы гуляют, – плещась в ванной, голосисто гудел Михаил. – А дома эти льнотреста, у них выходной.
– У Зинаиды как завод план не дает, так тоже субботу занимают. А знаешь, как это ей: вся работа по дому – в выходной. И перестирать, и уборка, с едой на всех управиться… – Ольга говорила громко, чтобы голос пробился сквозь шум воды.
– Это – да. – Вытирая голову большим полотенцем, Михаил вышел из ванной. – Выходной и остается. Как она живет-то?
Ольга глядела, как сын утюжит ворсистой тканью налитые силой плечи, тяжелую грудь. Господи, крупен-то, крупен-то как, в деда Павла. Сам уже голова, хозяин. «Глава семейства», – пискнули было где-то в глубине притертые друг к дружке слова, но так робко пискнули – до рта не докатились, и Ольга, запоздавши, ответила:
– Как живет – ничего живет, сама себе хозяйка теперь…
– Да я не о квартире, – сказал Михаил, отдуваясь, – вообще как живет, чем дышит?
– Ай, сынок, что за жизнь? Принудиловка. Право слово. Двое ребят, разорваться можно. А все же как без них, сынок?
Ольга попыталась не задержать взгляд на невестке, но это ей не удалось, и она, мигая и сдерживая сочащуюся из правого глаза слезу, повернула мысль:
– С другой стороны, Лидушка, хлопот ведь сколько: первый класс нынче трудный, сама учительница говорит Дома, говорит, побольше сидите с Вовкой. А кто с ним будет сидеть? Все работают. А он-то бедовый: ключ на шею – и бесится цельный день на дворе, пока Зинка, Зинаида, не подойдет.
– А отец? – спросил Михаил.
– Дак, сынок, господи… – начала было Ольга опавшим вдруг голосом, но снова сошла с дороги – Или скажет, что не сумел открыть, портфель с книжками сунет за батарею на лестнице и – зыкать.
– А отец? – возвращая мать к разговору, на сей раз серьезнее и строже повторил Михаил.
– Отец… Что – отец? Вы вот у меня без отца выросли, и вон, – Ольга выпятила подбородок, – кто чего худого скажет про тебя, или про Зинку, или про Саньку?
Лида кивала головой: да, да.
Но Ольга не об этом – не о своих детях, не об их натуре и достоинствах пеклась. Всякий разговор о семейном житье оборачивал ее к основной боли – к Зинкиной судьбе, к ее, как понимала Ольга, на самом истоке замутненной жизни. И о чем бы она ни заводила разговор, с кем бы ни толковала, всякий предмет рассматривался ею по мерке дочериной доли. Или, скорее, наоборот: всякий житейский пример непременно прикладывался ею к судьбе дочери и помогал высветить ее когда с того, когда с иного бока. И ежели в Ольгиной душе начинала вдруг звучать именно эта струна, ее пение быстро и неудержимо усиливалось, находя отзвук в каждой жилке, в каждом нерве изнывшего сердца. Волна острого ощущения кровной близости, неразделимой связи с трудно выхоженной дочерью подхватывала Ольгу…
Так же и в этот раз – она раскатилась сразу. И понесло ее по ухабам к колдобинам, что миновала уже либо до сих пор осиливала дочь…
3
Младшая в некогда тихой, неплохо пригнанной семье – двое мужиков, сыновья, и двое же женщин, мать с дочерью, – Зинка была отмечена особой печатью. Ее положение в доме определялось младшинством – для братьев это было естественно, – однако нераздельная материнская забота о дочери имела в своей основе несколько другой корень. Сама жизнь Зинки, ее судьба, была для Ольги искупительным крестом, нести который ей суждено было до последнего своего шага.
…В начале сорок третьего года, когда сквозь обволокшую душу мглу стали пробиваться отблески оживших надежд, в глухое, занавешенное одеялом окно стукнул отец. Обмороженный на Волге, он был переправлен в госпиталь и на обратном пути улучил момент – отстал от эшелона, чтобы хоть накоротке проведать их.
Минуты сжались, побежали неразличимыми стежками по белому постельному полотну. Ольга поглаживала оробевшей рукою вылежавшиеся складки единственной простыни, сохраненной ею в числе немногих предметов удобства, и глядела, как в поздний час тискает Георгий двухгодовалого Саньку, подробно рассматривает его постную образину, как ластится сбоку Мишка, не забывший еще ни отцовского вида, ни его привычных слов. Все меньше ночи оставалось им на двоих, и Санька уже совсем осовел и хныкал на нетерпеливых отцовских коленях.
Мишка, понукаемый матерью, отправился за занавеску, долго возился там, прислушиваясь, и наконец затих. Перегулявший Санька дергался и всхлипывал во сне, старые расхоженные ходики стучали на стене, точно сердце в распахнутой грудной клетке. А дальше все было словно бы и не наяву, словно бы совсем внове и неповторяемо…
Голова пошла кругом, едва Георгий тихо, по-ночному, тронул ее, прошелся по телу тревожащим и сладостным жестом, таким знакомым, что слезы побежали – не утереть. И горе на час отошло, все боли забылись. И обмякла Ольга, закружилась в омуте горячих поспешных мужниных ласк и, утопив в душе незабытую тревогу, привлекла, притиснула его к себе в самый жгучий миг радости…
Словно и жизни не было за спиной.
– Трудно тебе, – шептал, отойдя, Георгий. – Что поделать, дорогая моя, что поделать… Вся страна одним путем двигается – по голоду и по крови. Большие тыщи людей пришли в движение, целые города уничтожены до последнего камня… Все своими глазами видено. Но дальше немцы не пойдут, – около Сталинграда их – как посеяно. Это невозможно себе представить, как они покрыли землю на много верст…
– До нас не дойдут ли все же? – прижимаясь к мужу, тихо спрашивала Ольга.
– Что ты! – убежденно отвечал Георгий. – Тепере повернут оглобли…
Он вдыхал жаркий запах ее волос, гладил их дрожащими пальцами…
– Тепере мы будем в другом месте, может, присылать что буду… Потерпи, дорогая моя…
Он ушел до света. И тепло, и вина какая-то, и потаенный страх стояли в его глазах, когда он направлял пальцами фитиль у зажженной коптилки, и тень его шарахалась по комнате из угла в угол. Он ушел, даже подумать не успев о том, что под сердцем Ольги может затеплиться звездочка новой жизни.
А огонек занялся. Ольга угадала это сразу, она и пошла на такое от безмерной жалости к мужу и потому еще, что тяжелое предчувствие легло камнем ей на грудь, едва Георгий прикоснулся к ней последней ночью. Словно кончался след, который оставлял он в жизни, и чтобы углубить его, успеть перенять возможную долю Георгия, она и растворилась ему навстречу.
А и жизни-то за спиной было – двадцать девять годов. Двадцать девять, – бывает, в девках до этой поры ходят… Но вот и Зинке уже ровно столько.
Похоронка пришла недели через три, из старой части, – значит, добрался-таки он до нее. Словно лопнули и вытекли глаза – так сыпанули слезы, но это была лишь жалкая толика того, что уже выплакалось внутри. А потом по ночам Ольга поворачивала и поворачивала подушку, ища на ней сухие, незаслезненные места, и Мишка ныл от страха под одеялом за занавеской, ни с того ни с сего заходился в плаче голодный Санька.
Когда обозначился живот, люди глядели, как на зачумленную. Ольга Минакова… Голодуха веревки вьет из каждого, двое ребят – сама одна, мужик убитый… Вот уж верно: где беда, и ты туда. А когда бригадир перевел ее с тяжелой подсобки на учет, оставленная напарница разнесла по цеху догадку: это он на ней погрелся…
Молчала Ольга. Скажешь курице, а она и по всей улице. Да и к чему было объяснять людям не их беду, тем паче что до поры скрывала от всех тайное гостевание мужа, – боялась, не повредило б ему, отлучившемуся, беречь, как могла, пыталась.
Зинку рожала в госпитале, много недоношенной, – дело началось в цехе, откуда ее совсем без сил доставили товарки в ближайший лазарет; роддом был разбит бомбами еще в начале войны.
«Значит, не судьба, – подумала Ольга, – не выживет». И когда – она была уже в койке – к ней подошел, отворачивая белые рукава, военный врач, спросила:
– Худо дело?
– Как сказать, – вроде бы даже обиженно ответил тот. – Поторопилась, конечно. Даже пальцы на руках не вытянулись, ногтей еще нет. Но все в пределах, если верить тебе…
– Дак я…
– Понимаю, понимаю…
«Судьбу не обманешь», – спокойно решила Ольга.
– Отец воюет? – бодро спросил врач, готовя вслед слова побойчее.
– Убитый…
– Мг… да, – запнувшись, доктор едва успел удержать готовое сорваться с языка соленое словцо. – Да-а…
Что было потом, врагу не пожелаешь. С Санькой Мишка еще как-то водился, хотя и не мог многого осилить: пеленку, к примеру, застирать, сварить свежий отвар или сделать еще что-либо в этом духе. Водился через силу, не обретя к брату доброго чувства с самого начала, видя в нем причину своего безрадостного ребяческого существования. Он обделял младенца в пище, подолгу раскачивая качалку, научился утомлять его и часто усыплять днем, чтобы хоть немного развязать себе руки, а по ночам, укутавшись с головой, ловил сладкие сны под нескончаемый скрип соломенной кроватки, словно привязанной к материнской руке.
Ольга догадывалась о Мишкиных номерах, лупила его, как взрослого, чем попадя, но ничего поделать не могла: к битью сын был терпелив, а потому как уличить его в плутнях было невозможно, Ольга казнила себя за горячность, и Мишка это понимал.
Появление в доме сестры – кукольного, непонятного человечка – сделало жизнь Мишки совсем беспросветной. Поначалу Зинка, помещенная в братнину плетенку, долгими часами не раскрывала глаз, спала, и Мишка с любопытством вглядывался в ее резиновое личико – не померла ли. Но ее, как могли, поправили в госпитале – под банкой и в вате, как объясняла приходившим заводским Ольга, – и Зинка набрала силенок. У нее прибавились пальцы, заметны стали ноготки и ресницы, сквозь упорное кряхтенье все чаще пробивался точно мышиный писк.
На первое время Ольга нашла в дом старушку, чтобы была как своя, если приживется, но к холодам есть стало совсем уже нечего, давно в доме все было выменяно по деревням на все, что ни дай, только бы съесть, и бабка до того отощала, что не могла даже Зинку из зыбки вынуть. Ольга отвела ее назад, к ее родственникам. Все заботы о младших снова легли на Мишкины плечи, и в какой-то день силы его кончились.
Сестрица уже набрала голосу, к шести месяцам она расходовала его безудержно и щедро, словно только этим и укрепляла свою связь с удержавшим ее на последнем волоске миром. Верное Мишкино средство – укачка – ее не брало, и чем шире была болтанка, тем сильнее Зинка расхныкивалась, распалялась и заходилась наконец в отчаянном реве. Мишка зажимал ей рот, не давая воздуху, зло встряхивал качалку и молча глядел, как, стянутая свивальником, корчится, задыхаясь, вредная кукла.
Ольга научила его пеленать девочку, оставляла на виду сухие лоскутки и пеленки, но Мишка переворачивал Зинку лишь поближе к материному приходу, догадливо изминая и развешивая у печки якобы израсходованные тряпки.
В тот день, перешагнув порог, Ольга увидела в Мишкиных глазах, кроме привычного голодного блеска, что-то еще, потаенно-тревожное. Дочь тихо сопела в углу, Санька, видно, так и лежал весь день на своем новом месте за печкой, где они спали теперь вместе со старшим братом. Ольга взяла коптилку и прежде всего поспешила к малышке.
От блеска пламени Зинка сморщилась, и Ольга увидела у нее на носике и лбу ссадины, которые были неровно затерты мелом. Ольга схватила Мишку за руку, – тут он следы смыл, а на штанах, где он пробовал послюненным пальцем действие печной обмазки, пятна остались.
«Это она сама, это она сама», – твердил Мишка, ожидая неизбежного битья, но мать не тронула его, поголосила, помаялась, но драть не стала. Мишка так никогда и не сказал правды о том, как доведенный до крайности сестриным криком, он что есть силы размахал ее скрипучую качку, и Зинка выпала из нее на пол, как все трое они долго ревели дурными голосами, пока хватило сил, и как потом он обшарпал руками всю заднюю стенку печки, где меньше вытерлась побелка, и долго забеливал царапины на сестрином лице.
Наутро Ольга не пошла на работу, а снова добыла у родственников и привела к себе неведомо каким путем ожившую бабку, оставила ее доглядывать за детьми и потопала с Мишкой в далекую деревню, где у нее была забытая родня.
С родней ничего хорошего не вышло: троюродная тетка вроде бы и не вспомнила Ольгу и картофелины ей не дала, но в том же селе, да и по дороге, Ольга сумела кое-что выменять, кое-что выпросить у добрых людей, и вернулись они с Мишкой домой с грузом, поделенным на два места наперевес. Мишкин мешок узенький – сзади немного картошки и спереди еще меньше, и когда надо было переменить плечо, мать, как взрослому, поднимала ему тяжелый горб за спиной, и Мишка, пыхтя, напрягал руки и переносил перевязь над согнутой шеей.
Ольгу должны были судить за прогул, и опять ей помог бригадир Труфанов: где-то кого-то умолил, что-то взял на себя, – в общем, похлопотал. Опомнившаяся Ольга руки готова была ему целовать, лила слезы товаркам в заскорузлые ладони, и вся гордость ее осела где-то на дне души, как в глубоком холодном колодце.
Зинка, вопреки приговорам сердобольных пророчиц, уцепилась-таки за жизнь, выжила и, хотя долго не становилась на ноги, однажды все же поднялась на них – гнутых и слабых – и заспешила вперед, как и все. Но росла до крайности слабой, переболела всеми болезнями, отняла у матери всю ее оставшуюся свежесть и силы. Более всего пугала Ольгу ее неспокойность и боязливость: Зинка страшилась темноты, незнакомых предметов и особенно людей, заходилась в крике от пустяков, и с годами это не проходило.
После войны Ольга собрала семью в фотографию. Отменили карточки, на душе стало спокойнее. Фотограф снял их так: Мишка позади, Санька по левому, Зинка по правому боку. Санька, как солдат, – руки по швам, четырехлетняя Зинка, растопырив пальцы, надежно держится за мамкино колено. «Отцу словно бы и места нету», – отчего-то подумалось Ольге, когда она выкупила фото. Опять она погрустила, что многое было не сопережито, не истрачено с Георгием и так и истаяло в ней, перебрала-потрогала сохраненные его вещи, вдыхая след далекой памяти, и тут – как ни странно, именно на фотокарточке – обнаружила малопохожесть дочери на остальных детей.
Ни отцовских, ни своих черт не могла уловить Ольга в тонких линиях Зинкиного личика, вон и брови вроде бы у всех одинаковы, а и то у нее другого вида, и смуглости перебрала против братьев…
Это отметила Ольга, пришло в голову, а потом другое накатило: все целы, господи! И сытые почти, и одежка какая-никакая, и Зинка – вот она! – стоит и глядит, стоит и глядит!..
В классе – и это со временем подошло – Зинка стояла последней по росту и там же, с краю, по учебе. Повторять года не оставалась, но успевала с трудом, особенно после того как Санька устроился в ремесленное и перестал просиживать с нею вторую смену с ее уроками.
Ольга могла бы признаться, что к Саньке – как бы там ни было – легче всего добрела ее душа. Бесхитростен и открыт был младший сын, безотказен в любой просьбе. За Мишку же не так-то просто было поручиться, допустим, в том, что он добросовестно растолкует Саньке или Зинке заковыристую задачку или вообще последит, чтобы они не отлынивали от дела, когда матери нет дома. Может быть, где-то в своей горькой прямоте – «пусть делают сами»– Мишка был и прав: какой толк брать взаймы чужую голову. Однако Ольга переживала за его душевную, словно бы не родственную, скупость по отношению к своим.
Мишка не оттаивал и потом, когда вырос, стал самостоятельным. Отправляя его в техникум, в дальний город, Ольга извелась совсем. Заставляла Саньку по воскресеньям писать брату письма, вкладывала изредка в конверт разглаженный рублик или даже троячок, диктовала Саньке бодрые слова, чтобы подкрепить Мишку на чужбине. Потом не выдержала, – на отгулах, перекупив за полцены у соседки-железнодорожницы ее бесплатный билет, – съездила к нему, свезла что могла, из гостинцев. «Сынок, письма-то наши – получил?»– спросила Мишку. Тот, перебирая еду, пожал плечами. «А что же не отвечал?» Опять Мишка, привлекшийся чем-то в сумке, повел неясно плечом.
«Да, сынок, трудно ведь тебе», – этими словами и подвела тогда черту Ольга, успокоила и сына, и себя. И Саньке с Зинкой потом рассказала, как нелегко Мишке одолевать учебу, как тоскливо ему без дома и без них, но он все стерпит – он такой – и выучится всему, чему надо. И как бы наказ Мишкин передала Ольга – Саньке надо пример брать с него, а не чертогонить по вечерам, не зыкать по улицам так, что не дозовешься.
Но примера Санька не взял – не смог, а вернее сказать, не возымел охоты идти по следу набирающегося ума, а значит, копящего силы брата. С тем, что Санька – без особой натуги, словно походя, – приобретал в жизни: знания и дружбу, деньги, опыт, любовь, он так же легко расставался, не имея привычки жалеть о минувшем или остерегаться будущего.
Другие, как видела Ольга, редко шли по жизни легко, – все точно цепи следом волокли. А Санька плыл по воде, где было больше пространства, нимало не беспокоясь о мелях и водоворотах, и словно крылья не складывал никогда, хотя и набивал себе всяких синяков и шишек в безоглядном и беззаботном полете.
В детстве, бывало, по целым дням не ходил на уроки, – просиживал зайцем два-три сеанса в кино, а к сроку являлся на порог и сообщал ясные небылицы о своих школьных делах и заботах. Мать верила и не верила в его успехи, просила Мишку вникнуть в братнины домашние задания, пока сама соберется, но выдавалась ей такая возможность обычно лишь к концу учебы, когда Саньке уже зачитывали приговор – несколько предметов откладывается на осень. Но по осеням Санька отчитывался полностью, хотя и не видно было, чтобы прикасался когда к своим книжкам и уполовиненным тетрадкам.
А потом подошла очередь Зинки, – с той дело пошло еще натужнее. В школе Ольга авторитетом не пользовалась…
Санька выучился в ФЗУ на сварщика, хорошим стал специалистом, – по зарплате было видно, по его разговорам. «Знаешь, какой я сварщик? – говорил Ольге. – Знаешь какой? Во!» – и кидал кверху большой палец, присыпывал щепотью. Это когда мать принимала его заработок и удивлялась. А потом вкус к девкам почувствовал, гулял, женился – как чаю согрел, и после службы остался на Севере.
Собирался оттуда денег привезти мешок – «что хочешь, будешь делать», – а заехал из первого черноморского отпуска – на дорогу не было. Отправила Ольга и с собой дала, что. могла. Стоит Санька в модном плащике под крылом самолета, все никак не тронется с места. Потом по лесенке побежал, взобрался до верха. «Ну, ладно, все нормально…»– говорит что-то непонятное, уже и слышно плохо, потому что в стороне ревет другой самолет. «Да, сынок…»– шепчет Ольга и незаметно плачет отчего-то. А Санька трогает шейный ремешок от приемничка и кричит: «Хочешь, тебе оставлю?» Он даже шагнул было вниз, пошел, но наткнулся на руку бортпроводницы. «Куда вы?» Весы перетянуло в другую сторону, и Санька развел руками. «Боже упаси!»– машет рукой Ольга. «Новый пришлю! Новый!»– уже из дверного провала, еще громче кричит Санька…
Дочери в это время подходило к девятнадцати. Тут она совсем уже выправилась: и ростом – сколько надо для ровной девушки, и телом достаточно окрепла – чуть ли не всю работу по дому от матери переняла. Да и сказать, дел по уходе ребят оставалось – в день на легкую прогулку. К той поре только поняла Ольга, в кого у них пошла ее дочь, – в бабку Мотю, по отцовой линии.
Это верно: с лица воды не пить. Но лицо ведь и первое, что открывается в женщине, что останавливает начальное внимание. Расплылся как-то в памяти образ Георгия, но он не был дурен – это все видели, а если б еще не слабая рябота, обретенная в детстве, он был бы совсем привлекательным. Бабка Мотя, его бабушка, еще совсем молодая, узколицая и строгая, – на зависть пригожа на старинной карточке, где стоит, облокотясь на венскую спинку высокого кресла. Зинка, значит, отросла от ее корня.
Ребята были светлей, шире в кости и как-то вообще проще телом и внешностью, – это была другая порода. Тонкие линии скул и бровей, гладкие, не в пример всем Минаковым, волосы, забранные за спиной в пучок, быстрые движения – все отличало Зинку от матери и братьев. Про таких обычно говорят – от другого отца или, еще занятней, – не в мать, не в отца, а в прохожего молодца. Эту выкладку соседских и заводских глаз Зинка знала еще в малолетстве, но оценила много позже, когда начала жить своим умом.
Когда стало ясно, что со школой дочери не сладить, Ольга стала подыскивать ей место на заводе, поближе к себе, к глазу. Сама учетчица – так и прижилась на этом месте с той поры, как донашивала Зинку, – Ольга знала про все специальности и своего, и соседних цехов, но нигде не видела подходящего для дочери занятия.
Для проверки она сводила ее на производство – и только расстроилась: цеха перепугали Зинку пуще школы. Возвратись домой, она ушла за переборку – Санька ее поставил на место занавески и как бы отделил добавочную комнату – и не выходила оттуда до самого ужина. А потом вместо еды расхлюпалась, повисла у матери на шее, и горевали они обе не один час.
«Доченька, доченька…»– только и повторяла Ольга отрадное словечко и оглаживала тонкие волосы, прижимала к груди круглую головку. И пальцы ее подрагивали и точно дошептывали, касаясь мягких гладких прядок: «Надо, милая… надо, милая…»
Ольга вернулась в мыслях на завод, к тому, как заводские парни, да и девки, острили глаза при взгляде на Зинку, удивляясь ее миловидности, и прижала открытые губы к гладкой дочериной макушке, зашлась в беззвучном стоне. «Ее в артистки надо записывать», – сказал кто-то в цехе. А Зинка ходила среди плывущего звона и лязга, и крепко схваченная Ольгина рука едва гасила скрытый трепет ее ладони – все жилки ее отзывались звукам машинной работы.
Лицо лицом, но и стать вроде бы была у дочери: и плечи в меру широки и откинуты, и грудь не слабая, ладные ноги. Но вот словно струнки какие-то внутри ее оказались недотянуты да так и закаменели невыправленными, и ничего с ними уже не сделаешь.
4
Ольга сняла с пальца кольцо из серебряного полтинника, поскребла ногтем пятнышко, потерла об рукав, подышала на помутневший ободок. Она занялась вдруг своим единственным талисманом, словно он был невесть каким драгоценным и стоил всего ее внимания. Внутренняя поверхность ободка, прилегающая к пальцу, была ровной и блестящей.
«Господи, что это я?»– подумала она с каким-то горьким самоосуждением. Лицо ее вдруг приняло выражение, схожее с видом лица учителя, вдруг почувствовавшего, что ученики могут не воспринять того, о чем он, волнуясь, рассказывает им. Что она могла объяснить сыну, более полжизни прожившему вне дома, вне ее забот и печалей?..
Но с первым же новым словом точно вновь замкнулись узы общности чувств, – сомнения растаяли.
– Отец… Да ему иногда хоть трава не расти. Сам как дите. Сунет конфетку Лариске – а ей нельзя этого, и так никакого аппетита нету; даст Вовке гривенник на мороженое – и хорош. Детям – чего им надо? Хоть бы раз купил обужу, одежу, об чем еще позаботился… Это не в его поведении, не-ет. Что жена обносилась – тоже не волнуется. Как квартирант.
Ольга чувствовала, что ее горькие слова о зяте вызваны не только его дурным поведением, но и какою-то другой силой, рождающейся от общения с Михаилом. Получалось так, как если бы сам Михаил своими словами поднимал в ее душе ядовитые осадки и вызывал ее ожесточение…
– Он все там же трудится? – спросил после небольшой паузы Михаил, не особенно ясно, в общем-то, представляя, где работает его зять Анатолий.
– Где – там? – недоверчиво отозвалась мать.
– Ну, где он на последнем месте работал?
– На телефонном. Так он давно уже там…
– Вот я и говорю.
Ольга поняла, что Михаил не очень знает, что там и как там у них дома, но, чтобы он не заметил этой ее догадки, перевела стрелку:
– Он ведь что, сынок, подчас делает. Набирает по рублику у соседей, а отдавать-то надо? А Зинаида не учитывает это, не сходятся концы. Пока Лариска на ноги не встала, я у них и ночами часто была, все его концерты поглядела. Наизусть знаю. И в два приходил, и в три приходил, еще и с чужой помощью – такие же варнаки притаскивали.
– Ну, это уж ни в какие ворота не лезет, – где-то улавливая материну манеру и подражая ей, произнес Минаков. – Таких просто учить надо.
– Дурака учить, что мертвого лечить.
– А соседи-то, хамы, зачем дают?
– Смешной ты, один руп – кто не даст? Да и что соседям-то, это их разве дело?
– Это дело всех, мам. У меня, между прочим, тут тоже есть сосед. – Минаков обернулся к жене – Скажи, Лид?
Лида закивала головой. Минаков продолжал:
– Так было наладился – регулярно: рубелек да рубелек, рубелек да рубелек, больше не просит, а – рубелек. Я как-то спросил: на что? Он даже, хам, удивился. Как на что? На это, – Минаков почесал горло. – Турнуть не турнул, но, говорю, нет, шабаш. На хлеб дам, на это – не будет.







