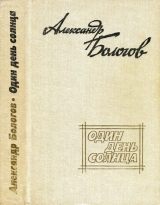
Текст книги "Один день солнца (сборник)"
Автор книги: Александр Бологов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 25 страниц)
А трезвый – не надо бы лучше. И семья их, выходит, теперь главная в роду, – с разными детьми, с крепкою крышей. И на кого не надеялась, к тому и приросла. На остаток дней…
Свадьба спорая – что вода полая… Мишка об этом и сказал, когда мать впервой пожаловалась на Толика. Сама, мол, торопила за первого встречного, а он-де брат родной, даже и не знал, что Зинка – их Зинка! – уже гуляет. Лида – женщина, большее постигла в этом деле, она и поддержала Ольгу в разговоре. «Подожди, подожди, вот будет своя, посмотрим, как будешь пристраивать, – сказала, вроде бы смеясь. – Это тебе не парень». Сейчас бы она, может, и не сказала, а тогда – недавно поженились – о своих, как о верном, думалось.
На сестриной свадьбе и Санька объявил о своей, все подумали – смехом. И видно было, что смехом и что эта его идея вызревала в потоке застолья, как рыбья икринка в бегущей воде: пока омывалась, и взбухла.
– Приглашаю всех, кто есть! – совсем завелся он под конец, к досаде младшей Вариной дочки, оказавшейся за столом с ним по соседству и, кажется, успевшей за один вечер, как в омуте, пропасть в его ясных глазах. Будто не видела давно, и за год службы невесть что случилось с парнем – стал таким аппетитным.
И ведь, как на грех, тоже Валя, как и зазноба, что он всем показывал на карточке.
Кто был покрепче, видел, как потеряла себя в конце концов Санькина соседка – ни одного тоста не пропустила, смеялась ему в самое лицо. И Варвара не выдержала. Когда кто-то хмельной и глазастый выкрикнул «горько!» не молодым – те в этот момент выбрались из-за стола проветриться, побыть без людей, – а Саньке с Валей, незаметно как оказавшимся в обнимку, Варвара в горький смех попытала:
– Рази моя Валя хуже? А? Санек?
Санька покраснел, точно его накрыли с чем-нибудь нехорошим. Руку с плеча соседки не опустил, но держал ее уже не вольно, а как чужую, и Варвара готова была откусить свой проклятый язык. Глубоко, видно, занозила сердце матросика северянка… Но ведь, однако, и мужиков Варвара знала, – им ведь только махни подолом…
– Я ее к себе на свадьбу зову, – сказал Санька, и Валя, закрыв глаза, кивнула, словно они и в самом деле шептались об этом.
…Зинкину свадьбу отгуляли в один прием. На второй день, правда, тоже посидели, но только своим кругом, и это уже больше походило на проводы, потому что в центре внимания оказался отъезжающий брат.
Все утро в коридоре шумел примус. Женщины мыли посуду, скребли и замывали пол. За стол сели поздно, – дважды Ольга посылала Зинку за Грибакиными.
Наконец пришли и они.
Санька сидел помятый и не выспавшийся, – щеки потемнели, ушли внутрь. Глаза его погрустнели еще больше, веки опустились чуть не наполовину, захватив верхний край серой радужной оболочки. И закрывал он их не быстро, миганием, а словно с натугой, как действительно тяжелые.
Ольга, поглядев на сына и на Валю Грибакину, отметила летучей мыслью, что они в чем-то одинаковые, сидят – будто обмытые одною водой. Спал Санька на погребе, под полунасыпной крышей, где летом часто ночевал до армии. В этот раз Ольга отнесла ему туда стеганое одеяло.
Варвара выждала ее у свистящего примуса, зацепила за локоть.
– С им провела ночь, – кивнула она в сторону комнаты, где за столом сидели все дети.
– Скажешь… С кем же еще?
– Я не про венчанных…
– А про кого же?
– Так уж не расчухать…
Ольга обеими руками схватилась за грудь:
– Ва-аря!..
– Я сто лет Варя.
– Валюха? С Сашкой?! – Ольга не верила.
– Ну.
– Бро-ось!..
– Вот тебе и брось. Он на выходе спал? Выпросился?
– Дак в хате же молодые…
– А ты в колидорчике? А на воле была? Интересовалась?
– Господи-и!.. – Ольга покачала головой.
Варвара взяла у нее из рук сковородник и наклонилась над примусом:
– Не обмирай, раньше надо было обмирать.
Ольга не знала, что и делать.
– Бесстыжие!.. – сказала она, пусто глядя в дверной проем во двор. – Да я их!..
Варвара даже не обернулась от сковородки, сказала:
– Что ты их? Бить, что ли, будешь? Моя хвостом завертела… С задворков начали, сотаны! Рази к этому так идут?! А я-то дура!.. – Она вздохнула. – А твой тоже – гусь. Под носом взошло, а в голове не посеяно.
Варвара взялась за ручку двери и добавила – закончила разговор:
– Не порть свадьбу. Идем…
А Санька сидел как истинно умытый: рукава тельняшки закатаны, густые материны волосы приглажены на лоб. Ольга поймала его приугасший взгляд, стрельнула жгучей пулей: «Как же ты так, а?» – «Как – так! – прочитала быстрый ответ, а за ним другой, ясный-преясный: – Маманя, не надо… Не надо…»
И не задержалось зло – унеслось со всепрощающим вздохом. «Вот и уедет, – подумала Ольга, – и словно и не был, а приснился. Своя жизнь у веточки: пересади – приживется, закрепится корняхми в другом месте, своими листами обрастет… А ранка на отрезе поболит, ой, поболит, пока затянется, заровняется. Веточка отрезана… Что себя обманывать – отрезана…»
Ей захотелось сесть поближе к сыну. И Варвара, словно догадавшись об этом, подтолкнула ее к свободному месту, как ни в чем не бывало распорядилась:
– Ну-ка поближе к сыночку! Улетит на часу соколик…
И Валя, тихо улыбнувшись, легко отсела еще дальше, давая ей место пройти.
Все вины детей – вины матери: себя ругай в первую голову. Да и есть ли за что? Варваре сказать – не дорого взять, давно ярится на девку…
– Ну, за сеструхен, за невесту, за жену то есть уже, за Толика. Счастья им и вот такой полной жизни! – Санька вынужден был подставить ладонь, чтобы не пролить водку на стол. Рука подрагивала. – И не забудьте про меня. Я помню, что вчера говорил. Буду всех ждать на своей свадьбе, а про время сообщу…
«Ничего у них не было, – обрадовалась Ольга, – иначе бы разве говорил он так? А если и ночь провели, чего тут такого? Мало ли на гулянках ночей просиживают…»
Санька сказал тост и, как-то злобно поглядев на готовую выплеснуться водку, опрокинул рюмку в рот.
«Как мужик, – подумала Ольга. – А худющий, плечи широкие, – много надо нагуливать…»
Такой был с детства малого. На купанье встанет, бывало, в тазу, выгнет живот дугой: «Давай споласкиваца!..» – «Ну-ка, руки по швам! – скомандует Ольга. – С гуся вода, с сыночка худоба!..» И льет потихоньку на гладкую макушку остатки воды, скребет по дну кастрюльки кружкой, словно до краев набирает теплой ласковой окатки.
Женился Санька в самом деле очень скоро, но на свадьбе у него никому из своих побывать не пришлось: город, где он служил и где жила его невеста, находился далеко и, чтобы проехать туда, надо было выхлопатывать особый пропуск.
Более всего жалел об этом Толик, а в назначенный Санькою день приглашения он пришел домой распьяным-пьяный, поколобродил, потолкался из угла в угол, поминая далекого шурина, и в конце концов в чем был, в том и уснул, едва приткнувшись к кровати. На Север отбили поздравительную телеграмму.
Но, как чувствовала Ольга, жизнь у Саньки складывалась непросто. Сразу же после демобилизации они с Валей заехали домой по пути на Черное море, – у всех северян заведено каждый год ездить на курорты.
Зинка только что вернулась из роддома. В углу попискивал наследник, на комоде рядком стояли размеченные на граммы молочные рожки. Род продолжался.
Едва поздоровались, Санька забрал с собою Толика и умчался с ним в город. Вернулись они с шикарной детской коляской, подвыпившие, веселые.
– Сеструхен, вот тебе карета твоему Владимиру Мономаху, – сказал Санька, очень довольный, что удалось подарить ей именно то, что они наметили с Валей. И Валя радовалась удаче с коляской, целовала Зинку много раз, глядела, довольная, на мужа, точно и он был такой же красивый, как и его сестра.
Родилась вскоре дочка и у Вали. Санька писал редко. Письма были беспечны, но жизни своей он в них особенно не касался, и Ольга только сердцем чуяла, что не все у него гладко. Когда Вовку удалось устроить в ясли, она решила истратить отпуск на поездку к младшему сыну, – больше всего хотелось поглядеть на внучку.
Предчувствия не обманули – Ольгу встретила одна сноха. Она и рассказала все подробности жизни. Санька жил как птица: не пытался свить надежного гнезда, не заглядывал особо далеко вперед. «Обо всем надо хлопотать, – жаловалась Валя, кивая на застывший угол комнатенки, – а ему все хорошо, ни к какому начальству не выгонишь. Места в яслях и то сама добилась, сколько порогов обила… Теперь вот уехал…»
Санька уехал на строительство атомной станции. Там ему обещали многое, но жене он писал в основном о том, какая там грандиозная стройка и как ценят его на работе. «Хвастун он», – сказала Валя, протянув Ольге два его коротеньких письмеца.
Он звал Валю к себе. «Какой-то малахольный, – пожала та плечами. – Кто мне там няньку приготовил?»
Потом, как узнавала Ольга по редким письмам с Севера, Санька вернулся, работал некоторое время на рыбокомбинате, но опять затосковал по новизне и подался на другую крупную стройку, в Кислую Губу, – там возводили первую в стране приливную электростанцию. Он чувствовал себя незаменимым и здесь, получил комнату, вызвал к себе своих. Валя, чтобы сохранить семью, послушалась – перебралась к нему, но вскоре вынуждена была вернуться назад: жить в бараке с маленькой дочерью было невозможно, а большой благоустроенный дом, где им должны были выделить квартиру, только закладывался. В результате всего Валя, ничего не приобретя, потеряла многое: привычную работу – она была медсестрой – и, что было не менее обидным, место в яслях. «Хорошо хоть комнату за собой оставила, – писала она с горечью Ольге, – а то бы сейчас кусала локти…»
Со временем, правда, все устроилось, но обиды на непоседливого мужа все накапливались и накапливались. «Уж лучше бы пил, – сетовала Валя, – да рядом был. А то все приключений на свою голову ищет». С этим Ольга согласиться не могла – пример зятя был для нее не менее горек, – но чувствовала, что невестке действительно нелегко с ее сыном. Два горя вместе – третье пополам. А так – что же…
На Кислогубской станции Санька попал в аварию: оборвавшейся секцией арматуры ему сломало ключицу, повредило ногу. Вертолет лесной инспекции срочно доставил его в областной центр. Там его оперировали, там он и долечивался, и Валя навещала его часто. Иногда она приходила с дочерью, говорила: слава богу, отбегался… Но Санька не менялся и, находясь еще в больнице, решил по выздоровлении махнуть на Шпицберген, о котором многое рассказал ему сосед по палате…
С Толиком он сошелся, будто брата родного обменял, и встречи их тоже редко обходились без приключений. В один из своих приездов, например, Санька наведался к Толику на телефонный завод, и того в будний день отпустили с работы – дали двухдневный отгул. Зинаида даже перепугалась – не выгнали ли? В другой раз братец отчубучил похлеще. По дороге на юг заехал домой и купил мотоцикл. Зарегистрировал его на Толика, оформил себе дарственную и укатил свободным маршрутом в Феодосию, – там у него тоже объявился какой-то приятель. Через месяц среди ночи во всю силу затарахтел мотором под материными окнами, – вернулся. Живой, но покорябанный, и мотоцикл с одного боку помятый.
– Ничего, найдешь эмали, заровняешь, – сказал Толику и оставил ему машину в подарок.
20
– А как тетя Варя-то? – спросил Михаил. – Действительно, ей досталось.
– Не говори, сынок, – ответила Ольга. – А знаешь, ничего ей не деется.
– Она ведь постарше тебя?
– Да-а, намного.
– Намного?
– Да как же, на четыре года почти…
– Вот уж как вы годы считаете… – Михаил повернулся к жене – Знаешь, Лид, как родная была.
– Отчего же была, она и сейчас есть, – сказала Ольга, – суетится, откуда силы берет. Счас-то стало полегче – все дочери на ноги встали, а уж что пережила – не приведи господь. Да что тебе говорить, сам все знаешь. А правда, ничего ей не деется, все такая же…
– Да-а, – Михаил закрыл глаза и потер пальцами переносье, – нелегко было тетке.
– Не говори, сынок…
– А как дочки-то ее?
– Да как… Старшие две отдельно живут – замуж повышли, скоро после Зинки, а младшие с нею все.
– Никак не получается?
– Замуж-то?
– Да.
– Дак это, сынок, такое бабье дело – не берут, да и все тут. – Ольга развела руками. – Такая доля бабья.
– Да у них же парней было хоть отбавляй! Я же помню, всю дорогу калитка хлопала.
– Каждый вхож, да не каждый гож, сынок. А сейчас как ребята смотрят: двадцать пять годов – и уже перестарок.
– В Японии тринадцатилетних в жены берут.
– Гос-споди, твоя воля…
– Да-да.
Ольга и говорить дальше не захотела о таком безобразии. Она сказала:
– Анюта-то у Вари с дитем, без мужа заимела.
– Что, промахнулась? – засмеялся Михаил.
Ольге не понравилась его шутка.
– Вот уж не знаю, – сказала она, поджав губы, – только думаю, наоборот, в самую точку попала – очень она хотела ребеночка. А я не осуждаю таких.
Не стоило бы вести подобные разговоры при Лиде, подумала Ольга, – глаза той сразу тускнеют при упоминании о детях. Но ведь не она же начинает эти речи… Сын начинает, он думает об этом, – наверняка.
– Не осуждаю, – повторила Ольга.
Михаил как-то странно усмехнулся и пожал плечами: как хочешь, мол, дело твое.
А у Ольги вдруг стало горячо во рту. Она смогла до сих пор не дать себе воли поддаться тому, о чем собиралась сейчас спросить сына, что везла к нему с большой тревогой и тяжелыми сомнениями. Нашла в себе силы удержать рвущийся из груди огонь, кровью сердца заливая готовые вспыхнуть тлеющие головешки. Но вот уже второй день, как она у него в доме, но ни разу не удалось им хоть на малое время остаться вдвоем. А если и случится такое – окажутся они с глазу на глаз, – сумеет ли она открыться, хватит ли ей сил сказать ему все, что нужно? И что именно тут нужно? Рассказать все, что передумала за это время? Это какой же получится разговор!.. И нужно ли все это? Идет жизнь, течет жизнь, а чья-то – в стороне… А если все-таки говорить, с чего же начинать-то?..
Ольга была в нерешительности, но что-то в ней было уже неподвластно ей самой. Еще продолжая думать о сложности предстоящего разговора, она уже произнесла самую главную фразу:
– Миш, Тамара умерла…
В первые минуты Минаков и впрямь не понял, о ком идет речь. Он хотел продолжать разговор о Грибакиной Анюте, – пикантные вещи были ему по вкусу, это и Лида прекрасно знала. Но мать повторила непонятную новость и ни одного слова больше не прибавила: «Тамара умерла…»– значит, надо было вникнуть в суть.
– Какая Тамара?
– Позднякова…
«Елки-палки!.. Позднякова! Тамара! – Минакова точно вдруг окатили водой. – А откуда она ее знает? И что умерла, и что… Что там у нее еще в голосе?..»
– Что ты говоришь?.. – За короткую паузу он успел взять себя в руки, и удивление его было таким, как если бы дело касалось хотя и хорошо знакомого, но все-таки постороннего человека.
– Умерла…
«Что она заладила – умерла, умерла!.. Дочь родная, что ли, преставилась?.. И почему таким тоном?»
Михаил пока никак не соотносил начатый матерью разговор с тем, что произошло у него с Поздняковой Тамарой в одну из побывок дома. Но он уловил в ее голосе нечто большее, чем просто сообщение о несчастье чужого для них человека, и насторожился.
– Это из нашего класса, – как бы между прочим, сказал он Лиде и, громко втягивая из чашки последние капли остывшего чая, спросил – Что-нибудь случилось?
– Болела тяжело она. Профессора лечили, да не вылечили…
Ольга не ожидала, что Михаил встретит ее горькую весть так спокойно. Конечно, он другого склада, и рядом находится Лида, – он думает об этом. Но ведь она ничего такого не рассказывает – что она, рехнулась, что ли! – сказала только о главном, чтобы этим начать разговор… Но и это его не очень затронуло, он даже чашку не оставил. Господи, а она-то думала… Как оплеванная теперь…
Но Михаил вдруг снова взялся за графинчик – там на дне еще оставалась водка, и графинчик тревожно звякнул горлышком о стопку, – видно, дрогнула рука. И Ольге показалось, что все они – в том числе и сам Михаил – это отметили, и ей стало на секунду полегче. «Господи, пьет-то сколько», – мелькнула попутная мысль, но тут же затерялась мелкой щепкой в половодье тревоги.
А Михаил плеснул водку в рот – без тоста, без обращения к матери и жене – и сморщился, как не морщился в это утро ни разу: после сладкого теплого чая водка показалась прогорклой и противной.
Лида хотела что-то спросить у него – уже губы приоткрыла, выжидая, когда он перетерпит первую горечь во рту, но Михаил сильно выдохнул и, опережая ее, проговорил:
– Рак, наверно? Сейчас это самая ходовая болезнь…
– У нее была другая болезнь, – сказала Ольга, ожидая, что сын спросит, какая именно. Но он вел свое:
– От рака сейчас умирает чуть ли не половина всех больных, и процент все растет, – сказал он сумрачно, словно сам был ответствен за это. – Но в Америке компьютеры – такие машины вычислительные, – это он объяснил матери, – уже высчитали, что человек, который должен открыть способ его лечения, уже родился, уже живет среди нас.
– Кто ж это?
– Да это не конкретно кто-то, это условно: знаний уже столько накоплено, что открытие – буквально на пороге.
Ольга не очень поняла, что это такое – условный человек, да и, честно сказать, не интересовал он ее. Просто потянул сын ниточку – пришлось откликнуться. Она увидела, что и Лида, вроде бы проявившая вначале интерес к имени Тамары – это можно было заметить по ее лицу, тоже повлеклась другим течением.
– У меня начальница была у своей знакомой в онкологическом диспансере, – сказала она, – такое рассказывала…
– A-а! – Михаил мрачно махнул рукой. – Никто ничего не умеет и не знает. Режут, режут, а метастазы – как радиация…
Было похоже, что разговор о болезни пойдет вглубь и вширь, и будут другие примеры, и через сочувствие людям, пораженным этим страшным недугом, вырастет жалость к себе – всегда открытой мишени для ее коварной стрелы.
Ольга смотрела на заметно отяжелевшего от водки сына, слушала его жесткие слова и думала, что ее весть все-таки расстроила его. Просто он очень выдержанный, умный и понимает, что уже ничего не поделаешь, а значит, и нечего мотать душу, зря изводить и себя, и других. Ну а правда, как же иначе должен был он отозваться на ее рассказ? Тут же во всем покаяться? Да разве в этом каются, господи!.. И зачем же это сейчас? Совсем уже сдурела, старая… Мишка не знает другого, может быть, не менее важного для теперешнего дня, что прежде всего и занозило ее сердце…
– Миш, а у Тамары ребенок остался… А отца нет…
Лида уже поняла, что разговор повелся неспроста, она очень внимательно, с большим любопытством смотрела на мужа. Лоб у Михаила был наморщен, как у старого старика, зубы стиснуты.
Вот оно что… Он же с самого начала видел в материных глазах что-то скверное, слышал вкус этого скверного во всех ее словах… Что же, ради этого она и приехала? Не может быть…
Неужели Позднякова была такой идиоткой? Такой дремучей дурой!.. Елки-палки!.. А как же он-то вляпался?.. Он же всегда следовал в жизни железному правилу: «Делай все так, чтобы за кормой было чисто…» Мало ли что было…
Все сплыло. Все отрубалось, забрасывалось, как камни или как слепые котята на глубокое илистое дно всеми забытого озера…
А как оборачивается… Какой кошмар!.. И всегда – когда не ждешь. Просто – закон, ну просто – закон…
Не думал, что с такого расстояния она ему чем-то ответит, все-таки ответит… Ах, придурок, неужели он ее не знал?..
Ребенок… Елки-палки… Что же он теперь – школьник? Это же сейчас ему…
– Большой? Сколько лет? – Минаков спросил, не подымая лица.
«Господи, твоя воля… Неужто решил, что это от него?»– беспокойно подумала Ольга и быстро ответила:
– Годика три…
Она смотрела, как сын медленно отнял от лица руки и повернулся в ее сторону, как, чтобы сохранить спокойный вид, крепко сопротивлялся он нежданно накатившей радости, – так же точно, как всего минуту назад прятал, утаивал внезапно охватившую его тревогу… Лицо его менялось зримо: вот на лбу разошлись складки, размягчились скулы, в глазах забегали теплые огонечки…
– Годика три? Вот как… Годика три… И нет отца? Это что же, как у Анюты?
Михаилу было смешно. Елки-палки, чего нафантазировал! Сам себе не поверил! Лопух! Вот лопу-ух!.. Хорошо хоть не бухнул чего зря…
Он откинулся к подоконнику и удобно прижал к его прохладному – ребру тугую спину. Он снова двигался по своей колее. А как это здорово, как здорово все-таки быть на своей колее, быть самим собой, обычным и привычным, – ведь это другие делают из тебя черт знает что, выбивают почву из-под ног, и ты плаваешь, как подвешенный, как… это самое – в проруби. А главное – это опора, твердая и надежная опора. Не терять ее – это еще один из жизненных принципов…
– Хороший мальчик, я видела его, – сказала Ольга глухо.
Видела, да. Он чуть с ног ее не сшиб тогда, у калитки, – так шустро удирал от бабушки. А потом, на ходу, взял их обеих за руки – и свою бабулю и Ольгу – и поглядывал снизу озорными глазами…
Повеселевший Михаил что-то горячо говорил. Но слов его Ольга не слышала, только кивала полегчавшей вдруг головой гам, где это делала Лида, и, по Лидиному же примеру, изменяла выражение лица: хмурилась, пыталась улыбаться…
Все ведь так и есть, как должно быть… Что это они с Зинкой напридумывали? Господи-и!.. Да разве отдала бы эта старуха внука? Да ни в жизнь! Вот напридумывали, разложили, что куда… Как курам на смех… Дура-баба – жизнь прожила, ума не нажила… Своих бед мало – в чужую лезешь?..
А Мишка… Мишка, конечно, с головой. Вот он и Лиде не дал повода в чем-то засомневаться, ее саму вовремя приструнил… Ведь чуть не брякнула по-глупому, приготовила уже: «Миш, а мы с Зинкой решили к себе его взять…» Отчего это? По какой такой нужде? Ну вот спросил бы он: «Ты что, мать, в своем уме? У тебя что – приют? Ну, насмешила!..» И что бы ответила?..
Ольга поглядела на сына попристальней, каким-то общим нервным усилием очистила слух… Михаил жарко говорил Лиде:
– Они объяснили это коронарной недостаточностью, – дескать, атеросклероз, тромбоз и тэ дэ, а когда вскрыли – шиш, ничего подобного!
Голос его был трезвым и твердым…
21
Во второй половине дня Михаил и Лида отпросились у Ольги в кино. Но пошли они не в кино, а к своим друзьям Приваловым и там просидели за воскресным столом допоздна. Вернулись домой глубокой ночью, Михаил был изрядно хмелен. В прихожей, разуваясь, потерял равновесие и чуть было не завалился на бок, – наделал много шума.
– Миша! Ну ради бога, ну что ты!.. – Лида, чтобы не потревожить свекровь, прикрыла комнатную дверь.
Но Ольга не спала. Она сидела в темноте и поджидала хозяев. Когда они вошли в комнату, она включила свет и сказала, как и всегда говорила своим детям в таких случаях:
– Господи, я уж испереживалась вся!..
– Маленькие, что ли… – ответил Михаил. Он недовольно глядел на бодрствующую мать. – Чего не спишь-то, елки-палки?!
Ольга, сморщенная, неспокойная, словно пересилившая в себе большую боль, сказала:
– Я уезжаю, сынок…
– Чего-о? – Михаил, уже направлявшийся в дальнюю комнату, повернул к ней смурное лицо.
– Уезжаю я…
– Куда?
– Куда же, домой… Я и билет на завтре взяла…
– Как взяла? Хм… На московский поезд? Да он же проходной, на него билеты-то дают за час до прибытия…
– А мне дали. У вас же свой вагон цепляют и в него дают на любой день…
22
Поезд отходил близко к обеду, и Мишка прибежал проводить мать. Он шел к вокзалу быстро, чтобы успеть хоть за несколько минут, разгорячился. И солнце светило не по-весеннему – ровно и ясно. Минаков вспотел…
В шапке было жарко, и Минаков снял ее, ощутив на мелко стеганной подкладке скользкую влагу. Ладонью он провел по мокрому лбу, вискам, как бы поправляя прическу, а на самом деле сгоняя к волосам обильно выступивший пот. Потом медленно распрямил лопатки, чтобы рубаха плотнее облегла спину, и поочередно притиснул к телу сунутые под мышки кисти рук. Неприятный зуд под мышками исчез.
«Вот хамы, задерживают поезд, – с растущим раздражением думал Минаков, то и дело поглядывая на перронные часы. – Никогда тут порядка не будет…»
Он перевел взгляд на окно вагона, приподнял руку. Мать, приблизившая лицо к самому стеклу, в ответ прикрыла глаза и легонько закивала головой. Когда она подняла веки, Михаил снова, косясь, смотрел на часы…
Ольга поздоровалась с соседями по купе. Сухонькая старушка заправляла в кефирную бутылку пучок березовых веток с лопнувшими почками. «Господи, скоро же пасха», – вспомнила Ольга.
В горле с самого утра не рассасывался тугой комок. А как только она увидела на перроне сына, совсем стало невмочь… Прямо не взять воздуху… Так вот в детстве – ох, память, как отмеряет былое! – она не могла однажды продохнуть от волосатой пробки в груди, наглухо перекрывшей путь дыханию. Хоть помирай… На пасху мать снарядила ее в Старый Воин, в церковь, за святым огнем, а у нее на обратном пути задуло свечку, – видно, развернулся как кулечек, закрывавший пламя. Уже своя деревня была близко, Ольга – от радости, что сохранила огонек, – ног под собой не слышала, ликовала и наказала сама себя: погас огонек. Повернула было назад, да уж тьма подошла, и огарок вконец истаял и оплыл – и на полдороги не хватило бы.
Вот тут и подступила к горлу каменная тяжесть… Матушка, царство небесное, очень набожна была, но не от страха перед нею было горько, – так близка казалась радость от исполненного дела. Когда размяк в зобу ком и ручьем плеснули жаркие слезы, от Старого Воина подошли две богомолки, с огоньками, умело сберегаемыми в газетных фонариках. Они кое-как утешили Ольгу, зажегши ее остывшую свечу и уверив отчаявшееся дитя, что источник святого огня един и не теряет сути своей от множения. Но без прежней радости передала Ольга матушке огонек. Затаясь, смотрела, как возжигает она лампадку чужим пламенем, и дробный подыконный светлячок казался ей ложным и жалким…
Наконец Михаил поднял руку – загудел локомотив.
«Живите с миром… До свиданья, сынок… До свиданья!..» – Ольга коротко, словно крестила рукой, махала сыну в окошко, губы ее беззвучно двигались, глаза заволокло слезным туманом…







