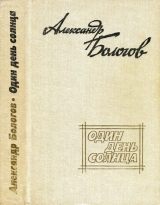
Текст книги "Один день солнца (сборник)"
Автор книги: Александр Бологов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)
…Михаилу было уже двадцать пять лет, и он уже заканчивал институт. Отдых у него был небольшой, недели полторы, а до этого он без малого два месяца проработал со стройотрядом в Белоруссии. Он купил себе выходной костюм и – что было для него не совсем обычным – все эти полторы недели прожил праздно: купался в речке и пролеживал по нескольку часов на пляже, ходил в кино, гулял по городу.
Однажды возвратился домой далеко за полночь, на манер Саньки, – у того в свое время это было в порядке вещей, особенно в последние дни перед армией.
– Сынок, я уж беспокоиться стала, – сказала Ольга, отворив дверь.
Михаил вытянул руку к притолоке, согнулся и на ходу ответил:
– Да брось ты, мам, что со мной случится?..
Он молча разделся, повесил костюм на спинку стула и лег, – вроде бы сразу уснул – так показалось Ольге. Но Михаил не спал. Долго, очень долго, вытянувшись во весь рост, лежал он с закрытыми глазами и, не торопясь, последовательно, стараясь как можно ярче, «натуральнее» оживить в воображении картины происшедшего, воскрешал в памяти события минувшей ночи.
Чувство утоленного самолюбия переполняло его, напряженными ладонями, словно остужая себя, он оглаживал под одеялом свое тело, прерывисто дышал. И вместе с тем ему было как-то не по себе, как часто бывает в предчувствии неясной опасности.
А через день он уехал, – даже раньше, чем поначалу предполагал. И в вечер того же дня к Ольге пришла Тамара.
«Тамара, Тамара… Господи, как я ему скажу-то?»
На фотокарточке лицо Тамары было совсем капелечным, ничего нельзя было разглядеть, разве что общую суть. Но именно эта общая суть с годами сохранилась в ее лице вернее, чем у кого-либо другого из их класса. Брови, сомкнувшиеся еще в раннем возрасте, не потеряли со временем ни первого рисунка, ни цвета, только более уплотнились и как бы окрепли, так же как и крупные черные глаза. Другое в лице Тамары как-то не замечалось, во всяком случае при первом взгляде.
Даже по сравнению с Михаилом Тамара была более серьезным человеком. Она серьезно училась, одинаково ровно относясь ко всем предметам, серьезно разговаривала с людьми – и сверстниками, и взрослыми, смеялась и то, кажется, серьезно.
Мишка, более всего в последний год перед техникумом, подросши, втайне завидовал ее выдержке и основательности, за которыми усматривал недоступное для него достоинство. Как девчонка она не вызывала в нем особого интереса, но ее природная сообразительность, естественность реакции на любое событие, ее невозмутимость породили в нем смутную неприязнь к ней.
Желание хоть один-единственный раз сказать умнее и справедливее ее, совершить какой-нибудь невероятно благородный – ей на удивление – шаг и при этом не придать этому значения постоянно тлело в Мишкиной душе. Иногда, чаще всего при дурном настроении от собственных неудач и одновременных триумфов Тамары, это чувство превращалось в другое: хотелось унизить ее, каким бы то ни было образом покорить, поставить в безвыходное положение, требующее его, Мишкиного, участия.
В школе это никак не удавалось и не удалось. Тамара сидела впереди, за соседней партой, ее затылок постоянно находился перед Мишкиными глазами. Он изучил едва ли не каждый волосок на тонкой несильной шее, каждую линию легкой Тамариной головы.
«О чем она сейчас думает?»– часто спрашивал он себя, устремив взгляд вроде бы на доску, а между тем подробно рассматривая Тамару. Этот вопрос иногда подтачивал самую сердцевину Мишкиного существа, завладевал им настолько, что глаза его отуманивались, стекленели и затылок соседки словно растворялся в смещенном пространстве. Мишка приписывал Тамаре самые непристойные мысли и злорадно усмехался, как если бы уличил ее в каком-нибудь грязном поступке. Он шумно выдыхал воздух и оседал, далеко вытягивая ноги, касаясь ими подножки противостоящей парты или даже ног Тамары. Та в таких случаях либо непроизвольно отставляла их, либо оборачивалась и проводила по Мишкиному лицу отсутствующим взглядом, не выражающим ни сочувствия, ни досады, ни даже любопытства. Мишка тоже не задерживал глаз на постном лице Тамары, словно ему и дела до нее никакого не было.
В школе подступиться к ней не выпало момента, озабоченный совсем иными делами, Мишка уехал в техникум.
Однако всякий груз с души его спадал трудно, и, когда по прошествии нескольких лет он заявился к матери погостить после трудового лета на стройке и неожиданно, на именинах своего одноклассника, уже самостоятельного парня Николая Подчуфарова, встретил угольнобровую Тамару Позднякову, он, словно долго ждал этого и к этому готовился, устремился в атаку…
Удивленная Ольга усадила Тамару прямо во дворе, на скамейку, врытую подле сарая. Тамара опустилась было на нее, но тут же привстала, спросила, нельзя ли им поговорить в комнате. «Да, да, пойдем, милая, в комнату, конечно». Они прошли в дом, Тамара села за стол возле одного окна, Ольга напротив, возле другого. И тут только тяжело, предчувственно заколотилось сердце Ольги, и чем дольше она смотрела на неожиданную гостью, тем сильнее бухало у нее в груди.
Тамара ни на чем не остановила внимания, не осматривалась, как это обычно делают люди, попавшие в новую обстановку. Она молча сложила на коленях руки и оборотила на Ольгу глаза и так сидела некоторое время. Ольга совсем истомилась в эти несколько секунд, но что-либо спросить не решилась, только смягчала, как могла, лицо да частым морганием пыталась осушить почему-то вдруг набухший глаз.
Тамара смотрела на Ольгу, ноздри ее нервно вздрагивали, и вдруг неожиданно, точно прыснув, она разрыдалась. Сидя прямо, не опустив головы, она плотно сжимала ресницы, и из-под них на щеки, подбородок, на дрожащую грудь бежали слезы.
Ольга, охваченная холодом, вскинулась было со стула, ко Тамара, с силой раскрыв заволоченные влагой глаза, судорожно всхлипнула и извинительно сморщилась. Ольга заспешила к комоду, вынула из бокового ящика отглаженный носовой платок и протянула Тамаре. Та, успокаиваясь, затрясла головой, достала из сумки свой – помятый, душистый – и закомкала в кулаке. Потом вытерла слезы и, сквозь горькую усмешку, как-то сникло и бесцветно произнесла:
– У меня может быть ребенок. – И словно в подтверждение слов, несколько раз кивнула головой.
– Господи, боже мой! – Ольга, точно крестясь, щепотью ухватилась под горлом за платье. – Тама-арушка…
И в то же мгновение ей все стало понятно – все события последних дней скопом пронеслись в памяти, просеялись и встали на свои твердые места. И «господи, боже мой», вырвавшееся у нее первой, непроизвольной реакцией на откровение Тамары, – было инстинктивной защитой от возможной беды, влетевшей и заплескавшейся в комнате вместе со стесненным дыханием неожиданной гостьи. С таким лицом, какое было у Тамары, идут за потерянной или отнятой правдой и ищут не просто удовлетворения, а понимания зла, идут, чтобы объяснить самое себя и уразуметь других. Ольга знала, как горько разочарование в таких случаях, и душа ее легко занялась огнем справедливости.
– Михаил, да? – Она. улыбнулась, давая понять, что спокойно примет любой ответ, но в голосе ее этого спокойствия Тамара не услышала. Его и не могло быть, потому что Ольга в мгновенном уяснении совершившегося уже дала оценку и поведению сына в последние дни каникул, и его поспешному отъезду. Ей, не посвященной ни в какие его и Тамарины дела, многое уже было яснее ясного.
Тамара вздохнула. Ольга пододвинулась ближе и положила ладони на ее сжавшую платок руку.
– А он знает про это?
Усмешка удивления искривила припухшие губы Тамары, и Ольга, по-своему истолковав ее, сконфуженно добавила:
– Ну, конечно, знал бы – по-другому сообразил что-нибудь сделать. Надо ему вдогонку написать, Тамарушка, а? В этом ничего нет такого, чтобы было смущение.
Ольга говорила, но мысли ее были очень зыбки, ни на одну она не могла опереться, чтобы строить убедительный и правильный разговор.
– Ну как же, Тамарушка, если он не знает? Это совсем другое дело, когда знаешь…
«Господи, что я воду-то мучу, – шли где-то рядом другие слова, – все ведь ему известно, оттого и засобирался, как пойматый. Сбегал от беды…»
– Что вы говорите! – В голосе Тамары было столько укоризны, что Ольга растерялась, она почувствовала, что ей не по себе от ее, Ольгиной, неискренности.
«Господи, что же это деется-то?.. Кто же это всех заморочил?»– Ольга болезненно сморщилась и впилась наслезненными глазами в потерянное лицо Тамары, как бы говоря: «Погляди без зла, милая, – я вся вот она, ничего не таю».
Из динамика над комодом сбегала, спотыкаясь, торопливая речь комментатора какого-то важного события. Маленькой коробочке, казалось, не хватало силы передать восторг и волнение говорившего: дребезжала мембрана, обрывался и проваливался куда-то захлебывающийся голос…
Ольга встрепенулась и, словно вдруг пошла в гору, задышала чаще и тяжелее.
– А какой срок уже? – спросила она тихо.
Тамара опустила глаза, пальцы ее перебирали, распрямляли и снова складывали на колене легонький платочек.
– Это произошло позавчера…
Слово «произошло» всегда несло для Ольги тревожный, если не горевой, смысл; так же она восприняла его и в этот раз. Но – «позавчера»?!
9
…Откуда это все взялось? И слова, и мягкость, и волна вроде бы неподдельного тепла? Михаил словно обрел пространство, где можно было во весь размах расправить крылья, и воспарил над тесными душами недоверчивых людей, над самим собой, скованным на земле сомнениями и осторожностью.
Провожая Тамару от Подчуфаровых домой – это было естественно, им было по пути, – он легко вел широкий, свободный разговор, чутко улавливая интерес попутчицы к предмету беседы. Давая понять, что убеждения его тверды и обоснованны, он вместе с тем внимательно выслушивал и доводы Тамары и в критический момент понимающе и спокойно произносил: «логично», «вполне возможно», «вероятно, так», выказывая уважение к иному, самостоятельному мнению.
Незаметно они прошли мимо Тамариного дома, возвратились назад и снова миновали массивное крыльцо, и лишь тогда, на самую малость упредив желание Тамары остановиться, Михаил замедлил шаг и развел руками: «Уже ночь…» У калитки он слегка склонил голову, а Тамара, сама от себя этого не ожидая, вытянула вперед руку. «Ну?..»– произнесла она, и мягкая интонация отозвалась бодрящим теплом во всем теле Михаила, успокоительно расслабившим нервы и мышцы. «О’кей!»– приложил он про себя итоговую печать.
Требовалось, видимо, сказать «до свидания», но Михаил выдержал секунду-другую и взамен своих слов услышал Тамарины: «Может, позвонишь?» Он улыбнулся, кивнул и деликатно ответил: «Попробую»– и ощутил слабое движение тонких пальцев, вроде повторение пожатия, но сам в ответ свои не напряг.
«О’кей!»– это высек в сознании второй Минаков, павший, сложивши крылья, с неба и снова слившийся со своей земной ипостасью. Уже в двадцати шагах от калитки Поздняковых от раздвоения души не осталось и следа: по земле шел, твердо ступая, именно тот Минаков, каким он сам знал себя и каким мог представляться не интересующим его людям. По инерции он прошагал еще некоторое время легким эластичным шагом, выбранным для сопровождения дамы, но, свернув за угол, как бы запнулся и продолжал путь уже привычной и удобной, чуть вихляющей походкой.
Он анализировал свои действия и был доволен ими. Лишь изредка, на какие-то мгновения, неуловимо отделявшийся двойник шевелил в груди какие-то ворсинки сомнения, но Михаил быстро убеждал его в несостоятельности опасений, и холодный зуд в сердце тотчас утихал.
Это была охота, но азарт не ослеплял, – наоборот, делал перспективу четкой и понятной. Подходя к материному дому, Михаил подумал, что Тамара нынче уснет не сразу. Так оно и было на самом деле. Первая привада легла удачно.
Назавтра Михаил не позвонил, – напрасно Тамара в течение всего дня старалась не отходить далеко от телефона. Встретились они через день: Минаков, направляясь в город, проходил мимо дома Поздняковых, и Тамара, увидев его, выбежала навстречу…
Неделя промелькнула праздником – такого состояния Тамара никогда еще не переживала. «Боже мой, как это все верно, – думала она, – по-настоящему интересный человек всегда – в себе, он раскрывается неожиданно, без игры, без желания произвести эффект… И в школе он был не зол, а замкнут. До чего же мы иногда незрячи…»
В один из вечеров – только к концу недели Михаил позволил себе поцеловать ее, да и это было похоже, скорее, на ответное движение – она уговорила его зайти к ней, погасив его колебания живым, как-то по-детски радостным: «Дома никого! Совершенно никого!» И когда, умиротворенная мягкими поцелуями, она в какой-то момент уловила вдруг затаенную, сдерживаемую, еще не понятную ей силу влечения к ней другого человека, она не испугалась, а, скорее, насторожилась. И Михаил тотчас ощутил это, он даже успел отметить в памяти, что нечто подобное было на стройке, где у него вышла осечка со студенткой-физкультурницей – народом, по его мнению, легкодоступным.
…Он повторял, как заклинание, как молитву, что-то горячечное, все настойчивее и ближе подбираясь к Тамаре, он совершенно потерял голову – она это видела. Его моление казалось ей благостным святотатством, она совершенно не была готова к такому бурному повороту, к такому неистовству и беспомощно шептала: «Не-ет… не-ет… Не сейчас, не сейчас… Ну, что же это такое!..»
Что-то еще, убеждающее, очень важное, вышептывала она измятыми губами, – позже и не могла вспомнить что; «не сейчас» было главной мыслью, опалившей ее застигнутый врасплох рассудок.
Но постепенно, поддаваясь натиску, Тамара уступала жесту, движению, желанию… Сердце ее, потерявшее опору, метавшееся в ледяной пустоте, какая-то сила влекла к пропасти, оно должно было сорваться в эту пропасть, и уже нельзя было предотвратить падение… В какой-то момент Тамара поймала лихорадочный взгляд Михаила – растерянный и какой-то униженный, и ей стало жаль его. Она обхватила его голову дрожащими руками и уткнулась открытым ртом в мокрый висок…
Он и сам, когда отошел, не мог поверить в совершившееся: неделю назад это и в голову серьезно не могло прийти, а если и приходило, то казалось реальным только в несдерживаемом воображении.
А Тамара восприняла случившееся спокойно, Минакову это странно было видеть: он ожидал трудного пробуждения. Оказалось, он был у нее первым. Впрочем, разве он забыл ее: даже в этом она осталась сама собою – какой-то чужой для него, ненормальной… Ведь ей немало лет…
«Ну что же, если вышло – так, – думала Тамара, мягко и открыто рассматривая почему-то вдруг сникшего Михаила, – разве в этом дело?.. А ему словно стыдно… Стыдно… Глупый… Разве это может быть стыдным?..»
Назавтра они не увиделись, а утром следующего дня Тамара неожиданно столкнулась с ним в галантерейном отделе универмага. Оба выбирали подарки. Тамара ему, Михаилу; она искала что-нибудь красноречивое и необходимое мужчине, что часто бы использовалось и в то же время долго сохранялось. Что именно можно купить в этом случае, она толком не знала. Михаил, напротив, имел ясную цель: он подбирал сумку для Лиды, за которой ухаживал уже с полгода, и, как полагал, всерьез.
«Миша!»– взгляд Тамары скользнул по матово-белой сумочке, которую Михаил торопливо заслонил руками, и остановился, горящий, на его быстро меняющемся лице: оно вначале вналив попунцовело и словно раздалось вширь, а затем, как проколотое, на глазах же ослабело и поблекло. Все это произошло в считанные секунды, – а может, забывшись, Тамара потеряла и ощущение времени… Она растерянно глядела, как Михаил, подождав, отстранил «ее» белую сумочку, что-то сказал девушке за прилавком и, кивнув ей, Тамаре, что-то пробормотал, улыбнулся и, поклонившись, двинулся к выходу.
«Миша!»– второй раз уже не проговорила это, а прошептала, может, даже произнесла одними губами, потому что увидела в глазах Минакова совсем не то, что готова была увидеть и чем было переполнено все ее существо…
Продавщица равнодушно снимала с полок и ставила перед сгрудившимися у прилавка женщинами разноцветные сумки – коричневые, бежевые, матово-белые. Сухо хлопали входные двери, заглушая доносившиеся из музыкального отдела мелодии прослушиваемых пластинок…
Тамара словно плыла по течению, но люди все же натыкались на нее, подталкивая с разных сторон, и в конце концов она оказалась на улице. И сразу же, не оглядываясь, то и дело сбиваясь на бег, зашагала прочь. А вечером, точно чужие, ноги принесли ее к дому Минаковых. Она была уверена, что Михаила там уже нет…
10
– Позавчера?! – Ольга пребывала в недоумении едва ли больше того, что потребовалось ей для уяснения смысла этого слова. – Господи! Это… позавчера, в… четверг, значит, было?
Тамара кивнула. Ольга почувствовала, как к лицу побежала горячая волна крови и все лицо отяжелело. Она защемила пальцами угол столешницы.
– В первый-первый раз?
– Да…
– Тамарушка, милая моя детонька… – У Ольги немного отлегло. Сердце ее мягко оплавилось и засаднило в нахлынувшей жалости. Она пододвинулась к девушке вплотную, гладила густые, вольно лежащие волосы и искала верный тон, нужные слова, чтобы связать облегчительную веревочку – поведать Тамаре, в сущности, простые, но тайно хранимые и, как было видно, еще незнакомые ей вещи…
– Простите, что я к вам пришла, – сказала Тамара. – Я даже понять не могу, как это получилось, что я пришла.
– А куда же ты должна идти? Я вот ему напишу, и он ответит…
…За окном было уже темно, ставни были не заперты, и хруст шагов редких прохожих легко проникал в казавшуюся обнаженной комнату, – Ольга и Тамара так и сидели без света.
– Что он ответит? И что вы ему напишете? Что? Подумайте!.. Да и зачем? Не надо ничего писать, ни в коем случае не пишите! Я вас прошу…
– А я думаю…
– Нет-нет-нет! Ни в коем случае. Ради бога. А меня простите. Я больше не приду к вам.
– Что ты, Тамарушка!..
– Да-да, больше не приду…
11
Месяца через три после этого Тамара куда-то уехала, – Ольга перестала встречать ее в привычных местах. Дом Поздняковых продолжал жить своею тихой жизнью: в какой-то из дней в окнах появились вторые рамы, подход к калитке был всегда расчищен от снега.
Постепенно многое изглаживается из памяти, – поблекла в памяти Ольги и Тамара. Мимо ее дома Ольга проходила теперь спокойно, не оглядываясь, не обрывая ровно бегущих мыслей, не напрягая шагов.
Когда Михаил женился, она съездила к нему – одна от всех родных, познакомилась с Лидой и осталась ею очень довольна. Она видела, что у старшего сына жизнь складывается прочно, основательно, и когда-то сказанная ею же самой фраза: «Мишка знает, что делает»– приобрела со временем для нее какой-то отстраненный, естественно безусловный смысл.
С уходом на пенсию изменились и Ольгины уличные маршруты. Самым привычным стал путь к дочери, в противоположную от резного крыльца Поздняковых сторону. Но бывать в их проулке Ольге все-таки приходилось.
Проходя однажды близ Тамариного дома, Ольга замедлила шаг, что-то заставило ее обернуться, – кажется, детский голос и дробный быстрый топот за высоким забором. Не отдавая себе отчета, она остановилась и ожидающе посмотрела на калитку. Дверка медленно отворилась, и на улицу выскочил маленький человечек. Он чуть было не наскочил на Ольгу, – ей пришлось даже выставить вперед руки, чтобы не дать ему упасть.
– Деточка, ты чей? – спросила она с какою-то непонятной тревогой, невесть отчего охватившей вдруг ее.
– Я здесь теперь живу, – ответил мальчик.
– А мама твоя кто?
– Вадик! – послышалось со двора, и тут же в проеме калитки показалась смуглолицая пожилая женщина.
– Что такое? – спросила она сухо, увидев остановившуюся у крыльца Ольгу.
– Нет, нет, ничего, – поспешно ответила та, – я просто спросила у него… – Она замялась.
– Что спросили?
Ольга повторила вопрос. Женщина пристально поглядела на нее и сказала:
– А зачем вам это?
– Я ваша соседка, – Ольга показала рукой, – вон, за углом живу, просто поинтересовалась… Тут ведь Тамара жила, мы с нею хорошие знакомые…
– Это мой внук, – сказала женщина, не таясь, рассматривая Ольгу.
Идти им оказалось по пути, и они продолжали разговор на ходу.
Вечером Ольга едва дождалась дочь с работы. Она ничего не могла делать – все валилось из рук, толкалась из угла в угол новой Зинаидиной квартиры и не отрывала от опухших глаз мокрого платка.
Она рассказала дочери все. О том, как несколько лет назад к ней приходила Тамара, как потом она уехала и долгое время жила в другом месте, и вот сегодня днем она, Ольга, неожиданно встретилась с ее сыном и теткой, которая теперь его воспитывает, величая себя бабкою.
Тамара последние годы прожила в Севастополе, а уехала туда, оказывается, из-за своих слабых легких. Ее родители, образованные люди, жили вместе с нею в Ленинграде, там и умерли в блокаду, а Тамару после освобождения взяла к себе материна сестра. Там, в Ленинграде, Тамара; видно, и испортила себе легкие – так сказала Ольге тетка.
В Севастополе у Тамары родился сын, а этой осенью наступило обострение болезни. Тамару возили в Киев к известным профессорам, но помочь ей уже было нельзя…
– А муж-то у нее был? – спросила Зинка.
– Тетка ничего не говорит, но внука называет сиротой… Как тут понять? Не полезешь с расспросами…
– Может, как у Анюты? – сказала, качая головой Зинка. – Решилась одна растить?
– Может, и как у Анюты, – согласилась Ольга, хотя совершенно не представляла себе ту Тамару, что пришла к ней в слезах после неожиданного сыновнего отъезда в институт, на месте Вариной дочки… – Кто знает…
Потом подошел Толик – трезвый, а потому веселый и обходительный. И ему женщины рассказали о Тамаре. Толику пришла в голову мысль предложить Михаилу взять мальчика к себе.
– Дак, чудак, кто же его отдаст? – Ольга замотала головой. – Его бабка и знать не знает о нашем Мишке и что там у них с Тамарой было.
– Да он, может, и не виноват ни в чем, – сказал Толик.
– У вас всегда не те виноватые, – отозвалась Зинка.
– Не знаю, дети, не знаю, – тяжело вздохнула Ольга. – Может, и правда рассказать Мишке про все, намекнуть… Бабка-то у ребеночка старая уже, доживает век… Да и что у нее – только пенсия…
– У Лиды все равно никого не будет, – убежденно сказала Зинка. – Может, они со временем все равно будут брать кого…
– Врачи лечиться вроде как советовали…
– Да брось ты, мам. Сколько они денег уже извели на курорты да на грязи, а что толку?
– Она все равно не согласится, нет. Чужой ребенок…
– А ты спроси, спроси, напомни про все. Может, он сам прибежит, на самолете пригонит!..
– Вовк! – перебивая жену, неожиданно крикнул Толик. – Поди-ка сюда.
Из задней комнаты вышел Вовка.
– Чего?
– Брата хочешь? – спросил его Толик.
Вовка по голосу отца догадался, что надо ответить, и протянул:
– Хочу-у…
– Господи, Толик, такое дело, а тебе как забава. Не плети! – рассердилась Ольга.
– Почему как забава? – Толик посерьезнел.
– Ну да, нищету разводить…
– А что, мам, смотри, сколько места теперь… – Зинка перевела взгляд с матери на мужа, снова на мать.
– Да прекратите вы, ради бога!..
12
Хрупкая слеза слетела на поблекший глянец карточки и рассыпалась на мелкие бисерные лучики. В глазах зарябило. Ольга пальцем сняла пятнышко, обтерла руку, а затем фото о рубашку.
Остальные карточки она перебрала быстро. Затем встала, сунула пухлый альбом под подушку и, шагнув по скрипучим половицам к торшеру, надавила кнопку. Комната погрузилась во мрак, но вскоре, пообвыкнув, глаза стали различать не только крупные вещи – сервант, стол, но и предметы помельче, даже рисунок на обоях, – сквозь шторки просачивался недалекий свет от соседнего дома.
Ольга, хоть и закрыла глаза, знала, что долго еще не уснет, долго еще в голове будут вспыхивать сполохи прошлого. За все болела душа: и за старое, и за новое, за то, чего и не было еще, тоже болела, – ожидание смягчает горе. А жизнь прожита такая, что и не вспомнить неба без облачка, – было ли?
Долгое время она думала, что, несмотря ни на что, заживет в конце концов вольно и счастливо, в доме будет достаток, на сердце покой. Да и что, правда, чем плоха жизнь? Все живут справно, живы все – никого из близких хоронить не пришлось, не приведи бог. Ну, Георгий… А кто миновал этой беды? Вера Верижникова, Угланова Тася, Вера-маленькая?.. Это только товарки, да и то разве все? А взять по всему цеху? Да что говорить… Знать бы вот, где косточки тлеют… Могилка есть ли. Без последнего слова ушел, хоть бы сказал, как жить, что делать…
Георгий – это боль особая, это судьба; вся жизнь теперешняя – оправдание ей. Многое по-другому сложилось бы в жизни, говорить нечего: хозяин – стержень семьи, главная кость. Но ведь и без него подняла всю тройню. С Зинкой-то намучилась – мамочка родная!.. Ох, господи, зачем старые раны бередить… Все минуло, все быльем поросло. Живи знай да радуйся…
Но отчего же не сходит покой на душу? Отчего давно высохшие реки прошлого наполняются вдруг живой водой и плеск и грохот ее заглушают все сущее? И сердце полно тревоги, словно беда никогда далеко не прячется…
Живи знай да радуйся… Только бы сбросить с плеч пережитое.
Этого Ольга, как ни пыталась, сделать не могла.
Она подвигала ногами, поискала им место поудобнее. Попробовала дышать ровнее. Дом еще бодрствовал: наверху кто-то досматривал запоздалую телепередачу – можно было разобрать целые фразы: прослушивались отгороженные стенами голоса. Снаружи долетела веселая музыка – в доме напротив гуляли. «Суббота», – вспомнила Ольга.
В ее избу посторонние звуки просачивались скупее: каждый дом живет своим миром, двор от двора отделен заборами.
Она без особых усилий могла вернуть себе ощущение домашнего ночного безмолвия. Их окраинная улица стояла в стороне от больших проезжих дорог, стены жилья были хоть и ветхие, но толстые, ставни запирались наглухо. В поздние часы, лежа в одиночестве в опустевшем доме – переборку она с выездом дочери разобрала, – Ольга отличала большей частью близкие звуки: возню мыши под полом, в зимние холода – оседание и потрескивание сруба. Малые шумы заглушали ходики, но ухо так привыкло к их монотонному перестуку, что Ольга научилась каким-то внутренним усилием отделять повисающее в воздухе биение от остального мира звуков и улавливать обнажившееся дыхание жилища. В большие морозы, укутываясь чем можно, она слушала кряхтенье остывающей печки и участливо вздыхала.
Когда дети были маленькими, к ним лишь и поворачивала ухо: ровно ли сопят? Как кто зачастит – так и сердце екнет: не захворал ли?
Коснувшись в памяти военных ночей, Ольга тотчас почувствовала, как внутри нее упала холодная искра страха – родилось какое-то тревожное воспоминание, вытесняющие остальные. Она безотчетно засопротивлялась наваждению, даже головой тряхнула, пытаясь уйти от пагубного воскрешения прошлого. Но искра светилась, обостряла боль, и вдруг вспыхнуло синим светом – «похоронка»…
Первый раз ее сбросил с койки этот крик, когда Саньку еще грудью кормила, и война казалась бедой неблизкой и временной. Поздним вечером со двора Грибакиных – соседнего, за штакетной оградой, – вынесся истошный вопль Варвары – как звериный вой, дикий и жуткий. Он легко прошил стены и словно варом обдал Ольгу, – она чуть Саньку из рук не выронила – усыпляла грудью.
В чем была, натыкаясь на родные углы, выскочила Ольга за порог, в лихорадке вернулась к закричавшему ребенку и, прижимая его к теплому телу, высунулась за калитку. По тротуару, держа в руках какую-то бумажку, шла, спотыкаясь, простоволосая Варвара. Остановившись подле Ольги, Варвара, как полоумная, долго выла, глядя пустыми глазами на Ольгу. Потом прервала стенания, прохрипела: «Кольку мово убили!»– и снова наддала голосу и пошла дальше, к другому дому. Распахнутая кацавейка обвисло держалась у нее на плечах…
«Варя, это ошибка! Варя, это ошибка!» Эти первые слова, брошенные вслед безутешной соседке, память сохранила нетронутыми навсегда.
Позже не раз еще защемлял сердце в тиски отчаянный бабий крик, – и все по ночам, когда они, обессиленные, возвращались с вечерних смен, а дети заботливо сберегали для них надежно запечатанные светлые конверты. Среди тьмы, как смертельный луч, вдруг повисал над улицей тягостный стон, – его ни с чем нельзя было спутать, – и хлопали калитки, шуршали под окнами быстрые шаги – люди шли размыкивать горе.
«…В бою за нашу Советскую Родину, верный воинской присяге… пал смертью храбрых…»
И сама она криком кричала, увидев у себя уже знакомый глазу бланк извещения, билась головой об стол. И дети были долго не кормлены, и уже Варвара Грибакина стала ей первой подпорой, остановившей на самом краю. «Сироты…»– жалостливо глядела, придя в память, на ребят и ясно видела на их худых бескровных лицах эту обозначившуюся мету. И еще не рожденное, еще без тягости носимое дитя – остатний след Георгия – уже тоже было сиротой.
На проводах тоже вопили – когда прощались с мобилизованными, на вокзале. Тоже надрывали души дурные вскрики баб, – молодухи шли как подголоски. Но из пестрого провожального хора редко выплескивались голоса обреченности, неотвратимости горя, – в долгом гуле расставаний отзывалась далекая обрядность, в каждом тлела надежда не на самое худшее. Глухое завывание старух, хорошо помнивших и мировую, и японскую, познавших истинную цену надежды и веры, тонуло в зное и гомоне.
…Ольга перевернула подушку – местом похолоднее, приподняла голову. «Унялись, все унялись…» – подумала успокоенно. Теперь уже ничто не мешало ей плыть по морю воспоминаний – бурному и холодному, но до страсти притягательному, близкому, своему. Она прекрасно знала, какой измученной и опустошенной прибьют ее к рассветной гавани волны этого тревожного моря, где смешивались явь и сон, жизнь и грезы. Опыт научил, что пережитое в памяти порою тягостнее реальных ощущений, но каждая рана прошлого зудела, покалывала, и ее нужно было тронуть, остудить…
13
Чистого хлеба они не ели, да и не видели уж, верно, с год, – подсеивали в муку и молотую вику, и сою, в тесто подмешивали отруби, добавляли картошку и даже очистки. И когда, перед самой побывкой Георгия, темным вечером пришел к ней Труфанов – ее бригадир – и принес с собой полбуханки круглого подового хлеба, Ольга по духу определила: ржаной, как довоенный.
– Ребятам, – сказал бригадир, развернув тряпицу и выпростав краюху, и этими словами как-то отодвинул неловкое стеснение, связавшее было их обоих: больно позден был час посещения.
– Что ты, Семен Федорович, что ты! – Ольга сделала руками отстраняющий жест, но на излете машинально подвела ладони под падающий каравай, ощутила в них его отрадную тяжесть и всей грудью вдохнула сладостный аромат свежего хлеба. – Что ты…







