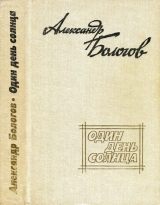
Текст книги "Один день солнца (сборник)"
Автор книги: Александр Бологов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц)
Он все-таки чудной был, с характером. Веришь ли, в коммунисты, говорит, запишусь; по столу кулаком на бабку стучал, будто она против была. А ей-то что – записывайся, если захотел. Но этого не успел. Много чего не успел, чего тут говорить. А может и, как говорится, бог вовремя прибрал, он ведь приход хотел ликвидировать, церкву снести, где его вздули за богохульство. И крестили же, между прочим. Да, да…
Ну вот. Но тут уж, как говорится, у кого что на роду написано. В косовицу выехал он на своей любимой, на Ласке, – наша же лошадь, с жеребят выросла, – выехал на дальнюю делянку. Травы там не ахти как, место каменистое, потому и поехал сам-один, примером Других подбодрять. Там до полдня рассчитывал быть, а его и к темну нету. Думали, опять характер показывает, косит где-нибудь по другим неудобицам, но поехал кто-то. На делянке и оказался. Рука у него в зубья косилки попала, до кости на сгибе отсекло. Вся кровь вытекла, видно, память сразу и потерял. Как он туда сунулся, кто его знает, всякое выдумывали да прикидывали, да никто не видел.
Хоронили – как героя и борца. Митинг был, речи говорили, обсуждали, какой памятник сделать, – впустую, конечно: словами и кончилось. А самое главное – положили-то где? Представь себе, у самой церкви, что он норовил снести, – чтоб был на виду, как первый председатель. А другого кладбища и не было. Вот судьба-то, сынок. Решетку ему Кирилл сделал. Этот у них всю жизнь ковал, с подмастерья в кузне. У них с дедом чуть до драки дело не доходило.
Той же самой дорогой, по которой торопливо уходила из города жарким июлем, шла Ксения в родную деревню по окрепшему первопутку. Снег упал на высушенную морозом землю; «к неурожаю», – скользнула в памяти беглая мысль. Но скользнула как-то походя, не зацепив души и не заставив ее заметно отозваться. Так подумалось, как не о своем.
Транспорт на шоссе был редкий, хотя раскатанная колея и говорила о том, что движение тут немалое. Раскрошенная сетка от танковых гусениц бежала обочь дороги на всем пути, не кончаясь.
Дед Кирилл сидел в сенях на березовом кряже, стучал молотком, пробивал на куске жести дырки, на манер терочных.
– Крупорушку решил сладить, – махнул он рукой с зажатым в пальцах гвоздем, – ничего не слышу на дворе.
– Понятно, – кивнула Ксения, вспомнив на пороге, что дед туговат на ухо – оглох в кузне, всю жизнь барабаня по железу.
Дед повел их в дом – в большую, пустого вида комнату со столом в углу, опоясанным скамейками. Одна из пристенных скамеек с высокой резной спинкой называлась диваном.
– А это кто будеть? – спросил он, указывая на Вовку.
Пока Ксения рассказывала про Вовкиного деда, он поглядывал на обоих ее сопровождающих, бормотал в бороду:
– Вот тебе раз… Вот тебе раз…
Из лесу вернулась Дуся, ходила с дочерьми-подростками за хворостом. Девчонки – погодки чуть постарше ребят – разделись, стали раскладывать на лежанке мокрую обувь и варежки.
– Вон след-то, – повернула к потолку весноватое лицо старшая, обращаясь к Костьке.
– Герой с дырой, – построжела, вспомнив старое, мать, тоже поглядев вверх.
В другой раз можно было и обидеться, но Костька вздохнул и поднял глаза туда же и словно уловил слабый запах дымного заряда, остро поразивший его в этой комнате в начале лета…
О войне тогда никто не говорил и не думал, хотя до нее и оставалось уже какая-то неделя или чуть больше. Ксения отправила сына к своим двоюродным – на молоко да крепкие сельские харчи, сама рассчитывала приехать на какой-нибудь из выходных – дочку показать, на погост сходить к родителям. Свой дом, бывший фоминский, когда умерла мать – ненадолго пережила своего неугомонного мужа, – они с Николаем продали, пришла пора переезжать в город и там обзаводиться хозяйством.
В один день сидели они втроем – Костька и Дусины девчата – в хате одни, заигрывали друг с другом, выведывая городские и деревенские порядки на этот счет. Костька, один среди девиц, выкаблучивал что мог – смешил родственниц до упаду. На стене у дверей висело ружье – Костька даже удивился ему, когда увидел. Снял, приложил, нелегкое, к плечу, стал целиться в сестер, больше в Татьяну, почти ровесницу. Обе они, – тоже, однако, забавляясь, – уклонялись от ствола, махали руками: «Смотри, раз в году и незаряженное стреляет!» Умаявшись водить дулом, Костька поднял его к потолку, нашел там сучок на срезе доски и нажал пальцем давно стронутую собачку.
Гром над ухом не рвется так, как бабахнул в хате выстрел. От удара онемело плечо, а на пальцах до быстрой крови сбило кожу. Сестры, сшибая скамейки, с отчаянным криком бросились вон, а Костька стоял и глотал густой сладкий дым, в секунду заполнивший горницу. Уши словно запечатало горячими пробками…
Он убежал из дому и из деревни в чем был, только бы не встретиться с дядькой или теткой, дед Кирилл казался менее страшным. Чуть ли не полдня просидел в конопле – шелушил ее, незрелую, ел с горсти, набрал в карманы, – а под вечер вышел по проселку к шоссе, чтобы пешком идти до города. На развилке его поджидал дядя Ваня, Дусин муж.
– Слава богу, хоть девок не убил, – сказал он без видимого зла, но за руку схватил крепко.
Он и сам считал себя виноватым, что оставил заряженную «тулку» на виду. Накануне в деревне объявилась бешеная собака, убить ее не удалось. Пока кто-то из имевших ружья набивал патроны да выскакивал на улицу, по которой молча, теряя пену с языка, пробежала незнакомая дворняга, ее и след простыл. Но она могла появиться снова, и Иван – не последний в Укромах охотник – приготовил для нее картечь.
– А крышу как разворотил, – добавила Лизка. – Я тебе что говорила, опусти?..
– Будя тебе! – оборвал ее появившийся из сеней дед, сообразив, о чем идет разговор. – Бога моли и не вспоминай ничего. Ему уже есть наука.
«Это да», – ежась от воспоминаний, думал Костька, разглядывая законопаченную дырку на месте срезанного сучка возле матицы и вроде бы снова слыша пряный дух горелого пороха. Он мельком взглянул на Татьяну – та следила за ним и смотрела совсем не зло, а скорее – наоборот, так, что он даже чуточку растерялся и поторопился отвернуться.
За столом, который быстро – порешили, что приспел обед, – собрала хозяйка, Ксения неожиданно залилась в голос, трогая губами, прижимая к лицу свой кусок хлеба, которым, как и всех остальных, наделила ее невестка. Хлеб был с отрубями и викой, с плотным оскомом у нижней корки, но это был хлеб, хотелось держать и держать его во рту, без конца, ощущая языком сладкую мякоть.
Картошку с квасом ели из общей миски, городским уступали черед: дед стукал ложкой по краю – давайте, хлебайте, мол, хлебайте.
Потом женщины отправились в соседнюю деревню менять вещи, что принесла с собою Ксения. Собирала ее Нюрочка, чего только не набрала: две рубахи мужнины, витые свечи с венчального образа, то есть с иконы, чайник заварной с птицами на боках – по виду старинный, прошлого времени, ножни свои, которыми давно ли подругу обкорнала, сковородку, пяльцы, два стекла семилинейных на лампу – и это еще не все, была и мелочь всякая. Расчет был и на пробу: что выгоднее пойдет. Попросила, что нашла, поменять и Лина Кофанова, совсем потерявшая силу со своим босоногим колхозом. Ксения взяла, конечно. Своего у нее, можно сказать, ничего и не было, кроме голых стен с линялыми шпалерами.
Ребят дед Кирилл увел в кузню. Она стояла у вытоптанной скотом прогалины возле пруда, на котором летом Костька не раз видел стадо. Коровы заходили в пруд, пили, отдуваясь, мутную воду и подолгу стояли в ней, отмахиваясь хвостами от оводов и слепней. Некоторые спустя какое-то время выходили на пористый, сплошь измененный копытами засохший берег и тут же ложились, вблизи воды, не переставая махать метелками хвостов.
Теперь все тут выглядело по-иному. От дороги к кузне вела едва промятая в сухом снегу тропка; снег присыпал и кособокую дверь, он даже лег холмиком у входа на полу кузни. В ней было тихо и холодно, едва слышен был – словно доходил издалека – слабый дух гнили и ржавчины. Летом во время работы, помнил Костька, – густой чад от горелого угля и каленого железа щекотал нос, отбивая все иные запахи деревни.
Дед сначала постоял – и ребята стояли, – поогляделся молча, потом развязал принесенный из дому мешок, вынул из него инструменты, нисколько сухих палок.
– Запалим попробуем, – сказал он и стал расчищать покрытый пылью и окалиной горн. Потом передал огрызок метлы Костьке – Пошаркай тут, пошаркай…
Костька обмел чурбак и наковальню, проскреб пол вокруг кирпичных стенок печи. Дед Кирилл расщепил палки, сложил щепки над фурмой игрушечным срубом, обложил его кусками угля.
– Ну, с богом, – оглядевшись, словно желая убедиться, что вся кузня готова принять огонь, сказал он и аккуратно, в горсти, зажег спичку. В кармане у него лежало кресало, которым он стал пользоваться сразу же, как только приобрел в сельпо последние коробки спичек, но вздувать его он не стал – решил получить огонь поскорее, одним моментом. Так и вышло: пламя быстро пробилось вверх, запрыгало ломкими язычками над кучкою угля.
Немного погодя он повернулся к ребятам.
– Теперь дутье, – сказал хрипловато и, как знакомое дело, кивнул Костьке на рычаг мехов. – Сперва чуть-чуть…
Вовка стоял как чужой, но думал, что качать он смог бы не хуже, если тут нужна сила, это и Костька мог бы подтвердить, если друг…
– А ему можно покачать? – громко, чтобы перекрыть гудение в горне, спросил Костька у деда.
– Пущай поглядить, всем работа найдется, – ответил тот из угла, где перебирал какой-то хлам. – А хочить, пущай и покачаить…
Дед Кирилл пришел в кузню не только затем, чтобы подержать в руках клещи да ручник и подышать привычной гарью. Он пришел ковать ручки для мельниц и крупорушек, которые по старой памяти мог бы ладить для продажи. Штука эта была нехитрая, а для таких рук, какими судьба наградила его, умельца-кузнеца, и вовсе безделица, вроде детской игрушки; дело упиралось в материал. Вместо белой жести он проверил обычную кровельную. На пробу продрал до блеска найденный кусок ее крупным песком. Однако насечка на вырезке получилась рыхлой – старый истонченный лист был сырым и слабым. На первую крупорушку – а сделай насечку погуще, чуть обтяни обод, вот тебе и мельница – пришлось пустить худую, текущую по швам колодезную цибарку, а вместо нее приспособить старую бадейку, отнести ее на общий с соседом колодец. Рукоятка для кручения наружного обода в плахе должна была быть тяжелой и прочной, то есть чего лучше как кованой.
Все так. И все же главным чувством, захватившим деда Кирилла при первой мысли о кузне, было тайное движение души его к огню, к упорному гуду, который вдруг, совершенно неожиданно, в один день и час оборвался, как обрывается живой голос с пропажей человека. Было такое, что, идя мимо кузни, он прислушивался – безотчетно, забыв про себя и про все, не дыхнет ли горно, не звякнет ли там какая железка…
Сунув в огонь какой-то шкворень, дед кинул поверх углей горсть снегу, примял клещами потемневшую корку.
– Будя пока, – махнул он Вовке и тернул рукавицей по наковальне, готовя место. – А ты не забыл рисовать? – повернулся он к Костьке.
– Ручку надо? – готовно откликнулся тот.
– Зачем ручку… Я про уменье говорю. – Дед пригладил бороду. – Ты ить сам научился этому?
– Сначала с книжек срисовывал.
Дед кивнул головой – всему учатся с книжек – и, захватив клещами раскаленный прут, ударил им слегка по наковальне.
– А ручку мы и так откуем, чего тут ковать… Ну-ка вдарь чуток!… – Он тюкнул ручником по алому стержню.
Костька уже держал в руках малую кувалду, успел, следя за движением дедовых бровей, поднять ее с пола, зайти с другой стороны чурака, приготовиться бить. Он коротко ударил кувалдой по шкворню и, следя за дедовым молотком, стал усиливать занос. «Тук-бам, тук-бам!»– отдавалось в наковальне… Ручник брякнулся на нее плашмя – Костька тут же опустил молот, задышал вольнее. «Летось я крепче был», – дед тряхнул бородой и снова засунул остывший стержень в жар.
– Пущай и он попробуить, – указал кивком на Вовку, – а ты пошукай возле мешка бородок.
Потом уже Вовка, путаясь в дедовых – и словом, и ручником – командах, старался ахнуть полукувалдой во всю мочь, а дед шевелил мохнатыми бровями и бросал, отдергивая, ручник и что-то бормотал в бороду.
Скрученная по длине винтом, а оттого прочная – не согнуть никакой силой, с пробитым посередине ровным отверстием и отогнутым для захвата концом ручка вроде бы даже удивила Костьку и Вовку. Словно не веря себе, они ощупывали охлажденную в снегу железину, сажали ее на тонкий конец бородка – пробуя равновесие, сжимали в пальцах массивную рукоять.
– Тяжелая, – сказал в конце концов Вовка.
– Легче крутить, – отозвался дед. – Тут еще бобышку надену, чтобы руку не терла, расклепаю…
Костька тоже покопался в мусоре, нашел лоскуток железа.
– Чего хотел бы? – спросил дед.
– Ножик…
– Зачем тебе? С ножиком шпана городская ходить.
Костька затряс головой, показал руками:
– Палки обстругивать, еще что делать, мало ли… В ножички играть.
Дед повертел железку в руках, понес к огню.
– Эта не пойдеть, – сказал он, засовывая ее в догорающий огонь, – с подпилка, если отжечь, – вот. Или с лесоры. – Он прибил клещами уголь над фурмой и кивнул Вовке – А ну, дай малость.
Тот взялся за рычаг.
Разогревши обрезок полосы, дед кинул его на наковальню и протянул клещи Костьке:
– Вытяни в прут. А он пусть в подручниках. – Он кивнул Вовке – Бери кувалду.
Со стороны наблюдая за ребятами, дед Кирилл дивился быстро обретенной сноровке и обходительности, с которыми Костька, племянник его внучатый, обращался с выкинутым в отходы обрубком полосы. Он обжал его и выровнял, снова хорошо разогрел и осадил, а уж потом – «тук-бам, тук-бам»– погнал граненым на растяг, и тут сообразив, что скруглить в итоге дело нехитрое. Дед дивился так же, как последним летом разводил руками, обнаружив его уменье рисовать. Сам он тогда ковал навесы для новых дверей колхозного амбара. И Костька крутился в кузне, стараясь помочь да сделать что. Он глядел и понимал, конечно, чего дед гнет из толстой полосы, тут и сказал тогда:
– А я вот такие видел…
– Каки ж таки?
– А вот…
И вывел быстро угольком на фанерке несколько видов. У Сеньки-молотобойца губа со слюнями набок пошла от нечаянного удивленья. Не в навесах было дело – потом выяснилось, что на таких висят ворота и двери Даниловых палат в городе, – а в том, как, играючи, накидал малец их рисунок, а потом сделал другой, уже по своему хотению расщепляя им хвосты и завивая боковые отсечки.
Дед Кирилл все ковал по наитию и памяти. Всякое дело будто заново начинал, даже лошадям сбивал и ставил новые подковы каждой по-особому – тут роль играли запас времени и настроение, то есть состояние души. Иногда, бывало, смотрит на какую-нибудь гнедуху: «Вот завтре б я тебе подогнал железо…» Конюху скажет, а тот в сердцах рукой: «Да брось ты, право, Григорьич, подковывай давай!.. Подковывай…» Ну, кует он. И маются руки – и та и другая, – почему, неизвестно; и гнедуха мается, одолевая забытые утеснение, а то и боль.
Дед Кирилл, когда думал о себе, считал, что главную тайну своей профессии он все же не постиг. В чем она кроется, это, конечно, никому не известно, в тонкости ли работы, в размахе ли, неохватном для простого кузнеца, еще в чем? Однако же чем ближе мастер к главному секрету своего дела, тем кропотливее оно ему дается и тем труднее ему освящать его конечным решением – «готово, я все сделал». Он – да, конечно, да – завершал поделки последней дробной гладью ручника и относил из-под рук в сторону, звал хозяина или заказника – принимай работу. Но тень недовольства – если бы кто, внимательный, видел, – как паутинная полсть, ложилась и долго, до следующей серьезной работы, не сходила с лица, – он-то это чувствовал – будто не все, что виделось в тумане новой затеи, перенес он в послушный, терпеливый металл.
Может, поэтому так смутили его внуковы рисунки – как предвестники избираемой задачи, позволяющие как бы из грядущего времени ясно увидеть главную основу дела?
– Железа нет, – вдруг словно пожаловался он ребятам, оглядывая кузню. – Может, и есть где – лом или что еще, да у кого спросить? – Он швырнул к горну кусок толстой проволоки и повысил голос – Работы-то завались… – но тут же кашлянул, на ходу, видно, раздумав распространяться насчет своих дел.
Брошенную проволоку он скоро поднял, перегнув, повесил на штырь – их много, опустевших, торчало по стенам. Потом взял из Костькиных рук его работу и сказал:
– Я тебе дам бумаги, ты мне крест нарисуй. Не такой, как у нас на погосте, – эти я, считай, все ковал, а получше. Сумеешь?
Костька глядел на него, не очень понимая, о чем идет речь.
– Для Никиты Лунева, – сказал дед, округлив под тяжелыми бровями глаза – маленькие, острые. – Видал, как его подорвали?
– Видал, – мотнул головой Костька. – И мамка…
– Мы его выроем с лесу и положим рядом с Ефремом – как защитника… С дедом твоим… Вот так… А железо мы найдем – сколь его в земле гниеть и гнить будеть…
Когда женщины вернулись, дед, уже в доме при коптилке, заканчивал работу над мельницей. Хозяйские дочери и Вовка, сблизив головы под самым фитилем, молча глядели, как Костька быстрой рукой черкает на обороте обойного листа, то вытягивая, то – прибавкой черты – сокращая размеры намогильного креста. Голову и боковые концы он вывел наподобие шлемных шишаков верхушками внутрь и в каждом поместил по витой звездочке, не сразу различимой в общем рисунке.
Дед Кирилл – до сих пор хорошо видел – разобрал их лишь тогда, когда уже оглядел весь крест и представил его на месте. Подержал удивленный взгляд из-под вскинутых бровей на Костьке, на ребятах на всех, листок шпалерной бумаги с рисунком завернул в трубочку и унес в сени. Потом, пока ужинали, несколько раз заметно на Костьку смотрел и крякал после каждого вздоха.
Матеря пришли невеселые – не на то рассчитывали в соседней Утече. Деревня была больше Укром, богаче – считалось до войны: домов много новых настроили, – а дело с обменом туго прошло, и далекая родня тамошняя – и та не помогла. Сбыть все сбыли, да не как надеялись.
– У сватьи Екимовой были? – спросил, послушав их, дед.
– Ну а как же! Скажешь… – расстроенно восклицала Дуся и снова, возясь со столом – собирала ужин, – с горечью возвращалась к безрадостному обходу самых крепких, как знала и как указала Екимова сватья, хозяев в Утече.
– Жмутся все, завтрашнего дня боятся, – горячилась Дуся. – Что у них, картошки нету? Брюквы? По столько всегда накапывают!.. Только зерно сдали… Что им, помирать теперь? – Это она уже кивала в сторону Ксении с детьми и тех, кто еще стоял за ними и с надеждой отправил сюда.
– Да ить баяли, – снимая со своих картофелин кожуру, отозвался дед, – по теплу у них и картошку брали по раскладке?
– Баяли!.. Чего у них взяли-то? По четыре мешка с хаты…
Нет, никак не ожидала Дуся такой их неудачи в сытой, как ей всегда представлялось, деревне Утече, куда испокон веков с охотою отдавали девок замуж и где чуть не каждый пятый дом был под железом. Утечинские всегда смотрели на укромских свысока…
Так же, как и днем, Дуся налила в миску квасу – теперь его хлебали в запив, макая облупленные картофелины в блюдце с солью.
– Ладно, Ксень, я тебе дам ведерочко, а то и полтора, – сказала Дуся, сама наконец усаживаясь за стол. – Мучицы фунтов десять – вон, отец смолол…
Дед Кирилл одобрительно кивнул. Ксения всхлипнула:
– Спасибо, Дусь… Если б не эти… – Она кивнула на детей.
– Вот об них-то, иродах, и болит душа. – Дуся строго посмотрела на своих зашептавшихся девчат, на молча жевавших посерьезневших парней и добавила – Хлебайте, хлебайте!..
12
Из Дусиной муки Ксения испекла хлеб. Давно не видели руки, не вдыхали легкие этого святого действа – постановки теста, замеса, разделки хлебов, но глаза помнили все. С ночи, когда угомонились постояльцы, она развела с трудом добытую у дальних соседей гущу, размяла картофельные очистки и заболтала в маленькой, заново выпаренной кадке основу. Все боялась – не хватит муки; с этой мыслью и творила первую с давних, еще девичьих, времен выпечку. Кадушку укрыла чем могла, устроила на лежанке и всю ночь лежала прислушивалась – как ходит и ходит ли опара. Чуть свет приоткрыла кадку – вдохнула остро-кислый туман брожения, поняла: слава богу, сработала закваска.
Сыновья – обоих теперь так называла – поднялись с печи вместе с ней, чутко следили за всем, что делала мать. Вот она осадила опару, подсыпала муки, промяла кулаком, перевернула тесто – и так несколько раз, пока не посчитала готовым.
– Замесила, – сказала шепотом и заново укутала кадушку, перевязала поверх бечевкой.
А как волновалась-то, господи!.. Едва жильцы покинули дом, взялась за печь. Истопила подходящими дровами, выгребла уголья в чугун с крышкой, отмела золу, прицепив к палке тряпку, сладила помело и до пылинки вылизала обкатанный под. По дальним непрогретым концам свода виднелись угловые черноты, но они на глазах истаивали, светлели, и Ксения затворила чело заслонкой. Взялась за тесто.
Оно хорошо поднялось – тугим горбом: не обманули, выходит, с гущей.
Отрубая ребром ладони нужную долю, Ксения ловко округляла его в мокрых ладонях и опускала на присыпанную отрубями оборотную, чуть выгнутую, сторону деревянной лопаты. Затем снова окунала руки в миску с водой, быстрыми движениями оглаживала верхушку и, начертав на ней пальцем крестик – так всегда делала мать, – бралась за черенок. Поставленный у заслонки Вовка, поджидая момент, мигом отнимал ее, горяченную, от чела, и Ксения, на ходу приловчаясь к подовым границам, усаживала хлебы в печь.
Дивное их превращение пробрало до слез. Чего бы, кажется? – много раз видела это в родительском доме, месить помогала, печь готовила, разве что только посадку и не доверяла матушка никому – как завершение дела. Ан нет, со слезой на привязи выпростала Ксения из остывающего зева свои прыгучие караваи, сбрызнула, как водится, водой, покрыла вместо полотенца чистой тряпицей.
От последнего, подгорелого сбоку, отрезала детям по большому ломтю – не вволю, но и не в обиду. Одну ковригу выделила Нюрочке, отправила к ней ребят. Долго ждала обратно. Уже и немцы побывали на обеде – все разом поводили носом по кухне: такого духу не слыхивали, – Ленка успела руки оттянуть, пока снова, накормленная, не затихла в качалке, а их все не было.
Сомнения всякие в голову полезли: не случилось ли что дорогой? И точно: вернулись наконец с Нюрочкой вместе, товарка в слезах. У Вовки один глаз весь заплыл, у Костьки щека поцарапана, нос разбитый рукой зажимает. Батюшки, это что же за такое?! А такое, что хорошо еще, калеками не остались. Костька стал щеку промывать, нос охолаживать. Вовка на печку влез – там скулил от обиды, а уж Нюрочка поведала, как за Сергиевской горкой, у Базарных ворот, семинарская шпана – а кто же еще! – отняла у мальчишек хлеб, как они бились за него с рослыми ребятами и звали на помощь, да никто им не пособил. Так они ей, горемыки, рассказали, добравшись с пустыми руками до ее дома.
– Ой, Ксюша, на Сакко-Ванцетти намедни одному трубою голову проломили – ограбили. Всего начисто раздели. Останется ли живой… И их бы чем могли, – качнулась она в сторону плескавшегося у рукомойника Костьки, – избави бог.
– Не говори, – отозвалась Ксения, представив на миг чью-то разбитую голову и ребят своих, покалеченных безжалостной бандитской рукой. И первая злость, а скорее слепая досада, захлестнувшая было всю ее при известии о потерянном хлебе, тотчас ушла из души, уступив место беспомощным слезам обиды и поругания.
– Ну что ты! – обняла ее за похудавшие плечи Нюрочка. – Неужто не переживем? Да подавятся они этим хлебом, чтоб им провалиться! Накажет их бог, помяни мое слово, чтоб им пусто было!..
– Да нам-то то? – Ксения собирала в угол платка слезы и качала головой.
– Опять в деревню пойдем. Попрошу кого с моими побыть и тоже пойду, подушку одну, одеяло ватное понесу, черт с ним, не замерзнем в кучке: все теперь в одном месте спим. Картохи припрем, брюквы! Да за одеяло я с них!..
Ксения слушала уверенное слово подруги и вроде бы сама крепла духом. Но главная боль просилась наружу.
– У кого же защиты просить?.. В город выйди! Назад вернешься ли?..
– Та-ак, та-ак… Чуть к темну – одна ни-ни, только еще с кем. В развалинах каких или где людей нет – ни в коем случае! – Нюрочка сделала страшное лицо. – В горсаду-то слыхала?
– Чего?
– Да как же, Ксюша! – Нюрочка всплеснула руками. – Там немца убитого в кустах обнаружили и тут же на месте десять человек захватили – всех, кто был, кто рядом попался. Ни кто ты, ни что ты, – как взяли, так и убили всех на Культурной площади. Все мужики старые да ребята постарше.
– Да что ты?!
– Истинный бог! Там же столбы врыты для этого специально. А раз врыты, – значит, у них и планы такие. Убитые, говорят, с неделю на них висели, закоченелые, у двоих даже веревки лопнули – не выдержали…
– Гос-споди…
– А ты не слыхала?!
– Говорили ребята – не верилось.
– Ой, Ксюша…
– А немца-то кто?
– А кто ж его знает. Болтают, не по любви ли: он вроде девку какую-то обратал… Да я не верю: тут бы уж нашли они концы, докопались бы.
Ксения вздохнула:
– Кому что…
– Вот правда, Ксюш.
– Ну пусть и так, – Ксения прислушалась к шороху в запечье, – а эти-то десять при чем? А семьи-то их?
– А вот так. Такой закон объявлен: за каждого убитого такой расчет… Я тебе принесу бумажку, на базаре висят.
– Ай, Нюра! – Ксения махнула рукой и направилась к сундуку в углу кухни, на дне которого под замком хранился выпеченный хлеб. Она отделила Нюрочке другую ковригу, взяв какую поменьше, себе оставалось две целых и две половинки: подгорелая, что плохо сошла с лопаты и прилепилась к своду, от нее резала круговые скибки ребятам, и та, что оставалась от Лининой, отложенной в сторону доли. Нюрочка смотрела, как перекладывала она таявшее на глазах богатство, не останавливала, ничего не говорила, завернула хлеб в тряпицу, уложила за пазуху под грудь, стянула натуго полы домошитого ватника и заторопилась домой, где ждали убитые слезным Костькиным рассказом об отнятом хлебе две дочки да малый – все, еще не ходившие в школу.
А Ксения потопала к Лине. Долго стучалась и в дверь, и в замутненное морозом крайнее окно – остальные были закрыты ставнями; прильнув к стеклу, попыталась разглядеть, есть ли кто на кухне. Наконец услышала тугое шарканье – в коридор вышла Лина. Она открыла дверь, и, увидев Ксению, обессиленно опустила руки. Беззвучно затряслись губы, вытеснились прикрытыми веками и упали вниз быстрые слезы, Лина уткнулась Ксении в плечо.
В сумеречье большой комнаты Ксения огляделась, в углу не было привычной горки, где Лина хранила обеденную посуду и скатерти со стола.
– Сожгла-а? – жалея, обернулась она к хозяйке. Горка была старинная, резная.
– М-м-м!.. – Лина, утирая глаза, покачала неприбранной головой. – Личихе уступила, – она требухи принесла, ливеру с бойни. Егор все достает – он же там в охране… По кантырю вешали…
– Уступила… – Ксения вздохнула.
– А на кой она мне? Дерево… – Лина вяло махнула тяжелой рукой и двинулась в другую комнату – малую, с одним окном, где раньше, отделенные от родителей переборкой, на сундуке и широкой койке спали дети. Теперь все они, вместе с матерью, согревали друг друга, умещаясь на одной кровати.
Лина дважды приносила двойняшек – ходом, без заметного перерыва, – и все ее потомство выглядело одногодками. Закутанные головы, торчащие из-под старого стеганого одеяла, были одинаково повернуты к двери, внимательные глаза вцепились в Ксению, как крючки. В полутьме было трудно различить лица.
– Закрыла я, – кивнула Лина на ставни, – все теплей.
– Смеркнется, Костька принесет тебе пару полешек, – отозвалась Ксения, – протопишь хоть чуть.
– Я видала, как тебе с машины дрова сгружали, – без обиды, но как-то бесцветно проговорила Лина, с трудом преодолевая одышку. – А мне где взять? Все тубаретки, лавку сожгла – таган ставила. Теперь ставни разве… Таган нужен, хоть воду согреть…
– Дак постояльцы… – Ксения будто вину с себя снимала. – Топят, и мы греемся… Но следят, рыжий каждую чурку примечает. – Она полезла в старую клеенчатую сумку и неверной рукой извлекла оттуда завернутое в марлю полукружье хлеба. – А я вам вот что выделила, решилась сама поставить да спечь. Лепешками хотела, да потом решила как выгодней… раздели вот…
Лина грузно опустилась на койку, силясь удержать застлавшие взор слезы и яснее увидеть то, что так знакомо легло в дрожащие ладони. Она услышала, как подобрались, притаили дыхание ее терпеливые дети, как они стиснули раскаленными глазами краюху в ее руках, и просипела, боясь собственного голоса:
– Ксюша, Ксюша… Я тебе отдам, ей-богу отдам… Вот баушка от сестры вернется из деревни… Пошла она, да больно далеко идти, два дня хватит ли… Но я отдам, Ксюша, господи!..
Прижимая хлеб к груди, Лина захватила свободной рукой мокрые щеки.
13
Вечерами свет давала коптилка, горевшая для того, чтобы справиться с делами, всю долгую темную пору сидели часто без огня, привыкнув обходиться в потемках. Через узкую щель под дверью в кухню проникал бледный свет карбидного фонаря, которым пользовались немцы, в ней привыкший глаз различал все. В коптилке на комоде – он теперь стоял в тесном запечье – горел бензин с солью, всыпанной для ровного горенья. Без соли бензин вспыхивал весь разом, в любой мигалке.
Ах, как жалел Костька, что не запаслись они керосином в лавке, не спрятали где-нибудь большую бутыль или даже какую-нибудь бочку, хотя бы в сарае зарыли, как клад. Сколько раз принимались они с Вовкой копать в сарае утоптанный пол – вдруг на тайник наткнутся! Ходили слухи, что вот так нашли тайник в доме у Средних ворот, где жила казначеиха монастыря. Было до жути интересно копать плотную слежалую землю и наталкиваться лопатой то на залубенелый обломок доски неизвестного назначения, то на кусок черепицы, то еще на что-нибудь… Ребята в Городке находили так почерневшие копейки и даже здоровенные пятаки…
Искали они с Вовкой тайник и на чердаке, роясь в гречишной засыпке потолка. Пыльная лузга, особенно в дальних углах, куда трудно добираться, могла скрывать и монаший клад – куда-то же они девали свое золото в революцию? С собой-то им не дали небось вывезти?
Вот так и керосин можно было закопать в сарае – никто бы не нашел, даже жулики, что их обокрали.
Эти мысли разъедали Костькину душу, когда он, стараясь успеть до прихода матери, помогал Вовке промывать глаза. Вовка, перемогая судороги в горле, тихо выл – то ли от рези, то ли от обиды и своей беспомощности.







