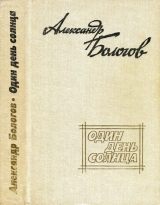
Текст книги "Один день солнца (сборник)"
Автор книги: Александр Бологов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 25 страниц)
– Вы где были? Я прибегал к тебе два раза.
– В деревне.
– Видел их?
Костька понял, о ком речь. Сказал:
– Видел, еще в деревне, на мотоциклетах… А ты?
– Сколько раз…
– Где Вовка?
Гаврутов испуганно поглядел на Костьку и повел в дом. Там их встретила тетя Нина, Валькина мать; из своей комнатушки выглянула баба Поля.
– Где Вовка-то? – повторил Костька, чувствуя неладное.
Тетя Нина опустила руку ему на макушку, но он отстранился, и она уткнулась лицом в ладошки и заплакала. Костька тоже был готов промокнуть глаза, но сдержался и совсем хрипло произнес то же самое:
– Где Вовка-то?
– А никто не знает. – Тетя Нина откинула голову и посмотрела на свои руки, словно там могла прочесть какой-то ответ. – Как тогда исчез, так и все – как в воду… – Длинными пальцами она стала вытирать под ресницами…
…Расклеенные ночью приказы созывали население на «площадь у театра», еще вчера именовавшуюся площадью Ленина. В толпе Валька с матерью столкнулись с Мариной Васильевной из детсада. Валька, как всегда, попробовал улыбнуться воспитательнице, но та словно и не заметила его и на мать поглядела какими-то пустыми, незнакомыми глазами, спросила только: «Вы видели это?»– и качнула головой в сторону театра. Как ни было страшно, Валька тоже хотел посмотреть на то, что уже обозначили люди шепотным свистящим словом и что наводило ужас на стоящих впереди, оттуда веяло крепнущим холодом общего горя.
Постепенно их вынесло в передние ряды, и взгляд матери – она была выше, ей было все видно – резко остановился на чем-то и словно затвердел. Валька протиснулся дальше, встал на цыпочки и из-за плеча тонкошеей старухи увидел середину площади, она была пуста. Он проследил за взглядами других людей и увидел под театральным балконом длинный помост, наподобие большого верстака, а на нем четыре табуретки с красными верхами, из приставного ряда, – он видел такие, когда их класс водили на детский спектакль…
С ажурного балкона в направлении каждой табуретки свешивались веревочные петли, они легко различались на светло-желтой стене. Около помоста стояли люди с винтовками и белыми повязками на рукаве. Толпа потихоньку напирала – выжимала ближе к театру, и мать, протиснувшись к Вальке, цепко ухватила его за руку…
Тут они увидели и Вовку Агапова с дедом, людское течение дотащило их чуть ли не до балкона. Дед был без картуза, козья безрукавка расстегнута, худые небритые щеки – как две ямины, глаза выпучены. Валька почувствовал, как мать, сделавшая было движение в сторону Агаповых, запнулась, сжала ему плечо и осталась стоять где была, хотя и не отводила некоторое время глаз от старика.
Еще сильнее дрогнула материна рука, когда от исполкомовского спуска вынырнули на площадь мотоциклы, а за ними два крытых грузовика. Машины подъехали к главному входу. Из первой на мостовую высыпало десятка два солдат. По команде офицера они веером рассыпались по площади и с автоматами на изготовку, лицом к народу, образовали круговую цепь. Пока они делали это, к театру подкатили еще две машины – легковые. Из них вышли несколько офицеров и трое в штатском; все они, словно это было заранее отрепетировано, не задерживаясь, прошли к помосту и невдалеке от него остановились. К одному из группы военных приблизился офицер, что прибыл вместе с солдатами, и что-то спросил. В ответ ему кивнули головой.
У дальнего грузовика откинули задний борт, наземь соскочили солдаты; следом за ними грузно и неловко на землю спрыгнул человек в белой рубашке. «Алфеев!..»– жалостно прошелестело по затихшей площади. За вторым секретарем горкома так же тяжело соскочил с машины знакомый многим председатель горисполкома Сажин, потом его заместитель Грядунов и горкомовский шофер Андрей Ерофеич. У всех были связаны руки – за спиной, потому так неуклюже они спускались с кузова.
Доставленных людей подвели к помосту. Возле него стояла скамья, с ее помощью они поднялись наверх, взобрались на указанную каждому табуретку. Зазвучал усиленный радиоустановкой голос переводчика. Было объявлено, что военно-полевой суд приговорил главных коммунистов города к казни и что наказание ожидает всякого, кто будет замечен в пособничестве Советской власти.
Позже стало известно, что все четверо были оставлены для подпольной работы, но были преданы и выловлены в первые же часы.
Когда один из солдат – он подготовился к этому – ударом приклада вышиб из-под ног Алфеева табуретку и тот изогнулся дугой, мать вскрикнула и, обхватив Вальку за голову, с силой притиснула к себе лицом и так не отпускала до тех пор, пока не отгрохотала громом последняя жизненная опора Андрея Ерофеича – узкое театральное сиденье, скинутое с помоста им самим.
Еще до этого Грядунов закачался под стуканье выбитой солдатом табуретки. Андрей Ерофеич сам приблизил свою последнюю минуту: покрутил головой, успел крикнуть что-то стоявшим поблизости землякам и отпихнул босыми ногами подставку…
После этого глаза уже ничего не могли ухватить – их застлало серой мглой. Острая резь заставила крепко прижать к ним пальцы – до желтых кругов, до боли в яблоках. Нина Кирилловна слышала чей-то приглушенный крик и возню около помоста, а затем выстрелы и автоматные очереди, но не видела, что там еще произошло. Уже потом, по рассказам тех, кто находился ближе к балкону и был очевидцем всего дела, она могла представить себе всю горькую картину.
…Когда полетела наземь табуретка из-под ног горкомовского шофера, из толпы к группе немцев выскочил старик в меховой жилетке. В него как собачонка вцепился подросток, но старик отбился от него и, размахивая руками, стал кричать что-то про красных командиров и про их скорое возвращение. Его тут же застрелили. Упавшего мальчишку один из солдат охраны ударил ногой, и тот, ухватись за бок, побежал к толпе и скрылся. Тут же немцы дали несколько очередей в воздух, народ в панике отхлынул к домам.
– Это Вовка был, – горестно сказала тетя Нина, – все совпадает. С того дня он и исчез куда-то. А дедушку убили…
Костька никак не мог сглотнуть – тугой комок перекрыл горло… Две недели назад в жаркой траве за Прокуровкой он уже слышал это: «Дедушку убили!»– и помнит, каким холодом обдала его эта весть. Так что-то и сдвинулось в душе, и теперь уже, видно, никогда не поправится.
Но это был чужой, незнакомый человек – не Вовкин дед… И Никита Лунев тоже был чужой…
– А ты искал его? – спросил он Вальку.
– Искал, – ответила за сына Нина Кирилловна. – И к тебе бегал…
– А еще куда? К Ленчику Стебакову ходил?
– Ой, Костик, тут такое было! – тетя Нина взялась за щеки. – Такое было!..
– В последний день взрывали каждую минуту: то шпагатку, то винзавод, то на станции… Я даже считал: рванет где-нибудь, я – раз, два, три, не успею до минуты, опять– трах! – Валька закрывал глаза и взмахивал руками. – А знаешь, как шпагатка горелая!
– Ой, не говори, сынок…
– А нас обокрали…
Тетя Нина опять всплеснула руками:
– Что ты говоришь?! Обокрали?!
Костька не стал вдаваться в подробности. Он поглядел на Вальку:
– Пойдешь со мной?
– Куда?
– Вовку искать.
Тетя Нина вздохнула и покачала головой:
– Ой, Костик, куда же вы пойдете?
– Опять к Трясучке, может, пришла уже.
– Жива ли она?..
6
Трясучка – хозяйка квартиры, где Вовкин дед снимал угол, оказалась живой. Она долго глядела слинялыми глазами на товарищей своего малолетнего квартиранта и, как заводная, трясла куриной головой. Голова, как и тощие желтые руки, дергались у нее от болезни, но тут выходило в самый раз: не знаю, к сожалению своему, не знаю, где мой малый жилец и что с ним… О гибели старика ей, правда, все было известно.
Хлипкими неуемными пальцами Трясучка набила табаком папиросную гильзу и, как могла, аккуратно смела в шкатулку просыпавшиеся крошки. Молча прижгла папироску.
– Он так ни разу и не был? – боясь потерять последнюю надежду, переспросил Костька.
Закрыв глаза, Трясучка долгим выдохом выпустила сморщенными губами дым и несколько раз кивнула.
– А где же он, а? Как вы думаете?
Старуха вскинула брови и как-то болезненно, запнувшись на первом слове, произнесла:
– П-представления не имею, деточка… Представления не имею…
От Трясучки, обогнув стороной свой проулок, чтобы не попасться на глаза матери, Костька потянул Гаврутова к Ленчику Стебакову. В другой раз никакими пирогами не затащить бы его к этому петуху и проныре – обязательно привяжется, а то и до стычки с кем-нибудь доведет. Со всеми в классе перечкался, только самые смирные, покорно признав Ленчиково верховодство, избежали его сухих, всегда готовых к работе кулаков. Недалеко от дома, где он жил, чернел закопченными проемами выгоревший продмаг; сюда не так давно прибегал Костька за мылом – им тоже тут торговали.
Стебаков ничего не знал об Агапове. На его смуглом скуластом лице, не в пример обычному, отражались неуверенность и робость, хотя он и старался не подавать вида. Черные глаза не находили покоя.
Заводить с ним особый разговор Костька не хотел: спросили – и хватит. Но Стебаков решил идти с ними вместе, даже матери не спрашивая, и тут делать было нечего. Он прихватил из дому кусок облепленного мусором плавленого сахару, сказал, что это из сгоревшего магазина.
– И конфеты, и сахар горели, текли – как кисель, – рассказывал он, сжевывая хрустящий на зубах песок. – Я палкой отколупывал, когда застыло.
– А ведром или чем-нибудь? – спросил Валька.
– Когда тек?
– Да.
– Ты что!.. Подойти было нельзя. Ведром… У меня вон, – Ленчик сбил на затылке жесткий вихор, – макушка трещала от жары.
Сахар отдавал не то обувной мазью, не то керосином.
– Мыло, – объяснил Ленчик. – Тут винегрет, все смешано.
Костька кивнул.
По улице Русанова строем шагала группа немецких солдат. В плотных суконных френчах, невысоких чистых сапогах, в пилотках с серебряным орлом наверху, они четко ставили ногу и ладно – как делают хорошо заученное дело – пели строевую песню. Частый припев ее – сильный и упругий – тугой волной ударял по стеклам домов и мощеной мостовой и, заглушая густой твердый топ, вздымался над кварталом. Лица солдат были сыты и спокойны, френчи хорошо пригнаны, шаг уверен и широк.
– Понял, а? – бросил Ленчик неясным тоном, когда они отшагали подальше, и оглянулся и тут же предложил – Может, на станцию сходим? Может, он там где-нибудь, Агап?
Он почти всех называл по сокращенной фамилии.
Но на станцию попасть не удалось, вся она, от вокзала до дальних тупиков, была обнесена колючей проволокой, за которой маячила охрана. И тогда Ленчик – как всегда, не выпуская из рук вожжей – повернул к винзаводу.
– Там увидите одного… – сказал он, усмехнувшись. – Бухарин…
Винзавод и до войны горел не раз: то склады, то тарный двор, где скапливались горы ломаных ящиков. Сейчас он был частью взорван, частью сожжен. Разбитые ворота валялись на земле, фасадная стена главного корпуса была черной от копоти, двор – как речной берег галькой – усыпан битым стеклом.
Ленчик повел их в разрушенный взрывом перегонный цех. Кое-как преодолев рухнувший лестничный пролет, взобрались на второй этаж, к горловинам сливных цистерн. Ноги скользили на разбитых плитках кафеля. Кругом витал винный дух. Подойдя к одной из горловин, Ленчик заглянул внутрь емкости. Долго, покуда глаза не привыкли к темноте, молчал, потом быстро отстранился и выдохнул:
– Там, где ж ему быть!..
Костька с Валькой сунулись головами во тьму.
– Только не дышите, – предупредил Стебаков, – замутит.
Глаза постепенно нащупали глубину – на дне цистерны лицом вниз лежал человек.
– Бухарик, – опять скривился Стебаков.
Костька отдышался и оглянулся на дышащий винным настоем лаз.
– Может, его убили?
– Да? Вон у него чайник под рукой – видел? Набирать лез. И задохся. А может, и захлебнулся, пьяный.
– Чего набирать? Там же ничего нет.
– Было чего. Я был, там еще дно блестело.
Глядеть на чайник не хотелось, Костька отошел от горловины; Гаврутов отодвинулся от нее еще раньше.
– Напи-ился, – сказал Стебаков, бодрясь.
Внизу грохнуло, будто кто-то бросил тяжелый камень. Все, как по команде, присели, прислушались.
– Кирпич отвалился или что-нибудь, – вполголоса предположил Ленчик и, не желая ронять авторитета, первым высунулся над лестничным провалом.
В тишине было слышно, как по цеху свободно ходит несильный ветер; не было похоже, чтобы тут или поблизости находился кто-нибудь еще.
– Пошли отсюда, – не выдержал Гаврутов, и все – тут же, не ожидая помощи друг друга, – поспрыгивали вниз.
У спаленного сарая – с обгоревшими, как упаковка, стенами – на какое-то время задержались: привлекла диковинная картина сложенных в пирамиду несчетного числа бутылок. Верх и края ее оплавились и, как кожух, крепко удерживали звонкую массу от развала. Ленчик бросил в пирамиду камень, ожидая громоносной осыпи стекла; но тот, пробив пару хрупнувших бутылок, застрял в них, обвала не получилось.
– Во! – воскликнул Ленчик в удивлении, втайне довольный, что, вроде бы зыбкая, гора устояла – не загремела на всю округу.
– Сходим на элеватор? – предложил он, когда они выбрались с завода. – Я там много пацанов видел.
– Далеко. От матери влетит, – заколебался Гаврутов и поглядел на Костьку. Тот вздохнул: семь бед – один ответ.
– Только поглядим, и все, – успокоил их Стебаков.
И они пошли – была надежда, что и Вовка мог быть там.
По хорошо знакомому оврагу у Афанасьевского кладбища выбрались на Пятницкую улицу – Рабочий Городок остался в стороне. За Пятницкой расстилалась широкая равнина – большое, никогда не засеваемое поле, сбоку которого возвышался пропыленный и пропаленный солнцем элеватор. В жаркую летнюю пору над ведущими к нему дорогами неизменно клубились облака пыли, отчего и башни элеватора, и сухая трава вокруг были покрыты плотным серым налетом. Пыль доставала и до огородов последних городских домов.
Тянуло горечью горелого зерна, висевшей над всей южной окраиной без малого две недели. Рожь в сушильных камерах, приемных бункерах, ссыпных башнях горела скрытым огнем – пламя почти не пробивалось наружу, сизо-черные кучи хлеба чадили ровно и стойко.
Несколько старух копались у покореженных весов, метелками полыни выметали из закоулков просыпавшееся зерно, горстями собирали его вместе с дорожной пылью в ведра и кошелки. Кроме них, на элеваторе никого не было.
7
Нюрочка Ветрова – присадистая, подвижная, легкая на улыбку женщина – была в Городке, а может и вообще в жизни, самым близким Ксении человеком. Были они одной бабьей судьбы, одного склада души, и та и другая легко отзывались на чужое горе. Это их и сдружило. Мужья их – у той и у другой одинаково постарше годами – долгое время кочегарили в паровозном депо, выбились в помощники машинистов, а Нюрочкин Федор успел в мирное время посидеть и на правом крыле паровоза. В первые же дни войны Федор и Николай Савельев погнали порожние эшелоны под эвакуацию, и с той поры их словно топором отрубило.
Нюрочка меньше поддавалась панике, чем ее младшая подруга, Ксения, и верила, что мужики их не сгинули, как сгинули уже многие, что так же, как и всегда, пусть и по другим маршрутам, водят они тяжело груженные составы, сидят, щуря глаза, на своих откидных сиденьях и комкают, комкают в неспокойных промасленных руках обтирочные концы…
Не раз и не два прибегала Нюрочка на своих быстрых ногах к скошенному крыльцу подружки – глаза все в замок упирались. Уже и в голову всякое полезло – не стряслось ли чего? Такое время, господи… Нет, не стряслось, слава богу. Прикатилась опять колобком от Сергиевской горки и застала наконец Ксению, живую и здоровую. И тут же, увидав развал в избе, узнав, в чем дело, принялась успокаивать, хлопотать вокруг рассказывать всякие случаи, что успела увидеть и услышать за последние дни по городу, только бы отогнать как-то и собственную боль.
– Ничего, Ксюша, ничего, – словно камешки в запруду, бросала Нюрочка спокойные слова, – что-то придет к концу, придет. Сейчас уже потишее стало. Истинный бог…
– Что делать-то будем? – Ксения качала на коленях притихшую дочь, поглаживала ладонью мягкое тельце.
– А что все, то и мы, – Нюрочка сама, полная гнетущих предчувствий, старалась говорить поуверенней и побойчее. – В деревню пойдем, картошки достанем. Отнесем барахло – ну его к черту все! Тут уже ходили бабы, всего наменяли…
Ксения оглядела комнату. Опять накатила злость:
– Обменяй вчерашний день, попробуй…
– Найдем чего, Ксюша… Найдем. Там, вишь, даже чугуны и сковородки берут хорошо. Так болтают. Анисим Егорычев говорит: можно наловчиться самим отливать сковородки. В кузне. Вот и пойдем к деду Кириллу заказ делать.
– Больной лежит. Да и старый уж.
Подруги помолчали. Печаль из сердца не уходила.
– А малый-то твой где? – спохватилась Нюрочка.
– А бес его знает. – Ксения сама уже не раз подумала об этом, поругала сына в душе. – Агапова внука ищет, дружка своего. Ты слыхала про его деда-то?
– Ну как же, Ксюша!.. И его ведь, когда начальство наше казнили…
– Да, Нюра, да… А внук пропал, с того самого дня. Они с моим на одной парте сидят. Сидели… – Ксения, будто не веря в то, что говорит, жалобно поглядела на товарку. – Они с дедом у Трясучки квартировали – ну, нервная такая, инженерша, у Базарных ворот живет.
– Да знаю я ее, господи. Муж ее мост строил.
– Ну да. Говорят, за его и посадили.
– За мост?
– Вот именно.
– А стоит…
– Стоит-то стоит, а чего-нибудь да было не так, задарма не посадят.
– Да тут, как сказать, Ксюша… Вон, помнишь, в депо Ивану Афанасьеву присудили…
– Господи, сравнила: там недостача, а тут – мост. По нем же поезда ездют. С людьми сколько идут…
– Так я же говорю: стоит ведь, и ничего ему.
– Ну ты смешная, Нюр: заладишь одно, и хоть тебе что…
– И правда, прости господи, – отмахнулась от кого-то Нюрочка, обнимая подругу. – Ребята-то вот где? Все сердце изболелось…
Они уже вышли из дому. Уснувшую дочь Ксения уложила на свою оголенную кровать, подостлав кофточку с плеча.
Наискосок напротив скрипнула дверь, показалась Личиха. Стала возиться со ставенными штырями, но видно было, не за тем вышла: из-под руки упорно косила глазом в сторону тихо говоривших женщин. Нюрочка, делая вид, что не замечает ее, вдруг повысила голос:
– Ксюш, что хочу сказать: а по соседям-то не прошла? Может, подумали, что вакуировалась, да и прибрали что плохо лежит?
Личиха бросила возиться со ставнями, замерла. Ксения с укоризной поглядела на Нюрочку, наклонилась, чтобы шепнуть что-то, но рта открыть не успела.
– Ишь ты, куда гнет! – это бросила, почти крикнула, Личиха. Она вытянула вперед обе руки и, брезгливо сморщась, продолжала – Да кто на ее харпали позарится, рожа твоя бесстыжая, а? Кому нужны ее обделанные тряпки, а? – Личиха перевела взгляд на Ксению и усмехнулась – Сперва отступила, а потом воротилась – добра стало жалко? А где оно у тебя было-то? А где твой законный-то, а? Что же он и вас-то всех с собой не увез? Сторожи-ить оставил…
Огорошенная Ксения глядела, как Личиха утирает ладонями углы рта, словно снимает с них выступившую пену, и не могла понять, откуда эта ее злоба, всегдашняя, постоянная, откуда она именно сейчас-то, когда и так некуда деться от горя.
В отличие от подружки, Нюрочка опомнилась быстро. Она хлопнула себя по бедрам и, предвкушая удовольствие от конфуза противницы, спросила:
– Твой-то где опять, твой-то, каторжник, ведьма ты лупастая?
Нюрочка знала, что делала: Егор Литков, первый бузотер в Городке, опять сидел в тюрьме, куда угодил перед самой войной за драку. Когда Литков бывал пьян, – а это случалось регулярно, каждые аванс и получку, – его душа переполнялась жаждою ругани и скандала. До утра похмельного дня он успевал подраться с женой, побить стекла у соседей, потерять в самим же вызванной потасовке очередной зуб и, в свою очередь, раскровенить кому-нибудь физиономию, – успевал, как говорится, насолить всему околотку. Посадили его после Майских праздников, об этом все хорошо знали.
– Мой-та-а?! – Личиха, против ожидания, ничуть не стушевалась. Повернувшись к своему крыльцу, она приглашающе откинула руку и, придав голосу крепости и веселости, позвала – Взойди, глянь!..
Словно по ее знаку, за дверью что-то скрипнуло, створка распахнулась, и на пороге появился Егор.
– Ведьма… – прошептала Ксения, а Нюрочка, не веря глазам, быстро переступила ногами, сделала два-три шага вперед и немо уставилась на Литкова. Егор был в картузе, из-под которого торчали запущенные, как всегда, вихры; одежка – какая-то поношенная форменная тужурка – с чужого плеча.
– Что бельма выкатила? – спокойно ковыряясь в зубах, сказал он Нюрочке. – Не узнаешь?
Будто подтверждая его слова, та растерянно качнула головой.
– Чего они? – повернулся Литков к жене.
– А спроси… – Личиха подперла кулаками бока. – Жуликов в нашем доме ищут. Отступить хотели, да не вышло; дом кинули, а теперь, глянь-ка, опять хозяевами вернулись. Наши пряли, а ваши спали… – Личиха набрала побольше воздуху и обратилась к Нюрочке – А ты, коротышка брехливая, чего воду мутишь? Чего зыркаешь, ищешь, где не клала? Может, в хату тебя завесть, носом в углы ткнуть? А этого ты не хотела? – Она развернулась и шлепнула себя по рыхлому заду.
– Нюра, Нюра, – ухватила Ксения подругу за рукав, – да что ты с нею… Идем…
Обескураженная Нюрочка качала головой:
– Вот уж взаправду ведьма, прости мою душу грешную. Вот уж взаправду, чтоб ей пусто было!..
– Чеши, чеши отсюда, – бросил с крыльца Литков. Он был трезв и говорил поэтому спокойно. – Раскудахтались…
Костька тоже сильно удивился, распознав в стоявшем на крыльце Литковых человеке Рыжохина отца. Давно ли бился в проулке лихой бес последнего Егорова похмелья, когда тот куражливо швырял наземь выцарапанные из карманов худые пястки мятых рублей, а потом, ползая по пыльной дороге, торопливо сбирал их в костлявый кулак, чтобы, чуть погодя, на новой волне ожесточения опять запустить по ветру жалкий капитал? Давно ли на улицу пришла всех успокоившая весть, что Литкова снова упрятали за решетку и что теперь можно наконец вздохнуть спокойно? И вот он – нате вам – стоит на пороге, как будто и не отлучался никуда.
Появление сына вернуло Ксению к своим заботам. Она шагнула к дому.
– Где шлялся? – догнала суровым окриком шмыгнувшего в сени Костьку.
– Вовку искал…
В полумраке сеней она наткнулась на худое плечо, дрогнувшее под ее пальцами, и гневно тряхнула сына.
Он стоял молча.
– Вся душа измаялась, а он… – сказала Ксения примирительно, чувствуя, как дрожит под ее рукой легкое тело. – Теперь всех хватают, как начинает темнеть… А Вовка найдется, куда он денется…
Ксения произнесла последние слова и тут же ощутила в душе такую горечь, что хоть плачь. И Вовку Агапова было жалко – куда прибило бедную сиротинку? – и пуще всего своих, хоть залейся слезами. Дети – всё дети, за что им-то муки терпеть?
– Найдется, бог даст, – повторила она трудным голосом, слыша, как отчаянно борется с горем сын.
8
Вовка явился утром второго дня. Явился как форменный беспризорник из кино, что показывали про гражданскую войну: оборванный, весь заросший грязью. Но не это поразило Ксению, насмотрелась она уже и скудости, и отрепья, и грязи, идущих по следам смерти и крови. Взволновало Вовкино лицо: холодное и твердое, сильно изменившееся, оно выдавало не его годы, не его прожитую жизнь. Иной опыт стоял за сухими, обветренными скулами и запавшими глазами, отчужденно глядевшими из-под усталых век.
Первое, что пришло в голову Ксении, – это выкупать его, смыть с него вместе с грязью налет бездомности и бродяжества, скрывший от глаз его прежнюю суть. Цыкнув в сердцах, она быстро погасила немалое Вовкино стеснение, раздела его и в цинковом тазу, что служил купелью и для собственных детей, вымыла его. Поливала из кружки, теребила волосы на маковке, гладила круто проступившие лопатки и ключицы. Он терпеливо выдержал мытье, обрядился в то, что нашлось от Костькиной одежи, и, когда сели за стол, съел все, что положила перед ним Ксения. Ел молча и быстро, подобрал за собой все крошки, насухо выскреб из миски последние следы крупяной похлебки.
– Где был-то, Вов? – решилась наконец спросить Ксения.
Вовка повел плечами, будто и сам уже не очень ясно представлял, где пришлось ему мыкаться все последнее время.
…Когда автоматная очередь сшибла деда наземь, а ребра загудели сквозной болью от тупого удара, он решил, что это смерть пришла к ним обоим. В толпу – как в волну – его кинула какая-то неосознанная, словно и не его сила, преодолевшая адский огонь в боку. Солдаты за ним не погнались, и корчившегося от боли Вовку быстро скрыли передние ряды прибитых ужасом людей.
Две ночи и день он прятался в каком-то подвале, без еды и питья, стеная от боли всякий раз, как приходилось менять отлежалую сторону и поворачиваться. Удобнее всего было скрючиться на том боку, куда саданул сапогом немец, – меньше жгли уколы нестерпимой боли. «Печенка отбита», – соображал подавленно Вовка, слышавший, что такое случается, когда бьют людей кольями или ногами.
Резь в пустом желудке вытолкнула в конце концов его на свет, однако где можно было достать хоть чего-нибудь из еды, он представлял себе смутно. К Трясучке идти было страшно, там его могли разыскивать солдаты, убившие деда. И сразу же, как увидят, они убьют и его, раз отец его красный командир, о чем кричал старый на площади. Костька вместе с матерью и Ленкой ушли в деревню – он видел их окна, заложенные ставнями. А кроме них, идти больше некуда…
Обходными переулками, озираясь на каждом шагу, Вовка двинулся к элеватору. Свои, городские, люди не вызывали особого беспокойства, но, еще издали ухватывая глазом вяло-голубую форму немцев, он опасливо задерживал шаг и, прижимаясь к стенам домов и заборам, торопливо высматривал какой-нибудь пролом или щель, чтобы в случае чего успеть скрыться. То одной, то другой рукой, а то и обеими сразу он хватался за ноющий бок, когда очередная вспышка боли перехватывала дыхание, и, пережидая ее, съеживался, кряхтел и, боязливо озираясь по сторонам, стонал.
От встречи с немцами он все-таки не уберегся и, когда это произошло в первый раз, так перепугался, что на какое-то время даже про боль в ребрах забыл. Однако немцы протопали мимо, ни один солдат и глазом не повел в его сторону. От этого стало вроде бы легче дышать, Вовка прибавил шагу. Еще больше успокоился он, когда столкнулся с парным патрулем, неожиданно вышедшим на перекресток. Солдаты, в касках, с ружьями за спиной, равнодушно скользнули по нему посторонним взглядом и, не сбивая единого шага, молча прошли своей дорогой.
На элеватор с наступлением полного рассвета – после чего разрешалось движение по городу – стекались последние бедолаги, прознавшие о сожженном и не охраняемом зернохранилище. К тому времени, когда Вовка добрался до него, в недрах бункеров донные слои ржи еще сопротивлялись огневому натиску, но докопаться до них было невозможно. У приемных люков молча ползали на коленях несколько женщин, по-птичьи выбиравших из земли затоптанные зерна. Одна из них просеивала в ладонях собранную горстку их.
Крепясь, чтобы ненароком не застонать, Вовка осел наземь, ухватил пальцами первую сухую зернинку и тут же отправил ее в рот…
Следующую ночь он решил провести в товарном вагоне на элеваторной ветке. В пазах его пола тоже еще оставалось глубоко запавшее зерно, и Вовка – где ногтями, где отколупнутой от пола щепкой – выбрал из щелей его последки. Он прикинул, сколько можно съесть, чтобы остался хоть какой-нибудь запас на будущее, и отложил зерно в карман, а остальное ссыпал в кучку, а потом, найдя в кювете какую-то замызганную тряпку, завязал его в узелок и засунул за пазуху.
В животе словно бы ничего и не прибавилось, но еду Вовка все же решил беречь. Да и занемевшие скулы – сухую рожь было трудно пережевывать – как бы там ни было, но вроде бы говорили о первом утолении голода, об упрочении внутреннего живого огонька.
Прилаживаясь в углу вагона на обшарпанных досках, он долго возился, то поджимая, то распрямляя ноги, чтобы подальше загнать неожиданно проступавшую боль в отбитом боку. В какой-то момент, когда он, стараясь полегче дышать, прислушивался к зреющему под ребрами новому неминучему уколу, он почувствовал, что дрожит. Дрожь быстро росла и в минуту охватила с головы до ног: тряслись сомкнутые коленки и спина, прыгали потерявшие силу зубы. Казалось, что все тело стало пустым и гулким, как полый чурбак на морозе.
Вовка, охая от боли, подобрал осторожно ноги, скрючился поплотнее и стал вспоминать, как он спал на своем месте у Трясучки.
От картин недавнего прошлого веяло живым теплом, согревающим дыхание; резь в прижатом боку уходила глубже, утихала…
…Он спал на полатях, как называли верхнюю лежанку печи, а дед – на узком деревянном топчане, стоявшем у ее боковой стенки, вытертой над спинкою до кирпичей и неизменно теплой, даже – решил подумать Вовка – и летом… Хозяйка любила тепло, каждый сезон загодя беспокоилась о дровах, и сарай ее к весне не опустевал, как у других, до последней щепки.
В какое-то время наладился спать на печи и дед. Призывая в помощь бога, отчаянно кряхтя, он взбирался на лежанку, отгребал в сторону сухую овчину и, задрав рубаху, прилаживался спиной на голых кирпичах. И лежал так подолгу, бормоча что-то себе под нос, прислушиваясь к тому, как просачивается, проникает тепло в самые дальние уголки ветхого тела и как спина, и руки, и ноги, уже немощные и малопослушные, обретают новые силы. «Ничего, ничего, внучек», – всякий раз повторял дед, слыша, как Вовка, вспоминая свои дневные заботы, тоже покряхтывал и посапывал, забываясь во сне.
«Нету больше деда, и никогда теперь на печку он не полезет», – перебилась у Вовки мысль, и быстрая слеза заскользила по щеке и растеклась где-то за ухом. След ее – едкий и холодный – стянул кожу. Съежившись еще плотнее, глубже затиснув между ног руки, Вовка попытался сжать зубы, он понял, что воспоминания о деде с любой стороны неизбежно приведут его к горькому ощущению одиночества и бесприютности. Он не знал, как долго она может длиться, эта кошмарная явь, даже вроде бы и не задумывался над ее временной природой, не научившись пока видеть что-либо впереди дальше ближайших дней, как и многие его сверстники. Сейчас он хотел единственного – хоть на какой-то момент почувствовать теплое бездумное расслабление в неясной надежде на то, что, придя к нему, оно уже никогда его не оставит.
…Вдруг причудившийся на языке теплый сладкий вкус вызвал в памяти кухонный стол и на нем огромный, из целой газеты, кулек медовых жамок – неизменный дедов гостинец с пенсии. Пахучие жамки таяли во рту, а дед, стирая с бороды крошки, покачивал головой – бери, бери, все наши. Можно было съесть сколько в тебя влезет, и Вовка об одном жалел, что не может угостить такою вкуснотою своего друга Костьку Савельева. Это дело дед безоговорочно запрещал и, обнаружив однажды Внуково жульничество – тот исхитрился-таки скрытно запихнуть за пазуху облитый сахаром кругляш, – заставил его выпростать из рукавов и вытянуть по столешнице руки и стеганул по ним замусоленным ремнем. «О тебе же радею», – напряг он голос в ответ на вскрик и скрытые слезы внука и отвернулся, утираясь. Душа Вовки вспыхнула гневом, и слезы потому лишь не закапали, что на исходе высыхали в ее мучительном огне.







