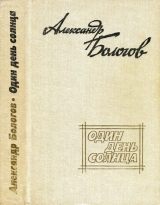
Текст книги "Один день солнца (сборник)"
Автор книги: Александр Бологов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 25 страниц)
Не своя воля
 и-иленькая моя… Соба-ачка моя… – забываясь, повторял Генька и опускал ладонь на мягкую голову собаки. Собака поднимала морду, ловила быстрым языком его руку и возбужденно повизгивала. Потом Генька спохватывался, натягивал поводок и как можно тверже говорил:
и-иленькая моя… Соба-ачка моя… – забываясь, повторял Генька и опускал ладонь на мягкую голову собаки. Собака поднимала морду, ловила быстрым языком его руку и возбужденно повизгивала. Потом Генька спохватывался, натягивал поводок и как можно тверже говорил:
– Рядом!.. Тише иди! Рядом!..
Собака морщила покатый белый лоб и дрожала. Всякий раз, когда ее вдруг цепко останавливал какой-нибудь знакомый набежавший запах и она тянулась на него, поводок обжигал ей шею. Дыхание перехватывало, у век будто лопались ядовитые пузыри – желтые, оранжевые, красные, – и глазам становилось холодно и больно.
– Тайфу-ун, Тайфу-ун… – говорил Генька.
Провод стискивал горло, и пес, хрипя, подскакивал, разворачивался и прижимался к Генькиной ноге. Он уже понял, что теперь его будут называть так – Тайфун, хотя он на самом деле был не Тайфун, и даже не Отпор, как его последний месяц звали во дворе около базара, а… Не-ет, нет, и не Туман, конечно, – это было еще до базарных запахов, до тревожного, но в общем-то не очень опасного гула рынка, откуда его и увели и привязали потом около ящика в соседнем дворе…
А в этих краях, он, кажется, не был. Собак не слышно, и редкое дерево известит о них. А кошки!.. От каждой завалинки тянет тошнотным запахом их ленивого жира. «Ага, собака!» Пес рванулся к близкой раките и, охнув, опрокинулся – провод снова перехватил горло, и в глазах растеклась радуга яркой цветной пелены…
Час назад дядя Илья обещал Геньке сшить ошейник для собаки. Дядя сучил дратву, перекидывал в прокуренных зубах обвисший окурок и щурил глаза.
– Кобель? – спросил он.
Генька кивнул.
– Кобеле-ек, – сказал, совсем прикрыв от папиросного дыма один глаз, дядя.
Он подошел к собаке. Качнув бедром, вытянул деревянную ногу вбок и сел на маленькую скамейку. Все скамейки и табуретки в его доме были какие-то приземистые, плоские, и Генька все время думал о том, что неловко ведь ему, при такой ноге, всякий раз примащиваться на своих сиденьях и вздыматься потом на мертвую деревяшку.
Собака прижалась задом в угол и подрагивала, нервно приподнимала на всякий случай губу – показывала готовые к делу зубы. Однако тяжелая рука подсевшего к ней твердо легла на уши, прошла по спине, и пес подумал, что это она, рука, наполняет жилье таким крутым запахом смолы, курева, колбасы, пота и каких-то других, незнакомых ему вещей. Запах раздражал, но в нем была тяжелая и теплая устойчивость, и пес, напрягая под жесткой рукой спину, молчал. Он скосил глаза на своего хозяина и даже шевельнул хвостом, поняв, что тот испытывает добрые чувства от действий хромого.
Дядя подкинул тупыми пальцами опавшее ухо собаки, спросил:
– Висит?
Пес моргнул, переступил лапами, а Генька сказал:
– Подымется, он еще молодой.
– Ты, это дело, удавишь его этой телефонной, – сказал дядя, щупая провод на шее собаки. – Себе б накрутил… Горе луковое.
– Ошейник надо. – Генька г отвернулся, чтобы не встретиться, с дядькиными глазами. А тот подождал, пока он набегается взглядом по сторонам, снял с губы остаток курева и отозвался:
– Зайди когда, что-нибудь придумаем.
Потом ухватился рукой за печной стояк, тяжело поднялся и ковыльнул к окошку. Там, у низкого верстака, дядя Илья опустился в обтянутое мешковиной промятое сиденье и поглядел на пса издалека.
– Конечно, молодой, еще выдурится, – согласился он. – А мать-то как приняла?
– Мамка ругается, – ответил Генька.
– Да ведь, это дело, не своя воля, – сказал дядя. – А ты подожди, она перегорит, знаю я ее.
Под конец он обещал сшить ошейник из старого приводного ремня. Он даже показал его, порывшись в ящике с заскорузлыми опорками, и Генька с легким сердцем повернул домой.
Собака лизнула ему в коридоре руку, соскользнула с порога и потянула на улицу. В животе ее теплой звездой горел сахарный ломтик колбасы, который дал ей на прощанье хромой. Пес оглянулся, чихнул, отгоняя серые уличные запахи, и понял, что дух жилья хромого он запомнил и что хромой этот из тех, кто не часто встречается собакам. Чтобы незнакомый человек ни с того ни с сего дал такой колбасы! Может, когда-то – еще до той жуткой зимы, когда посиневшие от мороза мостовые присасывали и жгли лапы, а шерсть все время топорщилась, – и было это золотое время, но ту пору даже старые, все знающие псы не помнили. «Оно было – это райское время», – грустно теплилось в робкой душе. Но пес не помнил его, а может, и не знал вовсе, и эту утеху-веру передала ему по наследству со своею кровью мать.
Где-то в самом далеком, глухом углу памяти сохранилось зыбкое воспоминание о розоватых пупырышках на животе у такой же, как он, вислой на левое ухо собаки. И как она с глухим плачем отпихивала его лапами, когда он – самый неспокойный в компании своих сестер и братьев – начинал в отчаянии грызть ее вялые соски. Вот и все прошлое.
А все остальное было всегда с ним, он всюду носил его в своем гулком и теплом собачьем сердце: и по жарким базарам, и по густой росе, когда шлепаешь по траве, как по лужам, и по безжизненному, холодному и чужому снегу. Настоящее бежало с ним от угла до угла, от дерева к дереву; пугало грохотом оттаявшего в водосточной трубе льда, учило постоянной осторожности и наполняло душу извечной и неизбывной жаждой существования.
Генька едва успел перебежать с собакой улицу, как недалеко от них об землю стукнулся камень. Камень, не задев их, ударился в забор. Пес вздрогнул, тревожно огляделся, повернул морду к хозяину и испугался еще больше: он увидел, что и тот растерялся и опасливо смотрит в сторону ближнего переулка. Оттуда, от угла, к ним подходила группа людей. Они еще издали не понравились собаке. Она видела искорки беспокойства в глазах каждого из подходивших. Однако каждый старался казаться смелым, смелее другого – это тоже было видно, и это было особенно опасным.
– А ну, стой! – сказал один из них.
Генька знал его, все ребята называли его Титаном и боялись попадаться ему на глаза. Тишан был небольшого роста и, наверно, такой же силы, однако все, кто его знал, старались обходить стороной те улицы, где появлялся он со своей компанией.
– Чья собака? – спросил Тишан.
Пес прижался к Генькиной ноге – он понял, что речь зашла о нем, – его мышцы сразу отвердели, а кожа натянулась. Он видел таких людей, это они пинали его при случае на базаре и вместо пищи бросали добрым жестом щепку или камень. У них у всех были одинаковые глаза…
Генька сказал, что собака его, что она у него уже давно и что он обменял ее на увеличилку – выжигательное стекло. Он добавил про увеличилку, чтобы дело выглядело серьезней.
– Врешь, – сказал Тишан, оглядываясь, – ты ее увел откуда-нибудь.
– Нет, она моя!..
В груди у Геньки словно что-то закипело, в ней стало тесно и жарко. Он подумал, что Тишану ничего не объяснишь, да и не ждет он никакого объяснения, но все-таки попытался сделать это. Но ему не дали говорить. Один из подступивших, высокий и худой, держа руки в карманах, быстро сказал:
– А где у него номер? Он не зарегистрирован. Нету номера?
– Есть номер, он дома, – соврал Генька, – на ошейнике.
Генька сказал про ошейник и подумал, что так оно и будет: будет ошейник, широкий, красивый, и на нем – блестящий номер.
Тишан пнул валявшийся у ног обломок кирпича. Камень угодил в собаку, она взвизгнула.
– Ну, ты! – крикнул Генька, пересиливая спазмы, сжавшие вдруг горло и грудь. – Ты!..
– Дай ему, – сказал вместо ответа Тишан длинному.
Сухим кулаком долговязый ткнул Геньку в губы и хотел добавить еще, но не успел. Генька сам ударил его, и правой рукой и левой, он даже бросил поводок…
А собака струсила, особенно когда Тишан и остальные стали нагибаться за камнями. Она отскочила к забору и съежилась, заскулила, призывая на помощь. А потом бежала и глухо подвывала от досады и тянула, тянула хозяина подальше от злосчастного переулка. Но бег разгорячил ее. Сердце частыми взрывами сотрясало все тело, кровь стремительно разносила по жилам огонь силы и отваги. И пес представил себе, как он яростно, слепо бросается на обидчиков, как они в страхе бегут прочь, а он, не прощая им трусости, рвет зубами самое опасное и ненавистное – их ноги. Жалобные вскрики только разжигают и ожесточают его еще больше, и лишь настойчивый голос хозяина заставляет его оставить врагов…
– Да с-стой ты! – сказал Генька, всхлипывая, и освободил стянутые проводом пальцы. – Ссстой…
Собаке было горько, стыд заглушал даже острую резь на шее. Она хотела лизнуть Геньку за руку, но промахнулась и лизнула себя в то место, где оставил след камень.
А Геньке опять сдавило горло, глаза набухли. Он молча погладил собаку и ощутил на своей руке горячий влажный язык. И он оглянулся назад и тоже увидел все, что было за минуту до этого, по-другому… Сильный и ловкий, натренированный в секции бокса или даже каратэ, он несколькими быстрыми ударами – раз! раз! раз! – сбивает с ног всех, кто только что бил его и куражился над ним и собакой. Он не трогает одного Тишана, потому что тот лежит на земле лицом вниз, и стонет, и закрывает цыпочными руками голову. А над ним, наступив на него передними лапами, стоит Тайфун и ожидающе смотрит на Геньку. А он небрежно кивает головой в сторону поверженных дружков Тишана и говорит их трусливому вожаку:
– Когда они очухаются, ты скажи, что я и руки марать об тебя не захотел… Но если еще раз тронешь кого из наших…
Около разбитой трансформаторной будки можно было набрать кирпичей – там, в зарослях лебеды, было много их обломков. Но Генька никогда не видел, чтобы конура была из кирпича. Он облазил сарай, перетряхнул в отсутствие матери все на чердаке, но ничего подходящего не нашел.
Чердак был его любимым местом. Тут всегда было тепло, особенно у борова – обмазанного глиной дымохода, где висели пересохшие пучки какой-то травы и связка старых чулок. В углу, с тех самых пор, как Генька себя помнил, валялись два ломаных гнутых стула, посылочный ящик с пузырьками и бутылками, рамка от портрета. Посередине чердака, где можно было пройти не нагибаясь, мать вешала бельевую веревку, конец ее она свивала в кольца и набрасывала на гвоздь.
Она не сразу заметила, что кто-то отрезал часть веревки. Это было уже недели через две, перед праздником, когда она перестирала все до нитки и они вдвоем с сыном едва втащили по лестнице набитый доверху таз. Пройдя несколько раз взад-вперед по чердаку, мать нацепила веревку и набросила было остаток ее на гвоздь, но тут же, решив, что для белья не хватит места, растянула веревку полностью и увидела, что конец ее отрезан и самый хвост расплелся. Показывая его Геньке, мать сурово спросила:
– На нем собака бегает?
Генька кивнул. Он переступал по хрустящему шлаку и держал на весу тяжелый цинковый таз, прижимая ребром к животу.
– Я тебе сказала, чтобы ты убрал эту тварь? Мимо забора никому пройти нельзя – брехать начинает. Брешет на каждого встречного. А чего сторожить? Ботву, что ли? – говорила мать.
– Она теперь меньше гавкает, – отозвался Генька. – И сад будет охранять…
Мать хотела что-то сказать, но вдруг остановила взгляд на трубе, потом повернула лицо к сыну:
– А паголенки где?
Может, пять, а может, десять лет – так казалось Геньке – висел этот пук изношенных чулок, и никому не было до него дела. Иногда мать завязывала каким-нибудь паголенком мешки с картошкой – да и то не из этих, с чердака, а из комода, из нижнего ящика, где хранилось всякое тряпье. Но стоило ему взять их, как мать сразу это обнаружила.
– Паголенки где? – повторила она, отвернувшись, расправляя очередные жгуты белья.
Генька сразу решил признаться, сказать, что они внизу, в сарае, постелены Тайфуну – набросаны на холодную землю, но мать вздохнула, покачала головой, и он молча, руками и животом, приподнял таз навстречу ее нетерпеливым пальцам.
Со двора донесся голос сестренки. Слышно было, как она открыла дверь в сарай и как радостно заскулила собака. Когда Генька с матерью спускались по крутой лестнице вниз, собака что есть мочи крутила хвостом и припадала на передние лапы. Через порог сарая червяком свисал наружу фильдекосовый обносок.
– Уроки сделал? – спросила мать.
– Сделаю, – сказал Генька, – сегодня мало задали.
– У тебя всегда мало, – устало отозвалась мать и направилась к дому.
А Генька заторопился к Тайфуну.
Он все-таки натаскал кирпичей с развалин трансформаторной будки и сложил из них жилье для собаки. Потом сходил на станцию, принес оттуда несколько кусков ржавого железа – из него сделал крышу. Землю в конуре он утрамбовал ладонями и застелил фанерой.
– Лучше бы, это дело, в сарае его держал, – сказал, увидев Генькину работу, дядя Илья.
– Мамка не разрешает, – сказал Генька без особой обиды.
– Ну-ну, – кивнул дядя и приладил собаке ошейник.
– Ну, прокурат! – говорил он позже, глядя, как пес по Генькиной команде быстро шмыгнул под палку, вместо того чтобы перемахивать поверх. – Ну, прокурат!..
– Алле! Алле! – повторял Генька, понукая собаку и опуская палку все ниже и ниже.
– Когда я пас коров в деревне, у меня был кобель – Грозный, – рассказывал дядя Илья, пока Генька готовил новое упражнение для собаки. – Лапа – во, в руку… Ей-богу, не вру. Но главное – смышленый был как не знаю кто. Еще сказать не успею: Грозный, ну-ка… – а он пошел. Хвост положит и – в обход: либо отстала какая, либо в клевера наладилась. А он и голос подаст, и зубами хватит какую для памяти. Ну, хитер был!.. Исключительно все понимал, как будто кто учил его. А когда холод, – ляжет рядом и греет. Сам, ей-богу!..
– Тайфун тоже такой, – оглянулся на свою собаку Генька, представляя себе, что это именно она по одному движению руки устремляется по большому кругу и собирает в стадо отбившихся коров…
Потом он волочил по земле чулок с вареной картофелиной, прятал его в саду и подводил собаку к началу следа.
– След! След! – повторял он, показывая рукою, куда надо идти.
Пес перебирал в нетерпении лапами и фыркал. Он глядел Геньке в глаза, и тряс головой, и виновато подвывал.
– Ишь ты какой, – сказал дядя Илья Геньке, – шустрей его. – Он кивнул в сторону собаки. – Это те не овчар…
– Он все понимает, он только еще не умеет, – говорил горячо Генька. – Все-все понимает.
Он взял обструганную палку, поднял с земли камень и швырнул его в кусты и крикнул:
– Нарушитель границы!
Пес залаял и кинулся к кустам. За ними притаились злые холодные тени; они зашевелились, но не успели вырваться наружу, и оружие Геньки хлестнуло по темным сгусткам зелени. «А-а-а!»– вскрикнул Генька, и пес испуганно отпрянул, но тут же тоже закричал по-своему и запрыгал, выплескивая из гудящей груди удаль.
– На! На! – Точные удары Геньки повергали на землю коварного врага. В отчаянии враг выбрасывал ему навстречу сразу тысячу рук, раскачивал землю под ногами, пытался вырвать у него страшное оружие, оглушал безумным шипением. – На! На! – ликовал Генька, и визжал, заливался лаем пес.
Потом Генька собирал головы врагов – сбитые ветки жирной крапивы – и куда-то уносил их; и пес, высунув язык, не отставал от него. Дядя, забыв оживить схваченный зубами, уже потерявший тепло окурок, долго смотрел на племянника и на его собаку, потом потоптался, похромал по двору и, не заходя больше в хату, ушел.
Генька почти перестал убегать на улицу, где обычно проводил большую часть дня. Теперь он под трель последнего звонка торопился из школы домой. Он подбегал к калитке и, в ответ на радостный лай собаки, кричал: «Тайфун! Тайфун!» Пес подскакивал на привязи, вытягивался в струну, загребал воздух поднятыми лапами и лизал Геньку в нос и щеки. «Чужой!» – кричал Генька, оборотись к забору, и пес, щурясь от счастья, видя, что его разыгрывают, подавал голос и возбужденно скулил.
Первое время ребята подолгу кричали за воротами, вызывая своего приятеля на улицу. Собака лаяла на них. Генька выходил за калитку, что-то объяснял им, и они, пожимая плечами, уходили на речку. Потом ребята почти перестали приходить к его дому.
Дядя Илья опять приковылял к ним. Прижигая одну цигарку от другой, он спокойно слушал жалобные слова матери о тяжелой жизни, об усталости. И о собаке что-то сказала мать.
– Ну, ты, это дело, зря, – сказал дядя, отклеивая от губы окурок. – Мешает, что ль? Брехать перестал…
– Ага-а-а, – протянула мать. – Отлупцевала пару раз окамелком – перестал. – Потом, помолчав, добавила – Вся зараза от него.
– Вот уж не скажи, – твердо произнес Илья. – У них, это дело, все имеет назначение: где едят, где возятся, где даже туалет. Да-да-да.
– Брось ты еще! – отмахнулась мать.
– Я тебе говорю, – сказал убежденно дядя.
– А что я, гоню ее? – пожала плечами мать. – Только бы уроки все делал. – Она вздохнула и покачала головой – В школу никак не сходить. Слава богу, хоть пока не вызывают.
– Цепку ему принесу на неделе, обещал один, – сказал дядя и пошел на двор.
Там он сел на сложенные у сарая дрова, вытянул поудобней нездоровую ногу и глядел, как Генька возится с собакой. Он видел, как тот порывисто притягивает ее к себе, что-то шепчет, прижимается щекой к ее трепещущему носу. Генька поднимался в рост и делал сердитое лицо. Собака тоже выпрямлялась, наклоняла голову и внимательно смотрела на хозяина. «Лежать!»– строго говорил он и взмахивал рукой, и приседал, чтобы собаке было яснее видно, чего он хочет. Собака припадала на передние лапы и лаяла, потом снова вытягивалась, напрягала поводок и склоняла голову в другую сторону. «Лежать!»– повторял Генька и придавливал рукой зыбкую спину собаки. Лапы ее надламывались, она нетерпеливо скулила и, царапая землю, выскальзывала, вырывалась из-под нервных Генькиных пальцев и тут же ловила их горячим языком. Она виляла хвостом, и повизгивала, и замирала вдруг на какое-то время, и весь вид ее выражал полную преданность и послушность.
«Ай, горе луковое… Правда что руки свербят. Собаку надо научать, а не ластить. Ну, куда это годится!.. Ай ты, горе луковое…»– Дядя торопливо выправил ногу, неловко поднялся и двинулся к Геньке, чтобы сказать все это.
А тот сам оборотился к нему и засмеялся.
– Вот, – сказал он, – уже все. Смотрите.
– Лежать! – крикнул он собаке и присел.
И пес присел, потом опустился ниже и положил морду на лапы. Он мигал и шевелил повислым ухом.
– Тайфу-ун, Тайфу-ун… – говорил Генька и гладил собаку. Он опять обхватил ее руками и притянул к себе…
Осень была длинной и сухой. А в первый же долгий дождь обнаружилось, что крыша в конуре протекает. Накинув на голову старую клеенку, Генька сидел на корточках и смотрел, как вода рваной струйкой пробивается в обжитой домик. Пес жался к сухому. Генька протянул руку, пес быстро поднялся и ткнулся в ладонь холодным носом. Цепочка капель упала на спину, битой ртутью побежали бисеринки по шерсти. Генька расправил клеенку и накрыл ею конуру.
– Это пока, – сказал он собаке. – Когда приду из школы, сделаю как надо. Ты потерпи, теперь не будет капать.
Еще до начала уроков дождь кончился. Солнце, словно возвращая долг, ровно разливало тепло по мостовым и крышам. Но пар не поднимался, как это было летом, от залубенелой земли, – синие лучи света будто скользили по ее поверхности. Деревья стояли сочные, разнотоновые: одни едва тронутые янтарной желтизной, другие – налитые живым пламенем. Пышен был их убор, настолько пышен, что казался неестественным. Однако в безветренном трепете листьев уже видна была их обреченность.
Генька не видел деревьев, но видел солнце – и радовался. Он бежал, и на душе у него было светло и легко. Может, в школе дела шли хорошо или он что-то такое придумал… Он взялся за щеколду и хотел что-то крикнуть, но не крикнул и выпустил из пальцев холодную железку. Сердце его, которого он до этих пор никогда не чувствовал, тонким звоном отозвалось на щелк запора. И, совершенно отчетливо услышав этот звон и сильно испугавшись его, Генька шевельнул губами и произнес первое слово. Оно открыло калитку, перенесло его во двор, к конуре, потом бросило к сараю…
– Тайфу-у-у-ун! – повисло оно над ущербными кустами и пожухлой травой, над выгоревшей и вымытой дождями толевой крышей сарая, над протертой на сгибах клеенкой, укрывшей собачий дом.
Генька несколько раз обежал сад. Одежда его намокла. Он долго всматривался в темноту под порогом, влез на чердак – он как-то втаскивал на руках собаку туда, – сдвинул в сторону часть поленницы. Всякий раз, когда в сознании возникало место, где могла оказаться пропавшая собака, он с полной надеждой устремлялся туда и звал ее…
– Тайфу-у-у-ун… – сказал он наконец в последний раз и остановился. Он не плакал – плакал позже, на другой, третий, четвертый день, – беда была горше слез. С трудом, со стоном втягивал в сжавшееся горло воздух. Горло словно перегородили чем-то, и эту перегородку никак нельзя было преодолеть.
– Да не я, господи, пропади она пропадом. Не я… – говорила л утирала слезы мать.
Всю ночь она слышала всхлипы за перегородкой, где спали дети. Иногда ей удавалось забыться коротким сном, но всхлипы и шепот сдергивали тонкую пелену забытья, и она сама вздыхала, ворочалась и покашливала, чтобы за перегородкой утихли. Мысленно она уже много раз накричала на детей, прошла к ним и, как иногда это делала, отшлепала легкой рукой поднятые коленками одеяла. Но подняться так и не решилась. Утром, встав не вовремя, чего с нею давно не случалось, она забеспокоилась о сыне, но того уже не было дома. Он долго не возвращался с уроков, и мать отправила за ним сестренку. В школе Геньки не было, он и не приходил туда в этот день. К вечеру в калитку стукнул дядя Илья…
А Генька побывал в том месте, где впервые встретил свою собаку, обежал соседние улицы и открытые дворы. Он все дальше и дальше уходил от своего дома. Ему казалось, что встречные люди, по крайней мере некоторые из них, могли знать о его собаке или даже видеть ее. Он спрашивал их, но люди, с видом, будто им ничего не известно, пожимали плечами и шли своей дорогой. И тогда он направился к Тишану. С тем был лишь один из его команды – длинный.
– Не видели мою собаку? – спросил у них Генька.
Тишан долго смотрел на него, что-то соображал, и у Геньки затеплилась отчаянная надежда. Он подумал, что Тишан, в сущности, может быть, совсем не плохой человек, совсем не плохой… Может быть, он даже человек добрый и честный… И зря он считал, что…
Тишан повернул голову и посмотрел на своего тощего дружка и – «ха-ха!»– вдруг засмеялся.
– Ха-ха-ха! – хохотал он, вытянув вперед палец и откинув голову. – Своего кабыздоха ищет!.. Ха-ха-ха! Я увел!.. Скажи ему, – обратился он к длинному. – Собачеям отдал, на живодерню. Он же у тебя без номера, бродячий!..
«Он же без номера!.. У собачеев!..»– неслось вслед побежавшему Геньке.
– Да не я, господи… Не я… – говорила Илье и утирала фартуком глаза мать. Она сжимала в кулаке градусник и чувствовала, как он остывает в ладони.
Генька лежал на материной кровати. Он шевелил губами и морщился. И мать морщилась и вытирала фартуком лицо. Дядя Илья сидел у окна, и трогал рукой нездоровую ногу, и глядел на улицу.
Жар у Геньки держался четыре дня. На пятый температура спала, и Генька вышел во двор.
Школа, где он учился, была старой. Окна их класса на первом этаже шли вровень с ростом Генькиной сестренки, так что она, привстав на носки, могла даже заглянуть внутрь помещения. В этот раз она так и сделала: вытянулась на цыпочках, прижалась подбородком к нижнему карнизу окна и, сдерживая быстрое дыхание, глянула в туманную глубину класса. Все были заняты делом, и никто не обратил на нее внимания, кроме брата. А он встрепенулся, вытянул шею и впился глазами в маленькое лицо за стеклом.
– Выйди! – поманила сестренка рукой. – Я тебе скажу… Да не могу я в окно!.. Выйди!..
Она видела, как Генька поднял руку и встал, что-то говоря учительнице и показывая в сторону окна. Девочка пригнула голову и, крадучись, заторопилась ко входу.
– Собаку нашли! – выпалила она, едва Генька появился в дверях. – Мамка говорит…
Но брат не мог услышать ее дальше: теплая сила подняла его и земля понесла как на руках – быстрее, быстрее!
«Миленькая моя… Соба-ачка моя…»
Он миновал калитку. «Та-ам…»– показала рукой мать, и Генька вбежал в комнату и увидел собаку…
Только это был не Тайфун. Это был маленький желтый щенок, с беззаботной, непуганой мордой. Он уперся дрожащими лапами в пол, потянулся, выгнув жидкую спинку, и зевнул.
…Из глаз Геньки текли слезы. Правда, это были другие, не вчерашние, не прошлые слезы, но они, как капли с горячей свечки, катились и катились на золотистую шерстку щенка…







