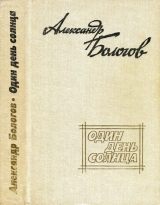
Текст книги "Один день солнца (сборник)"
Автор книги: Александр Бологов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 25 страниц)
Вещь чистого золота
1
 аспанная Егоровна пошла разведкой вдоль тихого вагона – пошлепала в своих несменяемых, чужого размера тапочках. Тапочки были забыты кем-то из пассажиров. А может, и не забыты, а просто кинуты как никудышные или до страсти надоевшие, – бывает такое. Егоровна сама уже не раз чинила их: то верх расползся – нитки сопрели, то подгнившая стелька завернулась. А потому что удобные: свесишь ноги с полки – и суй в обувку, стоит наготове. Ноги слабые уже, все в шишках-мозолях, а в этих, даром доставшихся, шлепанцах – как у себя дома. Летом, когда носила вагонную обувь на босу ногу, Егоровна заталкивала в носки вату, для плотности; зимой с шерстяным носком, она и так была хороша.
аспанная Егоровна пошла разведкой вдоль тихого вагона – пошлепала в своих несменяемых, чужого размера тапочках. Тапочки были забыты кем-то из пассажиров. А может, и не забыты, а просто кинуты как никудышные или до страсти надоевшие, – бывает такое. Егоровна сама уже не раз чинила их: то верх расползся – нитки сопрели, то подгнившая стелька завернулась. А потому что удобные: свесишь ноги с полки – и суй в обувку, стоит наготове. Ноги слабые уже, все в шишках-мозолях, а в этих, даром доставшихся, шлепанцах – как у себя дома. Летом, когда носила вагонную обувь на босу ногу, Егоровна заталкивала в носки вату, для плотности; зимой с шерстяным носком, она и так была хороша.
Егоровна видела, что одеяла некоторых, неспокойных во сне, пассажиров свесились до самого пола, по которому перед ночью, в суете, она не успела пройтись веником, но поправлять их не стала – лень взяла. Зыбкий сон на последнем перегоне больше утомил, чем освежил, – тут ведь, как говорится, лег – свернулся, встал – встрепенулся.
Поддавшись обычному минутному страху: не прозевала ли какую станцию, не проехал ли кто из пассажиров свою остановку? – Егоровна поднесла к глазам руку, поглядела на маленькие часики, взятые на ночное время у молодой напарницы, и успокоилась – пора была еще ранняя. Но часы – часами, да и все-то – с пуговку: как ни касалась ухом, не уловить хода, может, и сбились где, – она все-таки поднялась и пошла поглядеть вагон.
Спали не все. В купе у дальней двери, в полумраке, она различила парня, еще с вечера примостившегося на краешке нижней полки, занятой молоденькой девчонкой. Значит, до сих пор дежурит, как присох. Разговора, даже шепота, слышно не было – млели, видно, уже без слов. «Пусть себе, раз хотят, – подумала Егоровна, – остальным не мешают», – и сделала вид, что ничего худого не заметила.
Верхнее место в соседнем купе пустовало. Егоровна вздохнула, провела по уголочку полки рукой, как бы жалея того, кто еще совсем недавно был ее временным хозяином. Да. Был… Промаялся на ней полночи без сна, не раскладывая тюфяка, не стеля простыней, и высадился в полную темень на тихой станции под Орлом…
А каким складным да веселым сел-то в вагон, господи! «Вот сынка бы такого иметь в жизни, – подумалось еще Егоровне. – Дает же бог кому-то…» А буквально через какой-то час или чуть больше, пока она отчиталась перед бригадиром за места, разожгла титан, то да се, парня этого, солдата демобилизованного, словно в мертвой воде искупали – таким потерянным и убитым увидала она его в тамбуре…
Конечно, было бы знато, она бы не допустила этого, метлой бы поганой вытурила обкрутивших его жуликов из вагона, да ведь они замажут глаза кому хочешь.
Своих пассажиров обычно знаешь. Пока билеты поглядишь и людей посадишь, по вагону посмотришь – бывает, места не сойдутся или два посадочных дадут на одно, по-свойски где-нибудь на малой станции: на месте, мол, проводники рассадят, никуда не денутся, – пока белье разнесешь, то да се, и на лицо вроде бы уж отличаешь своих, даже по купе – из какого. Но ведь бывает и не до этого. То ишиас крепко прихватит – еле выстоишь посадку, то с водой волокитятся до последней минуты и заправщики бегают по крышам вагонов, тянут рукав, когда уж на выходе зеленый горит, а ты вынуждена красный из чехла доставать и держать. Да мало ли бывает.
Одного из этих аферистов она очень хорошо запомнила – он первым, едва тронулись, появился в вагоне и зыркал по сторонам, искал, к кому подсесть, где выгорит дело. Второй-то позже подошел, как бы проходя мимо, и устроился напротив компаньона не сам, а по приглашению самого парня, солдата, уже втянутого в игру. Так у этих проходимцев все было разыграно. Это уже, конечно, пассажиры рассказывали, кто из них всю эту картину наблюдал.
Она видела, что играют в карты и что зеваки уже собрались. Большей частью так и бывает: и подначки всякие, и шум, особенно если есть смена проигравшим, – а тут тихо, нервная какая-то игра. Видела, а значения не придала – так, проскользнула глазами по всем и прошла себе куда шла.
Сперва, как потом восстановили картину, играли без интереса – недобор, перебор, то один раздает, то другой. Карты крепкие, хорошие, хотя и без особых рисунков, какие теперь часто бывают. Потом солдату надоела пустая игра, и он предложил сыграть на мелочь, до рубля: как рубль кто-нибудь проиграет, так и все – и карты в кучу.
– У меня всего-то рубля три, – сказал хозяин карт, посмотрев в кошельке и вроде колеблясь. Потом высыпал мелочь на столик, посчитал ее пальцем и махнул рукой – Ну, вот на эти – ладно, так и быть, проиграю.
А парень – отслуживший стройбатовец, домой ехал – играл лучше: раз, раз – и двадцать одно. Опять сдают карты – и опять двадцать одно. Его партнер и снимать ему давал, и колоду по нескольку минут мешал, а солдату все равно везет. Потом и второй подъехал, с рыжинкой; встал в стороне – об верхнюю полку рукой – и смотрит бараньими глазами, словно очень удивляется всей картине.
Сначала по пятаку на кон ставили, потом по гривеннику оказалось. Этот – чьи карты были – стал волноваться, покраснел, пальцы стал слюнявить, чтобы картами легче управлять. А парень уже в азарте, уже в аппетит вошел, потому что как свой гривенник кинул на столик, так и в карман больше не залез – чужими монетами расчет вел.
Тут уж банк большой скопился. Парень раздает, а у партнера только на ответ и осталось серебра. Взял он карту, поглядел на нее и на кучу денег, потом на руки солдата – а тот барабанит весело пальцами по колоде – и – «На все», – говорит. Солдат дал. «Еще». Будьте любезны. Взял, да не та – перебор.
Тот, что в проходе стоял, рыжий, не вытерпел, всунулся:
– Эх ты… Зачем на все-то шел? С шестеркой-то? – говорит проигравшему.
– А ты сам сядь, – отмахнулся тот.
– С ним сядешь, – кивнул рыжий на солдата, отгребавшего в свою сторону горку мелочи. – Так он и на пол-литра наберет.
Солдат – рот до ушей – пожал плечами и подвинулся.
– А чего, садитесь…
Приглашенный потряс головой, а сам сел – робенько, на краешек полки, поглядел, знакомясь ближе, на того, что был напротив, на солдата рядом и – была не была – достал рубль.
– Разменяй.
Солдат откинул ему, по одной, сколько надо белых монет, а рублевку оставил на столе – класть в карман было, наверно, неловко. Так разбили первую бумажку.
Потом, опять же с гривенника, пошел кон, и хозяин карт как-то незаметно возвратил себе часть мелочи, повеселел. Да и демобилизованный не очень огорчился – чужие деньги по столу передвигались. Вновь вступивший в игру особо не размахивался и все время был при своих: гривенник положит, гривенник возьмет, даже на пятачок шел, что солдату уже мелким казалось и не нравилось. А ему и в треугольнике фартило: зачинщик всей игры вскорости опять все серебро сдвинул в банк, и, чтобы было чем отвечать, вынул из кошелька трояк и попросил стройбатовца разменять его.
– Подождите, я сдам, может, вернете, – сказал тот весело, тасуя колоду.
Но, видно, плохо стасовал, потому что опять карты пошли не в лад и кучка мелочи вся сдвинулась к нему самому. Трешку, когда разменял, он не стал держать на столе, а затолкнул, сминая, в нагрудный, кармашек.
Солдат, как видели все, был не промах – так он все дело обернул, что на карточного владельца стало жалко смотреть. Явного вида он, понятно, не показывал, но руки выдавали. Карты, хоронясь, в кулак зажимал, до-взятые открывал не сразу – выдвигал медленно, с уголочка, словно от этого зависело самое лучшее совпадение.
А не везло. Ну, хоть разорвись. Все за него переживали. И троячок разбитый так же уплыл, как и первая мелочь. Невелики, конечно, деньги, но все равно деньги. А новичок в какой-то момент тоже чуть с последним двугривенным не расстался, уже рыжий чуб свой трогал нетвердыми руками, но незаметно поправил дела, опять все возвернул и даже в барыш пошел. Но внимание, ясное дело, было не к нему.
Чем больше ставят, тем, само собой, и игра круче идет. Этот снял, этот сдал., прошли круг, два, потом еще. И опять главный затейник все выложил, а ему очередную карту дали, и хорошая попалась – десятка, как потом выяснилось. И по нему было видно, что хорошая.
Ну и что, что хорошая, если денежки уже спущены? Рыжий улыбнулся неловко, пожал плечами – ничего, мол, не поделаешь, карты вниз, а руки вверх. А тот, с десяткой, подумал чуть, карту быстро укрыл за пазуху и вынул бумажник, а оттуда, из дальнего отделения, – стиснутую вчетверо четвертную. Вот так… А говорил, три рубля, мол, всего и есть…
Тут женщина – она потом все это и рассказала, потому что сидела на боковом месте и все видела с самой завязки, – даже испугалась: шутка ли, какие суммы пошли. Она поднялась и ушла от греха в другое купе, на свободное сиденье. А когда вернулась, на месте остался один солдатик. В лице ни кровинки, совершенно растерявшийся, и вроде бы даже в толк не возьмет, что же такое с ним произошло. Я, говорит, все деньги проиграл.
– Как проиграл?
– А так…
– Кому?!
– Этому, который позже подошел.
– Рыжему?
– Да.
– А другой?
– Он тоже все проиграл.
– Ах, боже ж ты мой! И много денег?
– Много.
– Сто рублей!
– Больше… Все проиграл…
Он за всю службу, что в стройбате работал, все эти деньги получил и вез домой. Ну, дурачок! А эти были аферисты, оба они были заодно, и думать нечего. Который все выиграл, когда вытянул из солдата весь капитал, сразу вдруг есть захотел. Пойду, говорит, перекушу, потом продолжим. Я тебе, говорит солдату, займу для игры сколько надо, ты подожди.
И ушел в вагон-ресторан. А потом и второй поднялся, тоже с виду очень расстроенный.
Когда в вагоне про это все узнали, все и пришли к выводу, что это были проходимцы. Конечно, она, Егоровна, посоветовала, что надо бы сделать, – в ресторан люди сбегали, военные офицеры вызвались. Да, так они и ждали!.. По всему поезду искали – как сквозь землю оба провалились. Солдата и жалели, и ругали, пора бы уж, дескать, знать: где на деньги игра, там не жди добра. А я, говорит, хотел, когда выиграю, все им вернуть, потому, что, мол, всего на рубль играть договаривались. И они, думал, тоже отдадут назад выигранное. Отдали…
Солдатика кто-то в ресторан сводил, угостили выпивкой, чтобы поуспокоился – черт с ними, с деньгами, наживутся еще. Но у него, видно, все его планы рухнули. Так потом долгое время и проехал в тамбуре, глядя неподвижными глазами в окошко; уже в ночи, после всех, на полку лег…
Он и во сне, пока дремала, не выходил из головы… «Эх, голова садовая…»– Егоровна вздохнула.
В середине вагона она задержалась. На семнадцатом месте сил нет как храпел пассажир. Егоровна хорошо помнила этого мужчину – компостированный билет у него был от Мурманска. Когда, уже в сумерках, она разносила последний чай, этот самый пассажир, веселый и говорливый, приглашал и ее к столику, толкал в руку стакан с желтым вином. «Я сейчас молодую пришлю», – отмахнулась Егоровна, но Люду, однако же, будить не стала – та отсыпалась за предыдущее ночное дежурство.
Егоровна нагнулась и тронула храпуна за плечо. Тот ненадолго затих, но тут же, как бы в возмещение простоя, затрубил еще пуще. И тогда Егоровна крепко взяла его за тяжелую руку и, поправляя на ходу подушку, перевалила со спины на бок.
– Что такое? – встрепенулся мужчина. – А? – Он приподнял голову и, вытаращив глаза, беспокойно повторил – Что такое?
– Ничего, – недовольно отозвалась Егоровна, отклоняясь к проходу. – Не один едешь, храпеть на весь вагон…
Пассажир, видно, сообразил, в чем дело, потому что кивнул, сощуренно поглядел на другие полки и, как и устроила его Егоровна, повернулся лицом к переборке.
Егоровна, более не задерживаясь, возвратилась в служебку. Люда спала, обхватив руками подушку и утопив в ней чуть ли не всю голову. Ноги – одна поверх одеяла – были по-детски широко раскиданы. Так, на животе, спят неспокойным сном; это Егоровна знала – насмотрелась за многие сотни поездок. Ровный сон обычно у тех, кто как приладил щеку на отдых, так и не шелохнется до рассвета или до тех пор, покуда не растолкаешь его на нужном перегоне, за полчаса до высадки. И среди женщин иногда встречаются люди, такого сорта. Они и просыпаются-то после полного забытья как огурчики: лицо – что яйцо, гладкое да тугое, глаза чистые, и расположение духа – позавидуешь. Все, что ни делаешь, им по нраву. И дела, видно, у таких идут – грех жаловаться. Как живется, таково и спится.
Егоровна закинула наверх свесившийся с Людиной полки конец покрывала и, сбросив шлепанцы, снова устроилась дремать. Люда вьюном крутилась по ночам, в гармошку сворачивала и простыню, и накидку. Вот и сейчас, едва успела Егоровна прислонить голову к твердой, как камень, холодной стенке и прикрыть веки, как девчонка опять завозилась, разметала в стороны худые голые руки – так, что одна свесилась, как неживая. Опять сползло углом байковое одеяло, но Егоровна не поднялась поправить его, подумала устало: «Затекет рука – сама уберет…» Потом потеряла было и эту мысль и все другие, какие возникают коротким свечением в затуманенном близкой дремой мозгу, но тут лязгнула железом сцепка, в голове на момент прояснело.
Охнула во сне Люда, и Егоровна вздохнула – как бы в поддержку молодой напарнице. Но тем же временем подумала: «Мается, господи твоя воля… Хлопот полон рот…» Потом еще какие-то мысли прошли, угасая, – и о Люде – «Мне б ее заботы…», и о проигравшемся в прах солдатике, и о том, что, видно, дверь в задний тамбур кто-то опять оставил открытой, потому как тянет свежим холодом понизу; что вроде бы кончается уклон – и, значит, скоро Поныри… «А… в Понырях… Кто же выходит в Понырях?..»
На этом она и забылась коротким сном и уже не слыхала, как ее молоденькая помощница снова заворочалась, и проговорила что-то невнятное и даже застонала, потому что видела нехороший сон.
Люда видела, будто бежит по какой-то очень знакомой улице за своим парнем Валерием. Он, как всегда – в желтой безрукавке и узких джинсах. Но куда же он направляется? Да он и не один: кто-то ведет его, тянет за руку… Люда пытается приблизиться к Валерию, ухватиться за него, чтобы спасти, освободить для себя, но тяжелые ноги едва слушаются, все труднее отталкиваться от сыпучего песка дороги… Ей уже нечем дышать, колет сердце, а яркая рубашка Валерия мелькает все так же далеко… Не догнать, не догнать…
Но – ах, ну да. Ну конечно… – в который уж раз, в самый последний момент отчаяния Люда осознает, что это всего лишь сон, но просыпаться окончательно не хочет, а может, и не в силах этого сделать и какое-то время пребывает в состоянии легкого расслабления души. Ей, конечно же, приятно неожиданное избавление от тягостного сна, с другой стороны, она, как в жизни, как наяву, и – главное – независимо ни от чьей воли, видела своего Валеру… Он даже мог оказаться совсем рядом и, может быть, подчиниться какому-нибудь тайному ее желанию… «Не просыпаться… не просыпаться…»– старается она напрячь всю свою волю и погрузиться во мрак, снова растворить зыбкие ощущения в желанной усладе забытья…
И тут же она снова увидела Валерия. Она держит его за тонкую руку и двигается – будто летит – к плечу плечом по другой знакомой улице с высокими домами. Они направляются к одному из них. Люда просит Валерия ответить на какой-то очень важный для нее вопрос, но он качает головой и молча ведет ее к намеченному дому. Он ничего не говорит, только улыбается, и эта его улыбка кажется Люде необычайно чистой и доброй. Но вот они оказываются у огромного окна – а может, думает Люда, это такое темное зеркало, – и Валерий показывает на него рукой… Люда пристально вглядывается в стеклянные проемы и видит там его ясное отражение, а рядом с ним – не себя, а кого-то другого: какую-то женщину, которая, как и Валерий, укоризненно качает головой и улыбается ярко накрашенными губами…
И опять она проснулась в самый горький момент забытья и обрадовалась, что вот она, оказывается, тут, в служебном купе своего плацкартного вагона, а не у странного зеркала; и все, что показывало это зеркало, – лишь плод ее мучительных ночных видений. Что – сон? Глупость какая-то – и все. Наплевать на него с верхней полки…
– Тетя Сим! – позвала Люда, не поднимая головы. Она каким-то образом чувствовала, что та находится рядом, хотя и не слышала ничего, кроме ровного перестука колес. – Где едем, а?
– Поныри проехали, – не спеша отозвалась снизу Егоровна. – Теперь Курск. – Она широко зевнула, пробубнив невнятно какие-то слова, и яснее, чтобы слышала Люда, добавила – А ты что? Спи знай.
– Да проснулась…
– Приснилось что?
Егоровна тоже постоянно видела сны. Она верила в их вещее значение и, после особенно мрачных, а потому и прочно оседавших в душе, подолгу ждала от жизни какой-нибудь очередной каверзы. Предчувствия ее часто сбывались. Самыми тяжелыми, воскрешаемыми во сне, картинами прошлого – а оно никак не размывалось временем, не тускнело в памяти – были картины войны, о которых Люда, слава богу, и представления не имеет. И тут, слыша, как та облегченно вздохнула наверху и потянулась на полке всем своим телом, распрямила молодые косточки, она повторила вопрос:
– Страшное что-нибудь? Не кровь ли? Кровь – это… – Егоровна хотела сказать своей юной подружке что-нибудь теплое, успокаивающее, а кровь во сне – «к близким родственникам»– давала к тому легкую возможность. Но Люда перебила:
– Не-ет, – засмеялась она. – Это к родным, я знаю. Ой, тетя Сим, такое снилось, просто ужас. Я вам расскажу…
– Валерка небось?
– Ага.
– Ну факт, кто же еще…
– Да правда, тетя Сим. – Люда свесила голову. – А зеркало – к чему, вы знаете? Большое-большое, больше трюма…
– Зерькало? – Егоровна переспросила лишь затем, чтобы успеть придумать какое-нибудь подходящее объяснение. К чему может присниться зеркало, особенно если бьется, она имела представление: в лучшем случае – к тяжелой болезни. А в худшем… Немало слыхала ома жутких историй, которым предшествовали сны с зеркалами. Да и свою жизнь копнуть – можно вспомнить…
– Ага, зеркало, – повторила Люда; она даже попыталась показать его размеры руками – Вот такое, как стекла в большом магазине, вроде нашего универмага.
– Смотря в каком виде оно было, – уклончиво произнесла Егоровна.
– Нет, вообще – к хорошему или плохому?
– Я же говорю, смотря в каком виде. Другой раз бывает так, что не совпадает… Если вот разбитое видишь – это хужее…
– Нет, целое. Оно было…
Будь Люда более чутким человеком или будь она в эту минуту занята лишь толкованием своего странного сна, она бы, возможно, уловила в ответах своей старой напарницы некоторую недоговоренность, эдакий туман. Но она, успокоенная радостью пробуждения от скверного сна, думала прежде всего о том, что все это, скорее всего, ерунда – вещие сны, мало ли она их видит каждый день; думала что-то неясное о Валерии и уж потом, как бы попутно, о роли в сновидениях зеркал.
В дверь служебки постучали. Егоровна зашарила ногами по полу, всунула их в остывшие шлепанцы.
– Дайте стаканчик – попить, – глухо сказал просунувшийся в дверь заспанный мужчина.
– У питьевого крана, – сказала Егоровна слова, которые произносила десятки раз на дню.
– Там нету, – просипел пассажир.
«Ах да, это же тот, губастый, что вином с вечера угощал, все расходные стаканы забрал, а питьевой на место, видать, не поставил…»– решила Егоровна. Она достала из шкафчика – вытянула из мельхиоровой подставки – плоский стакан.
– Пусть там стоит, – кивнула она пассажиру.
– Угу, – понимающе отозвался тот.
«Хоть бы рубаху накинул, пупок свой, прости господи, прикрыл, – недовольно подумала о приходившем. – А в годах…» В коридоре послышался другой голос – кто-то еще, очевидно, подошел к питьевой нишке.
Люда притихла – то ли снова сон пришел, то ли так задумалась, как задумываются легко проснувшиеся люди.
За окном посветлело, близился восход. Это время Егоровна любила. Ранним утром ее, не в пример молодым, не тянуло ко сну – первые разливы света бодрили душу, сердце начинало биться ровнее и вроде бы чище. В эти минуты, если была возможность, она в служебке примащивалась у столика, подпирала голову руками и глядела, глядела, как пробегали мимо вагона тихие полустанки, укрытые мягким туманом лощины, речушки, едва видные в зарослях лозняка. И едва забрезжит, уже видишь людей, словно ничего без них на земле не делается. Вот сошел с дороги, равнодушно провожая глазами вагоны, путевой обходчик в оранжевой жилетке; зевая, вытянула перед собой зеленый флажок будочница – грохочи себе мимо, тут, у меня, все в порядке. А на ровном крутом откосе спозаранку стелет ряды одинокий косец. Волосы слиплись, рубаха – издалека видно – потемнела от пота, а он, кинув короткий взгляд на утренний пассажирский, машет и машет косой, – видно, торопится до работы пройти еще какой лишний прокос.
А откроется взгляду какая-нибудь деревенька, – Егоровна подберется вся, задержит дыхание и сразу и себя маленькую вспомнит, и места свои родные – Курцево, на излучине тихой Черней; Харинскую, куда, подросши, бегала с подружками на посиделки…
2
Северянин спал дольше всех – с вечера, не меряя, не тормозя, он пил вино, пил и угощал других, заводил всю компанию. Да и пилось легко. Едущие в отпуск люди – люди большей частью веселые, добрые уже от одного ощущения свободы, от ожидания новых, незнакомых удовольствий. Месяц беззаботной жизни впереди – это ли уже не радость? А что за веселье, если не разделить его с другим, пусть и с едва знакомым, или даже вовсе посторонним, человеком? Это горе требует близости, понимания, сочувствия; радость же – чувство легкое и слепое – сама доверчива и бескорыстна.
Павел Черенков – так звали веселого северянина – не в первый раз вырвался на простор – отправился в отпуск без детей и без жены. С каждым годом сделать это становилось все труднее, но и с каждым годом все более возрастало желание поехать на солнечный юг одному, с развязанными руками. Оказаться на воле!.. Об этом Черенков начинал думать уже после Нового года.
Ради этого, чтобы не совпали сроки его отпуска с каникулами жены, ведущей в школе группу продленного дня, а значит, и отдыхавшей, как это и положено учителям, лишь в летние месяцы, он легко уступал свою выгодную очередь кому-нибудь из бригады, и слыл поэтому человеком совестливым и справедливым.
В день утверждения графика отпусков Черенков приходил домой поздно и распьяным-пьяным – так, во всяком случае, казалось его жене Фаине. И на кухне, пока разогревался ужин, у них происходил приблизительно такой разговор:
– Ну? – начинала осторожно Фаина, словно боялась спугнуть неведомую птицу. Правда, уже по одному виду хозяина она чувствовала, что дело дрянь.
– Октябрь, – хмуро разводил руками Черенков и брал со стола что-нибудь съестное – огурец или кусок хлеба, чтобы занять рот и, хотя бы минуту-другую, помолчать, выждать время, – есть ему, после обмывного угощения, чаще всего не хотелось.
– Что, никак нельзя было, да? – закипала Фаина, честно полагая, что ее напористый муж провел острую, но, как это уже видно, бесполезную стычку с ремонтниками и с бригадиром за свое законное право провести отпуск вместе с нею.
Черенков, вспоминая, как официантка долго косилась на их компанию, прежде чем принести третью бутылку водки, работал желваками и молчал, и качал головой.
– Они же знают, что я работаю в школе и не могу идти в другое время, как только в начале лета! – наддавала жару Фаина и, распаляясь все более, сама горела в этом пламени.
– Знают, – кивком подтверждал Черенков.
– И что же, не могли сделать?
– Что сделать? – Черенков знал, что иногда полезно не понимать понятное.
– Не могли пойти навстречу?
– Они пойдут, держи карман шире!
– А кто же идет летом, в июле?
– Матусонен.
– А в августе?
– Колька Жучков и Лебедюк. Матусонеы в прошлом году в декабре ходил, а Лебедюк…
– А Жучков? Он же летом и был… – морщила в сомнении свой чистый лоб Фаина.
– С конца августа, – уточнял Черенков, прекрасно помнивший, что Жучкова предыдущим летом провожали в отпуск в день июльского аванса.
– А ты кого-нибудь просил? Можно было поцыганить?
– Поменяться?
– Ну.
– Лето – на…? – Черенкову даже трудно было выговорить, что предлагалось бы людям взамен золотого солнца и тепла.
– Магарыч бы поставил, – словно не все еще было потеряно, цеплялась за воздух Фаина.
– Ну ты даешь! Где живешь – забыла?.. Магарыч…
Черенков видел, что ситуация, как бы это сказать, уже обмякла, напряжение сошло.
– А где нагвоздался-то? – обращалась Фаина к делам земным, где имела достаточную силу. Голос ее, как обычно в таких случаях, становился сухим и бесцветным.
– Жучков раскололся.
Это было первое слово правды, и Черенков, как и всегда при таком повороте обстановки, добрел и был готов во всем потрафить своей терпеливой и стойкой подруге.
– Ох, раскололся! Пол-литра – гос-поди! – презрительно поджимала узенькие губы Фаина, и Черенков согласно кивал и неторопливо принимался за ужин.
…И вот он едет в Крым – вольный казак, у него распутаны крылья, и никто не в силах поставить предела его широким стремлениям. Работая слесарем по ремонту холодильных установок, он умел подкалымить и обычно к концу трудового года имел в кармане приличную заначку, не намного уступавшую законному кредиту, выделяемому супругой на отпуск. Жил он на отдыхе не слишком шикуя, но и особенно не экономил, точно определяя, где и кому можно показать широту своей натуры. Бывало, однако, что деньги оставались, – ближе к концу отдыха от беспечности, размаха, некоего подобия удали оставался лишь тревожащий след – все как бы становилось на свои привычные места. И Черенков даже радовался этому возвращению души на круги своя и, не в меньшей мере, – деньгам, уцелевшим для будущей пользы.
Он первым, едва отъехали от Москвы, предложил попутчикам отметить это событие и распечатал бутылку «Стрелецкой».
Как быстро выяснилось, отпускников в купе и по ближайшему соседству было немало, и его дельная инициатива легко нашла поддержку. Главное – почин, Черенков это прекрасно знал.
Выпили, за делом, за словом быстро перезнакомились. Ни одного жмота, как отметил Черенков, в компании не оказалось. Сосед с верхней полки – туда проводница кинула ему постельное белье – сходил в вагон-ресторан и, хотя туда еще не пропускали, сумел уговорить буфетчицу и добыть две бутылки вина. Даже студент – народ, как известно, редко бывающий при деньгах, – пока стояли в Туле, успел слетать к вокзалу и достать где-то пол-литра белого и коробку тульских пряников. Он победно утвердил бутылку посредине тесного столика. Ее тут же распечатали, разломили на всех огромные пряники; коробку из-под них, чтобы не мешала, Черенков сунул под ноги.
К тому времени все уже были, как говорится, хороши; смех вызывало всякое удачно сказанное слово. Рядом с Черенковым, хозяином места, сидела жена соседа сверху; у нее тоже было верхнее место, напротив. Черенков чувствовал боком ее горячее тело; пружиня мышцами, как мог, незаметно «проверял» соседку и ощущал ответное напряжение бедра. «Ах, лапочка!»– то и дело восклицал он про себя; оборачиваясь, видел близко ровные, живые губы некрупного рта и с трудом сдерживал восторг.
Больше всех он наливал мужу симпатичной блондинки, словно в благодарность за то, что тот имеет такую прекрасную подругу. Тот не отказывался, пил, ел, не задерживаясь, быстренько освобождая стакан, и, кажется, не обращал никакого внимания на очевидный интерес попутчика к своей половине.
– А почему вы все-таки ездите в Евпаторию? Что там делать – на голом месте? – повторил вопрос Черенков, со значением глядя в блестящие глаза соседки. Было неудобно сидеть вплотную и поворачиваться, чтобы вести разговор, но отстранить свою ногу от обжигающей ноги Нади – светловолосой попутчицы – никак не хотелось. – Чем там лучше?
Надя молча улыбалась и пожимала плечами.
– Там море теплее, – ответил за нее муж, – и песок. Можно прожариться как следует.
В это время, или Черенкову это показалось, Надя тронула его колено своим, – от ее бедра словно пробежал ток. Черенков замер и быстро подумал, что надо бы все же отодвинуться, иначе черт знает что получается. Этот, напротив, не смотрит не смотрит, а возьмет – съездит по роже – и утирайся. Не совсем же он слепой. Тут всего можно ждать… Можно, конечно, обрезать: протри глаза, мол, – осел!.. Как тебе в башку-то могло прийти?! – и так далее, но…
Тут поезд начал крепко тормозить – вынырнула из сумерек большая станция, и угольки опасения в душе Черенкова размылись потоками перронного света.
– Ай да Тима! – сказал он удивленно и громко, как бы от лица всех, когда студент поставил на стол бутылку водки со штампом очередного желдорресторана.
Добытчику окончательно «простили» и его давно, казалось бы, отжившее имя – Тимофей, и постоянное встревание в легкий дорожный разговор с нудным рассказом о новгородских раскопках у Ярославова дворища. «Культурный слой», «материк», «разрез», «ярус»– то и дело повторял разом захмелевший Тима, будущий археолог, и совсем запутал увлекшихся было стариной своих вагонных попутчиков. Он достал из багажа какую-то серую пористую кость и показал ее всем.
– Что это такое, как думаете?
– Лодыжка, – первым отозвался Черенков. Само собой, он был главной фигурой в компании.
– Бабка, – добавил Надин муж. – Пацанами играли в такие.
– Точно, бабка, – сказал, сияя, Тима. – А как думаете, сколько ей лет?
– Тыща, – не задумываясь, бросил Черенков, чтобы отвязаться. По тому, как ослабел боковой упор, он понял, что Надя, кажется, заинтересовалась раскопанной штуковиной.
– Хм… – кисло улыбнулся Тима, понимая, что Павел угадал случайно – так, пальцем в небо – и в точку. – Действительно, около этого. А знаете, на какой глубине она находилась?
Черенкову в голову ничего не пришло – он только неопределенно хмыкнул; а может, просто не захотелось совсем уж сбивать фасон со студентика.
– Шесть с половиной метров! – Тима огляделся, ища на лицах законное удивление. – У самого материка.
– Кто ж ее так закопал? – как бы удивился Черенков.
– Да никто ее не закапывал. Там такой культурный слой, я же вам объяснял…
– Давайте выпьем за археологию, – прервал его Черенков. – За счетных работников, – он наклонил голову в сторону Нади, – пили, за рыбообработчиков, – его рука, как в детской считалке, прошла от груди к Надиному мужу, – тоже. Хай живут и здравствуют археологи! Когда-нибудь они и нас выкопают, если от нас чего останется… А?
Он наполнил стакан соседу, Наде, плеснул малость в термосную крышку студенту и, пока все это делал, – снова придвинулся к соседке.
– Ну, будем…
А потом запахло горелым металлом – заработали тормоза. Мимо прошла, объявляя остановку, пожилая проводница.







