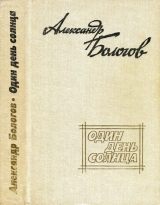
Текст книги "Один день солнца (сборник)"
Автор книги: Александр Бологов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 25 страниц)
– Золотова!..
Многие, может быть даже все, поглядели на Золотову. Та слегка покраснела, но улыбнулась и пожала плечами. Тут и вошел Бурцев. Первым делом он бросил взгляд в сторону Золотовой и, обнаружив ее на месте, мотнул головой и облегченно хмыкнул. Та сидела прямо, надменно подняв голову. Так, во всяком случае, показалось Маргарите Павловне, которая громко произнесла:
– Ну паж… Принес шубу своей госпоже?..
Она, кажется, сама смутилась от этих слов. Но они, увы, вылетели.
Бурцев колебался какую-то секунду – ровно столько, сколько потребовалось, чтобы переступить с ноги на ногу, – его как-то качнуло. Потом сказал: «Да», – и пошел к Золотовой и положил перед нею пальто.
– Вот, госпожа, ваша одежда…
Это был номер!.. Если бы в его голосе прозвучал хотя бы намек на шутку, иронию какую-нибудь, досаду, усталость и так далее, все было бы в порядке вещей. Доорали бы, доспорили – и дело с концом: впереди выходной, все отойдет. Но он сказал так, что хоть проваливайся. Золотовой или Маргарите Павловне. Козин, правда, попытался кинуть обществу спасательный круг, нарушил тишину:
– Ты знаешь, что второй?
Но в классе что-то произошло, вопрос повис в воздухе, хотя Бурцев и ответил на него утвердительным кивком.
Маргарита Павловна, искусственно приободряясь и поблагодарив участников гонок за радение о чести класса, с достоинством удалилась. Можно было расходиться.
Морщась и вздыхая, Золотова натянула на ноги валенки. Бурцев находился рядом, он уже знал, в чем дело.
– Больно? – спросил он.
– Представляешь, в прошлое воскресенье поставила сушить, и вот, – она показала на ботинки.
– А как же ты пойдешь? Там же все развезло.
– Ты о валенках?
– Да.
– А! – Золотова махнула рукой. – Конец зиме…
Они спустились в вестибюль. Пол у главных дверей блестел от воды, снаружи веяло влагой.
– Один день солнца – и все, – сказал Бурцев, когда они вышли на улицу.
– Ой, мамочки!.. – Золотова ухватила его за руку.
У порога разлилась лужа, с крыши падала капель, скрежетала на асфальтовой дорожке лопата дворника.
Бурцев посмотрел на воду, на дорогу подальше, на ноги Золотовой и, положив лыжи рядом, стал расшнуровывать ботинки.
– Ты что? – еще ничего не понимая, наклонилась над ним Золотова.
– Сейчас.
Он снял ботинки и поставил перед нею.
– Надевай.
– Да ты что?
– Давай-давай! – Бурцев даже подхватил ее под руку, чтобы помочь.
– Прямо в валенках?
– Именно. Если влезут.
– Ты с ума сошел!
– Ничего-ничего.
– Ты будешь ждать, пока я вернусь?
– Я пойду с тобой.
Золотова поглядела на него и покачала головой:
– Сумасшедший…
– Маргарита считает, что у меня все в порядке.
– Это тебе кажется. Ты же завтра просто не встанешь.
– Ты мне обещала это еще вчера.
На Бурцеве были толстые белые носки, чуть ли не до колен. Он выпустил из них брюки, потрепал их, расправляя рукой, и твердо повторил:
– Надевай.
Он помог ей влезть в ботинки и удивился, что в них еще осталось место.
– В «Детском мире» берешь обувь?
– Угадал.
Сначала он старался выбирать сухие места, но это оказалось невозможным делом, и он, закинув лыжи на плечо, просто прибавил шагу. Золотова топала, высоко поднимая ноги, и все время повторяла:
– Ты сумасшедший, теперь я точно знаю.
– Всякие знания относительны.
– Эти-то точные.
– Ты так считаешь?
Она смеялась и, шаркая подошвами, старалась не отставать.
– Вон мои окна, – показала она, когда они подошли к ее дому. – Второй этаж. Совсем близко. – И хотела повлечь Бурцева на лестницу, домой, чтобы он немедленно окунул ноги в горячую воду или хотя бы переобулся в сухое. Но он дальше парадного не пошел, выжал носки в подъезде, обулся и тотчас исчез. Они даже не простились – об этом Золотова крикнула ему уже вослед.
Назавтра, еще довольно рано, выйдя на звонок, Золотова снова увидела Бурцева. И удивилась и не удивилась – душа отозвалась как-то неясно. Пригласила его войти – он опять отказался.
– Ты сама можешь выйти?
– Куда?
– Просто выйти. Ненадолго.
– Надо одеваться?
– Ну, оденься. Я тебя подожду внизу…
Она вышла из подъезда. Это и нужно было Бурцеву – он хотел ее видеть. Не в коридоре, не на лестничной площадке, даже не в квартире, а на просторе, при свете дня. Так, как и выходило. Он подошел и некоторое время смотрел на нее, словно не решаясь что-то сказать.
– Ну? – уверенно и ободряюще распахнула она ему навстречу глаза.
– Вот… – Он протянул ей конверт. – Это тебе.
– Стихи?
Не отрывая от нее взгляда, он покачал головой.
– На, читай, – подала Золотова письмо. – Читай-читай.
Бузукова вытащила из конверта сложенный листок, расправила его и прочитала: «Я тебя люблю. Если ты меня любишь, завтра, когда войдешь в класс, подойди к моей парте и скажи „здравствуй“ мне одному».
– И все?
– Что, мало?
– Светка… – Бузукова вернула письмо и схватилась за щеки. – Это что же такое?..
– Представляешь, – Золотова округлила глаза, – звонок! Думаю, Гошка, он должен был прийти. Открываю дверь – здрасьте…
– Он принес прямо домой?
– Ой, послушай! Он вчера отколол такой номер, не поверишь. Заставил меня надеть свои ботинищи, а сам шел босиком… Из школы до моего дома.
– Босико-ом?!
– В одних носках.
– Ненормальный…
– Я ему то же самое сказала.
– Так и шел? По всему городу?
– Ага. Я говорю, не в себе.
– Гос-споди!..
– Знаешь, после Соснова он вообразил бог знает что. Я даже Гошке сказала, что была с ним в лесу, что там встретилась…
– А он?
– А что он? Да, Зойка, он запись сделал – бесподобную. Две пленки «Бони Эм». Он вчера приходил на базу. Представляешь, принес шоколадку…
– Гошка есть Гошка…
– Не говори.
Бузукова снова взяла в руки письмо и прочитала последние слова вслух:
– …и скажи «здравствуй» мне одному…
Золотова засмеялась, но смех получился каким-то нервным. Бузукова вздохнула:
– Ой, Светка… Ведь он же серьезно.
– Вот как.
– Ты будто не понимаешь…
– Он действительно вообразил бог знает что… На Новый год мы с Вовкой Селиным целовались всю ночь, и что из этого? А он… – понизив голос, Золотова повторила то, что шепотом сказала Бузуковой в ее классе. Бузукова покачала головой.
Бурцев пришел рано, одним из первых в классе, и сел за парту. Всякий раз, когда хлопала входная дверь, он бросал на нее быстрый взгляд. Никто не спрашивал его, отчего это он сидит, не двигаясь с места, ничего в общем-то не делая, а так, попусту, перебирая учебники, тетради, и не сводит глаз с дверей. Всем было известно, что он ждет Золотову.
И она вошла. Вот-вот должен был раздаться звонок, и все уже сидели на местах.
Бурцев первым увидел ее и опустил глаза, нервно сглотнул. Руки его лежали на парте.
Золотова остановилась у входа и четко произнесла:
– Здравствуйте…
И в тишине прошла к своему месту и стала устраиваться. И тут громко стукнула вскинутая крышка – это встал Бурцев. Он сгреб в портфель книги и тетради и молча вышел.
На второй день он перешел в другую школу.
Разговоры с Антоном
 н растет не очень быстро, но и не очень медленно; во всяком случае, как нам кажется, от других не отстает.
н растет не очень быстро, но и не очень медленно; во всяком случае, как нам кажется, от других не отстает.
Перемены в нем замечаются чаще всего в зависимости от нашего настроения. «Господи, – говорит, например, мама, вытаскивая у него из-под подушки железный грузовик, неведомо как появившийся не только в постели, но и вообще в доме, – когда ты поумнеешь, когда станешь хоть чуточку соображать… У тебя что, своих машин нет?..»
«Антоша! – слышу вдруг я из кухни, куда прямехонько, едва успев снять пальто и сполоснуть руки, устремляется обычно наша мама. – Кто же дает Дашке молоко из общей тарелки!..» (Дашка – это наша кошка.) Мама, по всему видно, крайне расстроена – настолько, что не может обойтись без уточнения: «Надеюсь, это не папа ее кормил?..»
С другой стороны, когда однажды Антон вышел ко мне с дымящейся подарочной трубкой в зубах и, желая, очевидно, удивить меня и порадовать, сказал, что накрошил в трубку бумагу и поджег ее моей зажигалкой и что сейчас покажет, как пускать дым носом, – я был поражен его сметливостью. Я сказал, что он у нас чересчур умный. Не по возрасту. Ибо сам я до сих пор не научился курить и тем более, как Змей Горыныч, пускать дым – носом.
А вообще-то он очень маленький. Ему столько лет, что даже и считать не стоит: раз-два – и обчелся, то есть все пересчитал. Но самые любимые его слова – «Я большой». Произносит он их по-своему: «Я босо-ой», и кто-нибудь может и не понять, что он имеет в виду, когда поднимает вверх руки. Но я-то понимаю его. Всякий раз в ответ на эти его слова я согласно киваю головой и говорю: «Да, конечно». Антон смеется.
– Я босо-ой!
– Да, конечно.
– Я, как машина.
– Да, да.
– Я, как дом…
Он тянет ладошку к небу и видит, что она поднялась даже выше дома. И он повторяет уже совершенно уверенно:
– Я, как дом.
Мы шагаем по тротуару. Антон уже без варежек, но рукам зябко, и он засунул одну из них в карман. Другая рука – худенькая и прохладная – прячется в моей ладони. Весенняя капель падает с крыш. Она успела продолбить в земле цепочку маленьких воронок, и Антон то и дело останавливается и смотрит, как капли воды сыплются сверху, догоняют друг друга и высекают искры у самых ног. Его резиновые сапоги осыпаны крошечными бисеринками. Антон нагибается, глядит на них, и восторг зажигает его глаза. Потом он вытаскивает из кармана руку, показывает на побеленные стволы деревьев и спрашивает:
– А кто покрасил деревья?
– Дядя какой-нибудь, – отвечаю я.
– А вот ее кто покрасил? – поворачивается он к растущей на панели березке.
– Это береза, – говорю я как-то неуверенно, – они сами такие…
– Это я покрасил, – говорит Антон и мягко смотрит на меня.
– Ну-у? – совсем теряюсь я. – Как же ты?
– Вот так, кисточкой, – снова выдергивает он руку из кармана и показывает. – Это я покрасил. – Потом, по-своему оценив мое смущение, сжимает мою руку и добавляет – Это мы покрасили…
Один из наших постоянных маршрутов – садик около дома, улица 23 Июля, улица Вокзальная. Мы гуляем и разговариваем.
– Раз – и всё! – говорит Антон и показывает что-то рукой.
– Что все? – спрашиваю я.
– Ветер за угол убежал.
– Боится, нас же двое.
– Я сильный, я сегодня много супу съел, – успокаивает Антон.
– Я тоже.
Он останавливается и смотрит на стенку дома. И я смотрю на прогретые солнцем коричневые доски одного из последних частных домиков на нашей улице.
– На этом доме муха живет, – говорит Антон. – Мы с дедулей видели.
За воротами автопарка стоят тихие желтые «Икарусы». Около них пустынно.
– Автобусы отдыхают, – говорит Антон, – и дома отдыхают. А дедуля совсем не работает, он старый. А Антон молодой. Я пойду работать, получу денежки, куплю что-то.
Он сжимает мне пальцы – это, наверно, означает, что и мне он купит что-нибудь, и я благодарно киваю головой. Потом он закрывает ладошкой глаза и спрашивает:
– А тебе темно?
– Так можно споткнуться, – говорю я, уклоняясь от прямого ответа. Мои слова Антона успокаивают, или устраивают. Он вдруг оживляется, вспоминает:
– А я вылез из песочницы и полез на корабль, и был капитаном, а Ира капитанкой.
– Молодец, – говорю я восхищенно.
– Ага-а, – серьезно тянет Антон.
Останавливаемся мы около шлагбаума. И смотрим.
Каждый по-своему: я бесцельно, по сторонам; Антон туда, откуда появляются поезда. Он смотрит пристально, терпеливо. И когда из-за поворота выскакивает локомотив, стискивает мне пальцы и кричит:
– Бу-у-у!
– Ты что кричишь?! – напрягаю я голос и дергаю его за руку.
Антон смеется, щурит от удовольствия глаза и говорит:
– У меня много шума во рту. Я тебе тоже дам сколько-то…
Он прикладывает к губам ладошку, а потом быстро отрывает ее, будто посылает воздушный поцелуй.
Вагоны покачиваются, приседают на стыках рельсов. Антон тоже приседает, он пытается разглядеть то, что так твердо, ритмично стучит под вагонами, и вдруг начинает подскакивать на месте.
– Он колесами бежит! Он колесами бежит! – кричит он, и я тоже неожиданно подпрыгиваю и кричу:
– Колесами! Колесами!..
Мы собираемся к бабушке. Вот уже недели две как мы ведем об этом разговоры – и утром, и вечером, и на улице, и за ужином.
– Уже позавчера мы поедем? – спрашивает Антон, едва открыв глаза, еще не стряхнув с ресниц последний сон.
– Да, – говорю я, – послезавтра. Послезавтра, – повторяю я медленнее, и Антон понимающе вздыхает:
– Да, послезавтра.
Потом мы долго собираем вещи, роемся в игрушках, терпеливо выполняем мамины указания.
– Поменьше игрушек, – говорит мама, увидев, какую гору мы приготовили, – их у бабушки пруд пруди.
– Какой пруд? – спрашивает Антон.
– Обыкновенный, – говорит мама, не вникая особенно в смысл вопроса.
– Как шкаф? – пробует угадать сын.
Мама смотрит на меня. Я пожимаю плечами: мы ведь постановили давать сыну исчерпывающие ответы.
– А как это пруд пруди? – невинно добавляет огня Антон, и чувствуется, что это впервые услышанное им слово интересует его особенно. Я бросаю маме спасательный круг. Я говорю:
– Пруд пруди – это значит много, это значит девать некуда.
– А в ящик с машинами можно, – показывает Антон на большую коробку, где до некоторых пор хранился пылесос.
Я довольно громко, но не очень отчетливо произношу какие-то непонятные слова и ищу глазами маму, но ей именно в эту минуту понадобилось выйти на кухню.
– Не надо эту книжку, там Бармалей, – хлопочет между тем Антон у своей полки и перекладывает с места на место компанию своих верных спутников. Все они ему дороги, многие из них определенно снятся ему во сне, потому что иногда, он среди ночи вдруг просыпается и тревожно спрашивает: «А я его защищу? Пистолетом?» – «Да, да, маленький», – гладит теплой рукой его остренькое плечо мама, и сын успокаивается и засыпает.
– А эту книжку я купил, – подбегает ко мне Антон и показывает маленькую, складывающуюся в гармошку книжицу.
– Ты?!
– На денежки.
– Какие?
– А вот такие…
Я гляжу, как Антон соединяет и разводит в стороны пальцы и внимательно смотрит на них.
– А потом руки помыл, – понимающе показывает он ладошки.
Я пытаюсь проследить ход его мыслей, объяснить «его» логику в этом маленьком быстром диалоге, но он уже убежал и кричит – кажется, из кладовки:
– Папа, а это возьмем – чем воздух делают?
Мне приходится идти в другую комнату. Антон держит в руках велосипедный насос.
– Это насос, – говорю я, как мне кажется, спокойно и внушительно. – Им ка-ча-ют воздух.
– А можно я понасосю? – спрашивает Антон.
Я машу рукой.
Через минуту он подходит снова и поднимает руки:
– Папа, я вспотел ходить. Сними свитер.
Пока я с трудом стягиваю с него связанную Верой толстую модную кофту, он заканчивает свой неизвестно когда начатый рассказ:
– Я искал Иру. И в комнате нет, и на улице нет, а она под корягой…
Я хотел спросить – под какой такой корягой и кто такая Ира, но Антон, освобожденный от свитера, тотчас уходит по своим делам.
– Папа, занято! – кричит он из туалета.
– Все понятно! – отзываюсь я.
Однако вскоре он – снова рядом со мной, гладит ладошкой своей мягкий свитер.
– …А потом я опять буду маленьким, – говорит он уже о чем-то другом, – и распущусь…
«А мы опять распускаем…»– вспоминаю я слова Веры, когда она после очередной примерки горестно вздыхает и распускает тающий на глазах недовязанный свитер Антона…
Давно ли на нашей улице стоял только один крупноблочный дом… Теперь их уже три. Одинаковые, отличающиеся только цветом, они стоят каменными островами среди высыхающего озера частных деревянных домишек. Маленькие домики окружены садами и заборами; за одним из них изредка позванивает цепь – отряхивает залежалую шерсть собака. Собака злая – ее не спускают с привязи; если не понравился прохожий, лает до хрипоты.
Антон немного подрос, но все же еще боится угрюмой дворняги. Однако всегда норовит поглядеть в щелку – что она там поделывает. Вот и в этот раз посмотрел и говорит:
– А кто сильней собаки?
– Медведь, волк.
– А у нас такой был случай. Дрались собака и лисенок. И, думаешь, кто победил?
Мне жалко лисенка, но я честно признаю:
– Собака…
– Нет, лисенок! – Антону весело оттого, что мне, оказывается, неизвестна эта история с лисенком, и он ждет естественного вопроса.
– А как же это лисенок? – говорю я озадаченно.
– А он убежал!..
Я смеюсь, и Антон смеется, и легкое веселье обдает нас брызгами уходящего солнца. И мы долго еще чувствуем в душе его тепло.
Идти по улице можно в двух направлениях – к Дому торговли или вокзалу. И тот, и другой путь одинаково заманчивы: в Доме торговли можно зайти в отдел игрушки и поглядеть на самоходные машины и елочные украшения – первый признак того, что ноябрьские праздники позади, и на горизонте замаячил пока еще далекий, но желанный и радостный Новый год. Однако многоголосая, многоликая толпа в магазине как-то разобщает нас, мое участие в прогулке сводится разве что к наблюдению за тем, чтобы Антон в сутолоке не потерялся. Его это не всегда устраивает, ему бы лучше куда-нибудь деться – потом все равно найдемся около магазинного телефона-автомата…
На вокзале же можно посмотреть, как прибывают пассажирские поезда и на перрон высыпает рой удивленных людей: еще четыре часа назад они были в Ленинграде, и вот уже дома!
Там мимо платформы проносятся товарные составы. Они везут и доски, и машины, и черные цистерны, а иногда и танки – было такое один раз. Тут все интересно: куда идет состав? сидят ли в танках танкисты, а если ночью, – то, что же, и спят? а кто может догнать поезд? сайгак может? а гепард?
Однако мы идем к торговому центру – рядом с ним строится новый дом. Стройка – это тоже привлекательное место. Во-первых, там написано «Проход воспрещен», а ты идешь… Во-вторых, там можно найти все, что душе угодно: липучую резину, проволоку, кафельные плитки, деревянные рейки для сабли…
– Весь дом из кирпичиков, – говорит Антон, когда мы подходим ближе.
– Наш тоже, – бросаю я.
– Наш не такой.
– А какой же?
– Наш из стен.
– Вот как. А стены из чего?
– Стены из обоев.
Интересно, знает он, что такое бетон? Во всяком случае, наверняка слышал это слово.
– Наши стены, – начинаю я…
Но Антон перебивает:
– А почему самолет с крыльями?
– Держится за воздух, – говорю я без запинки, – как птицы.
– Но он же не делает так… – машет Антон руками.
Мы опять забыли рукавички, а без них холодно.
– Потепли мне руки, – говорит Антон, не дождавшись ответа, и я засовываю его ладошку в свой карман. Ладошка уже ничего – крепкая.
– Ты все забываешь, – укоряюще говорю я, – так недолго и простыть, и опять придется есть масло с прополисом. Вот вчера пришел с улицы – хоть выжимай, до нитки промок. Разве ты не видел, что идет дождь?
– А я не смотрел вверх и не видел.
– Не видел… Все ты видел… Ты просто хитришь. А ведь скоро в школу пойдешь, уже в средней группе.
– А я забыл, что в средней…
Несколько секунд мы шагаем молча. Я слышу, как в моем кармане шевелятся маленькие пальцы – их хозяин просит мира. – Но мои – словно ничего не чувствуют.
– Папа, а кто лучше – тепловоз или электровоз?
Ну вот, сейчас скажет: лучше бы было к вокзалу идти…
– То есть как это лучше?
– Ну, в тепловозе – тепло, а электровоз током может ударить…
– Я не буду отвечать тебе, я сердит.
– А ты не отвечай, ты просто слушай. Вот кто сильней – дог или овчарка?
– Наверно, дог.
– А боксер или тельер?
– Терь-ер. Рэ.
– Терьер.
– Наверно, боксер.
– Почему ты все – наверно? А на самом деле?
– У меня нет собаки, и я не знаю, какая из них сильнее какой.
Антон выдергивает руку.
– А давай купим? Мне Вадик сказал, что так свою отдаст. Она недавно у него.
Подловил, ничего не скажешь. Кошки ему уже мало.
– Собака это тебе не кошка, – говорю я со знанием дела. – С нею знаешь сколько надо возиться?..
– Ну, сперва возиться. А потом она щенков заведет, и мы ее выпустим, а щенков оставим – и возиться не надо.
– Хм…
Чаще всего он сам находит выход из каверзных положений – легко меняет тему разговора. Я объясняю это тем, что душа его не терпит никакого застоя, никакого торможения, и, если случается заминка, он спокойно переключается на новый интерес.
– А если достать до воздуха?
Не тучи ли вызвали этот вопрос… Пока, мы шли, над городом очень быстро сгустились облака. Темное движущееся крыло занавесило западную часть неба. Прохожие, поглядывая на него, прибавили шагу… Мы тоже ожидаем дождя и присматриваемся к обстановке.
– Там опять воздух, – отвечаю я. Вопрос легкий.
– А дальше?
– Воздух.
– Все воздух и воздух?!
– Ну да…
– Как же так?
– А вот так. Это бесконечность. Ничто, понимаешь? То есть пустота, космос.
– А воздух?
– Там уже и воздуха нет.
– А ты говорил: опять воздух.
– Господи, я говорю о том, что еще дальше. Ну, вот как улицы: одна, вторая, конец города, начало другого…
– А еще дальше? Ну, на самую даль…
– Дальше… – что-то отвлекает меня. – Вон, смотри-ка, смотри! – неожиданно вырывается у меня.
К дверям магазина сбегаются люди – прячутся от сильного града. Его волна хлестнула неожиданно и шумно, она бежала по улице у всех на глазах. Крупные белые горошины гремят по козырьку у входа, скачут по асфальту, подпрыгивают, как резиновые, собираются светлыми пятнами в выбоинах мостовой.
Я спешу под навес, а Антон пытается поймать рукой хоть одну ледяную жемчужинку и, возбужденный, кричит:
– Это разведчик! Сначала он, а потом дождь!..
В другой раз он видит на небе луну. На ходу долго смотрит на нее и говорит:
– Мы идем, и луна идет.
– Это тучи бегут, – уточняю я, – а луна стоит на месте.
– И луна идет, – упорствует Антон.
– Тучи, – повторяю я спокойно, потому что тут доказывать нечего.
Наутро по дороге в сад мы видим луну совсем в другом месте – чистую, одинокую на утреннем небе.
– Папа, а луна вон уже где.
– Ну конечно, она движется вокруг земли, а земля вокруг солнца.
– А вчера ты говорил, что луна стоит на месте…
– Вон, смотри, «КрАЗ» стоит, – перебиваю я его, показывая на огромный самосвал, подъехавший к светофору.
– Какой «КрАЗ»?
– Да вон, с медведем.
Антон долго молчит, смотрит, потом, разглядев на капоте машины блестящую фигурку зверя, как-то странно – не то успокоенно, не то разочарованно – произносит:
– А я думал: с каким медведем…
Прогулка кончается, пора отправляться домой.
– Давай опять в птиц? – говорит Антон, предлагая игру.
– Давай, – соглашаюсь я.
Это старая наша игра. Очень простая: нужно по очереди называть птиц. И кто больше назовет, – тот и выиграл.
– Воробей, – называет Антон.
– Грач, – чуть подумав, отвечаю я.
– Ворона.
– Гусь.
– Воробьиха…
– Э-э-э, – говорю я, – так не пойдет. Это одно и то же.
– Гусь и воробьиха?
– Не гусь и воробьиха, а воробей и воробьиха. А воробья ты уже называл.
– Так это же она, самка. И цвет у нее другой, ты же сам говорил…
– Говорил, правильно. Но это одно и то же. Вот понимаешь, – птицы. Это значит – пернатые. А воробьи – это отдельный вид, и самка и самец. Как и гусь и гусыня, щегол и щеголиха… Да, так, наверно, – щеголиха…
– Или щеголица?
– Щеголиха…
– А человек?
– Что человек?
– Она – это человечиха?
– Она – это женщина, а он – мужчина.
– Это же совсем разные слова. Вот смотри, перьевые – это все птицы…
– Не перьевые, а пернатые.
– Ну, пернатые. А все люди – как?
– Люди? М-м… Люди – это человеки. Вернее – человек. Че-ло-век. Это значит, в отличие от всех остальных существ, – человек. Мужчины, женщины, дети, бабушки, негры, индейцы – все это человек.
– Соколиный Глаз, да?
– Что Соколиный Глаз?
– Индеец.
– А-а-а… Ну, конечно.
– Или вот смотри, курица – петух – тоже разные слова, а одни и те же птицы.
– Вот именно.
…Со временем воробьи и гуси стали упоминаться нами разве что в разминке. Теперь мы играем тоньше.
…– Дрофа…
– Свиристель…
– Козодой.
– Пеликан…
– Пеликана ты уже называл.
– Не называл!
– Называл.
– Это не в этот раз…
– Нет, ты называл в этот, после моего тукана. Вспомни: я – тукан, ты – пеликан.
Выяснять что-либо дальше в таких случаях не имеет смысла, и мы, по взаимному согласию, заканчиваем игру.
Каждый день прибавляет ему опыта. Давно ли он говорил, видя в руках у ребят обруч: «Смотри, у мальчиков мячик и буква О». Или, о других буквах: «Во-о, жук»– это о букве Ж; «А она фырчит»– это о Ф.
– Чего ты хочешь, конкретное мышление, – объясняет мама. – Когда он висел вниз головой на трубе, где сушат белье, и я сказала, что он сломает себе шею и позвоночник, он, представь себе, ответил: «Это который звонит? А его же у меня нет…»
В субботу вечером по радио тихо звучат полузабытые песни. Мы все сидим и слушаем…
Расцветали яблони и груши,
поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
на высокий берег, на крутой…
– Я так люблю передачи Татарского, – улыбается мама, – такая прелесть.
– Не выходила, а выезжала, – говорит Антон.
– Что значит – выезжала?
– У нее же колеса, это же пушка…
– При чем здесь пушка? Это имя девушки, и его дали пушке. А она выходила петь.
– Девушка?
– Не пушка же.
– А зачем на крутой?
– Другого не было, – говорит мама, смеясь.
– А почему немцы назвали танк «тигр»?
Тут разъясняю я:
– Самый сильный.
– Самый сильный – лев.
– Это как сказать. Еще неизвестно.
– «Тридцатьчетверка» пробила «тигра». – Антон приносит книжку «Что умеют танкисты» и показывает. – Вот подбитый «тигр», а вот «тридцатьчетверка». Пробила.
Я смотрю на рисунок:
– Бронебойным.
– Потому мы и победили немцев?
– Да, – говорю я, – у нас танки были лучше.
– И «катюши» были, – добавляет Антон.
– Да.
– А где сейчас все снаряды, танки, пушки?..
– А какая разница плясать и танцевать? – спрашивает он как-то.
– Никакой, – не задумываясь, отвечаю я.
– Ну как же никакой? – вмешивается мама. – Разница есть, иначе бы слова не были разные. Танцевать – это когда танцуют, например, вдвоем – вальс там или танго; а пляска – это чечетка, «барыня»…
– Яблочко.
– Яблочко – это когда моряки, – вспоминает Антон телепередачу.
– Точно.
– А у нас в саду тоже будет морская пляска к утреннику. – Антон оживляется. – Мы играем в «Гуси, гуси…», а Татьяна Леонидовна говорит: «Вот это волк, – двух гусей поймал…»
Он долгое время не был в саду – болел, немного соскучился по друзьям и общим забавам. На днях доктор его выписала.
– Ну, как там, в саду? – интересуюсь я. – Как тебя встретили?
– Меня хорошо встретили, сказали: «Здравствуй, Антоша…»
Когда он нездоров, мы ходим как в воду опущенные. Все валится из рук, тревога не покидает ни на минуту. Каждый звонок в прихожей отзывается в сердце: он непременно спросит – «Это кто-нибудь ко мне?»
А к нему нельзя – у него скарлатина. Целый месяц провалялся он в четырех стенах, наблюдая мир в блеклое осеннее окно. За это время успело остыть солнце, осыпались листья с деревьев, холодные дожди размыли яркие октябрьские цвета… Уже и первые снежинки падали на стекло и стекали по нему слезами бессилия и печали.
– Ты опять стоял у окна, – говорю я, входя к нему в комнату, и дышу себе на ледяные пальцы. – Жуткий холодище.
Антон понимает, что это я его так успокаиваю: дескать, снаружи холодище, и лучше – даже вот так, как он, – сидеть дома, а не трястись под ветром и дождем на улице.
– Можно свитер надеть, – говорит он, – а сверху другой, с воротом. И еще куртку…
Как я его понимаю… Он согласен на любую одежду, даже на толстую кофту с воротом, которую в обычное время и силой не заставишь надеть. Только бы побывать на дворе.
– На дворе сейчас – никого, – сообщаю я как бы между прочим. – В такую погоду хороший хозяин и собаку на улицу не выгонит…
– И Андрея нет?
– Да что ты!..
– И Сережки?
– Никого, абсолютно.
– Они же еще в саду, – вспоминает Антон, оборачиваясь к будильнику.
Будильник стоит на стуле, где лежат и градусник, и лекарства, – несмотря на запрет, он все-таки принес его с кухни и, наверняка, полдня не сводил с него глаз, высчитывая, сколько времени осталось до моего прихода. Он уже разбирается в этом и уже не переводит стрелки, как это было совсем недавно.
– Где должна быть маленькая, когда мама придет? – спросил он тогда, подойдя к часам на книжной полке.
– Вот здесь, на пяти, – показал я. – Где цифра пять.
Через несколько минут я уже видел его работу – часовая стрелка стояла поблизости от «маминого часа», а он поглядывал в сторону прихожей и, конечно же, ожидал скорого звонка.
Объяснить ему движение времени оказалось не таким уж простым делом; во всяком случае, ничего убедительного я ему, кажется, не сказал. Сужу об этом по тому, что вскоре после этого он вновь попытался таким же манером «приблизить» передачу мультфильмов по телевизору.
Постель ему за время болезни опостылела до крайности. Даже детский сад, куда он ходил без особой радости, после долгой болезни стал казаться желанным и милым.
Я вспоминаю, как воспитательница говорила на одном из родительских собраний: побольше занимайтесь с детьми, развивайте в них любознательность, внимание, терпение. Но у нас почему-то все кренится в одну сторону.
– Антоша, – говорю я, к примеру, – посмотри, что интересного вокруг…
Он оглядывается.
– Ничего интересного. Ребят никого нет.
– Ну, а вот что изменилось за последние недели или больше? Посмотри повнимательней.
– Сережка уехал.
– Сережка… Разве я о том спрашиваю. Вот, как тут все выглядело летом?
– Мы в песок играли, в мячик, на велосипеде катались…
– Да нет же, Антоша. Вот, что было в природе, какой был воздух, небо? А теперь, видишь, все плохо: дождь, осень…
– Теперь плохо – дождь, осень, мы дома сидим…
Ну вот, я ему про Фому, он мне про Ерему.
– Странный он у нас какой-то, – говорю я жене. – Ни природа его не волнует, ни что.
– Его волнуют живые люди….
Может, это и правда.
А может, слишком многого мы от него хотим? Себя-то в такую пору не вспомнить.
– Найди мне волшебную палочку. Я так хочу волшебную палочку… Я все игрушки отдам.
– И Ерофея?
Ерофей – это медведь, подарок дяди Жени, самая необходимая игрушка всей прожитой жизни.
– Нет, но я буду давать тебе палочку…
– Я постараюсь ее найти.
– А скоро? Или не скоро?
Интересно, что бы он с нею делал? Каким было бы первое его желание? Но об этом я не буду спрашивать… Никогда…
– Папа, давай во множественное и единственное?
– Давай, только ты лежи, не приподнимайся. Вот сейчас поправим подушку – и лежи. Вот так. Начинай.
– Лист.
– Листы.
Он секунду думает и говорит:
– А можно было и – листья.
– Это если на дереве.
– Ага.
– Ножницы.
После новой короткой паузы он неуверенно произносит:
– Ножница.
– Нет.
– Ножницына.
– Опять нет. Это слово можно только во множественном.
– А Вера говорила, что вот если эскимо и кенгуру…
– Ладно, ладно, не увиливай. Давай дальше. Шоколад.
– Много шоколада.
– Хо-хо!..
– А нельзя же – шоколады…
– Значит, только в единственном.
– Ну-ка, а ты… Пальто.
– Только единственное. А – санки?
– Санка… Нет, санка нельзя…
– Вот именно…
Мы играем, но держим ухо востро. Однако входной звонок молчит. Что-то мамы долго нет, а мы без нее – как без рук. Опять, наверно, какое-нибудь заседание на третьем этаже. Там у нее на работе местком.







