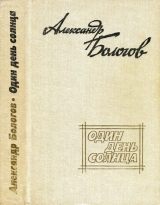
Текст книги "Один день солнца (сборник)"
Автор книги: Александр Бологов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц)
В этот раз Литков заявился на реке в сопровождении сильно прибавившей в росте дочери. Он был навеселе и ухмылялся, обминая нетвердыми шагами узкую полоску песчаного прибрежья. В руках редких людей, стоявших поодаль, – и на горе, и на тропках – виднелись пучки лозы с мохнатыми почками – подошло вербное воскресенье.
Мыслями Егор был не здесь, у вздувшейся, переполненной мутной силою реки, а в стыдливых горячих объятиях сломленной наконец и на все согласившейся соседки, – какой представлялась она его лихорадочному воображению. Влечение к ней было новым, едва ли испытанным ранее ощущением, непохожим на все, что было у него с женщинами, по его вкусу и натуре – грубыми, где надо понятливыми и легкодоступными.
К ледоходу, ни на секунду не забывая о предстоящей встрече с вроде бы все понявшей и покорившейся Ксенией, Егор поспешил по старой памяти: посмотреть, как уносит река на пороге обновления лед и снег, пену и мусор – следы уходящей в прошлое жизни, как ломаются в тесноте наплыва широкие и тяжелые, но беспомощные в могучем потоке льдины и шумит, расталкивая берега, живая, переполненная буйной силой, непостижимое чудо – река.
Новая сила разлилась и по жилам Егора – он это чувствовал, втягивая раздутыми ноздрями сырой прохладный воздух, возбужденно оглядывая шевелящийся простор изломанного ледового поля. Он прошел вверх по течению – напирало оттуда – и впереди, в считанных метрах от берега, на протаявшей грязной льдине заметил какое-то сооружение из бревен и досок, в виде плота, с деревянной избушкой посередине. Лед двигался медленно, крохотная избушка была похожа на караульную будку, в которой прячутся от непогоды сторожа.
Литков приостановился и долго, не отрывая глаз, смотрел на плот, словно ожидая, когда же раскроется дверь и из домика выйдет его обитатель. Потом приблизился к воде – галоши позволили сделать это без боязни, – шагнул назад, потоптался в нерешительности и кликнул отставшую дочь:
– Вальк, поди-ка!..
Та подбежала.
– Чего?
– Слышь-ка, сбегай домой за веревкой…
Проследив за отцовым взглядом, дочь быстро сообразила, в чем дело, спросила только быстро:
– В коридоре?
– Ага, на гвозде в углу – Литков, задержав ее жестом руки, прикинул расстояние до плота. – И это, вожжу еще возьми – в чулане, увидишь.
Валька мотнула головой и побежала к своей тропинке.
– И топор! – успел крикнуть Литков. – Да живей!..
Дочь бежала и на ходу понимающе кивала и махала рукой.
Вернулась она вместе с матерью, далеко обогнав ее на спуске. Литков в нетерпении выхватил у нее топор и два мотка веревки и стал торопливо разматывать их и растаскивать по берегу. Плот с избушкой уже успел переместиться к мыску напротив часовни – башенки в монастырской стене с шатровой крышей, тоже кирпичной, где до войны продавали пиво и папиросы. Егор, поглядывая на плот и вместе с ним медленно двигаясь по берегу, делал свое дело: связал веревки, к одному концу примотал топор, другой кинул подоспевшей жене. Крикнул торопясь:
– Держи тут!.. Вальк, и ты!.. Счас мы его заарканим, едрена-вошь!..
Личиха накинула на локоть пару петель и отозвалась:
– Егор, ты гляди! Веревка – веревкой…
– Куфайку на!.. – перебил ее Литков и, кинув у ног топор, быстро сбросил стеганку.
Он прыгнул на крайнюю льдину смело, нижняя сторона ее скреблась по дну, так же, без раздумий, перебрался на вторую, затем на следующую. Одна из льдин боком просела под ним, и Егор, шарахнувшись на другую сторону, тут же перескочил на соседнюю, рядом по ходу, оказавшуюся устойчивой и надежной. Тут он впервые огляделся. Башенка в ограде заметно отдалилась, плот – и Егор на одной с ним линии – проплывали мимо угловой разрушенной часовни, от которой начиналась стена со Средними воротами. Льдины были стиснуты плотно, но двигались свободно, не напирая друг на друга. На соседней Егор увидел еще хороший по виду черенок от лопаты, мелькнула мысль подобрать его, но он отогнал ее, потянул, хлестнув всей петлей, на себя веревку и быстрыми короткими шагами двинулся дальше.
– Его-ор! – крикнула сзади жена, медленно – согласно движению избушки – переступавшая по кромке берега. Она хотела предупредить, что остается мало веревки, но Егор, поняв ее, не обернулся: до плота было ближе.
Он уже со стороны прикинул, как и за что надо будет привязать вожжу, чтобы плот – на вид прочный, из свежих бревен, сплоченных скобами, – было удобнее подтягивать к берегу. Да, сейчас он закрепит конец, тем же мака-ром быстренько вернется на берег, и все вместе – еще кто пособит, найдутся! – они, не ослабляя натяга, будут подтаскивать его вместе со льдиной к земле, – где-нибудь да причалят: за мысом река шире, там больше чистой воды. Два раза сердце Егора екало, когда он, едва тронув толчковой ногой зыбкую опору, преодолевал мелкие, оседавшие под его тяжестью льдины. Третьей такой была – последняя перед крепкой утоптанной площадкой, на которой впаянно замер плот.
На ходу прицелившись к ней, положив оттолкнуться на середине, чтобы отдача сработала полней, Егор в последний момент испугался, что оскользнется на гладком вздутии в центре, и решил перебежать льдину двумя быстрыми переступами. От секундного страха сбился шаг, словно тело увязло в невидимой преграде, и ступить на скорости на льдину не удалось: нога тяжко ударила в ее край. Льдина плавно, но быстро и неудержимо пошла боком в воду, Литков упал на четвереньки и, обдирая ногти, заскреб пальцами по шершавой поверхности. Льдина погрузилась наполовину, встала торчком, Егор вскинулся и захватился руками за ее размокший край; взбивая воду тяжелыми ногами, хотел снова вернуть ее в прежнее положение, но утягиваемые течением, бившие в подводную часть ноги сделали обратное: льдина, освободившаяся от груза – Литков отпустил её и осел в воду, – выползла, как поплавок, вверх и опрокинулась, скрыв под собою рыжую голову…
Над рекой разнесся вопль Личихи. Какое-то время, крича и стеная, она ждала, что вот-вот, через эту или следующую секунду, в щели между льдинами покажется мужнина голова и он выползет на лед, не выпуская из рук веревки. Несколько раз она вроде бы видела его руку, даже, кажется, с топором, поднятую надо льдом, но смахивала мутную слезу – и туман расходился… И тогда она закричала во всю силу. К ним с дочерью уже подбежали какие-то люди, ухватились за веревку, кто-то, пытаясь держаться за нее, выскочил на ближайшую льдину…
– Тяните, тяните! – кричал кто-то сверху. – Ему же льдину не поддеть!..
Связка поднялась над плывущим полем, напряглась, как струна, человек на льду, не рискуя идти дальше, тоже прилагал усилия – перебирая руками тугое витье.
– Зацепился, наверно, а?.. – обернулся он к берегу.
Никто не успел ответить: пружинисто гуднула и тут же ослабла веревка, из-под льдины, накрывшей Литкова, пулей вылетел и, описав дугу, звонко шлепнулся на небольшую оголенную льдину привязанный к концу топор – как последний Егоров знак. Личиха взвыла, как на пытке.
Плот с избушкой выносило к плесу, где река текла свободней и спокойней, льдины шли, постепенно отстраняясь друг от друга, и смельчака, рискнувшего бы добраться до льдины, под которой исчез Егор, не нашлось.
16
– Вон уж сколько ему прошло, – сказала Ксения Нюрочке. – Все хочу в церкву сходить. Как словно грех какой…
– Уберег тебя господь…
– Не говори. А все равно жалко, человек все же.
– Видишь, что говоришь… Жалко! Он тебя очень даже пожалел… Ага. Чуть не как тех, кого в евреи по его слову записывали да угоняли… Ага. А он возы себе грузил… А с тебя одно было взять…
– Так-то оно так…
– Именно что так. А по мне, таким вообще жизни б не давать или упрятывать от людей. Наши вернутся, им таким все равно крышка, за все ответят. Уж умел разбойничать, умей ответ держать. Вот так. Жизнь такая теперь, Ксюш, война.
– Ты говоришь, наши вернутся… Я уже и представить не могу. Вспоминаю, вспоминаю, а все не верится, что раньше было.
– А куда денутся? Когда-то будет конец.
– Вернутся, да если не те?..
– Как не те? А кто же? Ты про Федора с Николаем?
Ксения кивнула, отошла от стола, на котором Нюрочка творила из прошлогодней, смерзшей в поле картошки гущу для тошнотиков. Обе семьи держались на этих оладьях все последнее время. Ходили за картошкой в Укромы, где Дуся с девчонками, ковыряясь в грязи на неубранном с осени колхозном поле, копила для них запас.
Самой Дусе подруги приносили в родственную оплату что могли: сольцы с базара, ниток, однажды обрадовали безрукавной кофтой по старой моде. Дуся, чего говорить, жила получше, ей и дед Кирилл помогал со своего промысла. И с ним свиделась-таки раз Ксения. Опять с Костькой собралась, отпустил Вовка; вконец измученные, дотащились в самую распутицу до деревни и перехватили старого, который изредка стал уже наведываться в дом. Костька не выдержал: уж как приустал, а подошел, за шею деда обхватил, и тот тоже руки разнес, бородой щеку ему обтер – прижался. Глаз его до сих пор не выправился – так с краснотой и остался, но зрения часть все же сохранил, слава богу. В кузню дед не ходил и в этот раз не пошел, а Костьку благословил: они с Таней сходили туда, побыли немного, принесли на варежке для показа обтертую ржавчину с наковальни, – для лишнего расстройства деду, как оказалось. За пазухой у Тани переложенная кусками твердой обложки лежала ее фотокарточка и с нею – такой же величины – рисунок на зеленоватой бумаге: увеличенное, но точь-в-точь такое же лицо ее, как и на снимке…
– Про них, что ли? – повторила вопрос Нюрочка о мужьях.
– А про кого же еще? – Ксения вгляделась в нее, будто могла ожидать самого верного ответа.
– Ездют, ездют, Ксюша, как миленькие ездют, живые и здоровые, и нас поминают, и детвору всю. Они ж на железке, на паровозах своих, от фронта у них бронь, ездют по тылу, водют эшелоны с войсками и всяким снаряжением, может, вакуировать продолжают где, а может, наоборот, – назад уже везут кого… А что ты думаешь? Что мы знаем?
– Да, да… – Ксения обхватила за плечи, уставила взгляд в одну точку. – Знаешь, Нюр, я вот иногда ночью лежу, детей не слышно, лежу и глаз не закрою… часы тикают-тикают, сто раз со счета собьюсь – считаю, а сон не идет…
– Господи, а у меня?
– Постой, я не об том… Вот лежу и вот вспоминаю, что это я все об нем думаю, об Николае, и сон-то потому нейдет. Веришь ли, так захочу, так захочу его – все жилочки мои натянутся и загорятся… Что вот закрою глаза еще тверже и руку боюсь протянуть – он рядом…
– Ум у тебя такой… Терзаешь себя только…
– Терзаю!.. А все равно радость…
– А эти-то зашевелились, а? – Нюрочка перестала смотреть на товарку. – Хозейва-то?
Ксения кивнула:
– Да, да…
– А как марши-то играли в именины Гитлера? Листовки, книжки… Где и бумаги столько взяли… – Нюрочка наклонилась к окошку – заметила что-то на улице. – Мои-то клиенты на фронте, да. Сами говорили. Я моргаю: туда, дескать, где пуф-пуф? Туда едете? «Я, я, – кивают, – пуф-пуф!..» А куда же!.. А рожи-то кислы-и!.. Как после клюквы. Ясно дело… – Она опять поглядела в окно. – А че ребята-то разбегались?..
Тут только они услышали гул на дворе и заторопились выйти, узнать, в чем дело. Ребята уже забрались на сарай, Костька и матери махал рукой – лезь, мол, помогу, но она с Нюрочкой осталась стоять внизу, закрыла глаза от солнца…
В синем, с редкими облаками небе кружилось несколько самолетов, Высота была средней, их было хорошо видно, и было слышно, как то и дело взвывают в натуре моторы, будто летчики то сбавляют ход, то стараются обогнать друг друга. Сердце зашлось от высокой красивой игры в ясном воздухе, прогретом золотым сиянием полуденного солнца. Где были глаза, что не видели такой красоты! – был первый толчок неясного чувства в замершую грудь. Но другой толчок – резче и острее, короткой вспышкой возвращенной памяти, – сразу обдал холодом и страхом: оттуда, из прозрачной синевы, донеслось несколько частых, коротких очередей…
– Сынок, чьи? – крикнула Ксения.
– Наши! Вон! – Костька сразу же вытянул вверх руку с острым пальцем. – Вон пошел!..
Нюрочка потянула ее за руку, попятилась от сарая, чтобы не мешала крыша, а сын заколотил рукой по коленке и стал звать:
– Мам, лезь сюда!.. Лезь сюда!..
Да ведь пока влезешь, господи!.. Она обратила глаза к небу, увидела, как блеснуло крыло у какого-то самолета, и не выдержала: оставила Нюрочку, подтянув юбку, начала карабкаться по ветхой двери наверх. Четыре руки вынесли ее на шаткую кровлю, и, ухватившись за чье-то плечо, она опять глянула на небо. Через какое-то время различила: куцый зеленоватый самолетик, падая на одно крыло, заворачивал к земле, будто убегал к ней, а над ним – один за другим – гулко прошли два других, потоньше по форме. Дергая за рукав и крича, тыча пальцем в каждый след, ребята объяснили, где в небе кто, и она застыла, уцепившись рукой за высохшую доску карниза.
– Наш? Подбитый?! – успела лишь спросить у ребят про падающий ястребок.
Однако ястребок не был подбит: пока Ксения говорила, он вдруг загудел сильнее, выправился и, задрав нос, опять круто пошел туда, откуда его только что едва не спихнули два узкотелых истребителя с крестами на боку. Всякий раз, как с высоты, от самых облаков, долетал отрывистый треск очередей, Ксения вздрагивала и ждала, что какой-то из самолетов вспыхнет и взорвется. Но они гудели, уходили к облакам, опять появлялись чуть подальше от прежнего места, и сердце уже готово было отпустить, каким-то осторожным намеком его уже тронуло тепло надежды.
– Уйдут, уйдут!.. – затопал Вовка по тесовому настилу, и тряска отдалась по всей крыше.
– Подожди… Подожди, Вов!.. – Ксения говорила, не отнимая сжатого кулака от губ.
А самолеты снова вернулись, будто кто-то не выпускал их на невидимой границе; надрывая моторы, чертили дуги, взмывали один за другим, словно путая свои и чужие. И все так же отрывисто, зловеще потрескивали очереди.
Ксения не могла сказать, как произошло это и почему вдруг один из кургузых ястребков перестал метаться между белыми тучами и полетел ровно и тихо, как будто у него остановился мотор. Она и поняла-то это лишь тогда, когда он уже заметно снизился и быстро приближался, вырастал на глазах.
«Господи, господи!..» – Ксения пригнула голову – ей показалось, что летчик может не рассчитать и даст машине полный ход с опозданием и она не успеет, взревев, снова пойти в высоту. Она увидела, что винт самолета крутится, за его круговым размывом угадала кабину и голову летчика… И в тот же момент с ужасным свистом и шипением, едва не зацепив столбы и трубы соседних домов, самолет пронесся над их проулком и, срезав крышу угловой избы на Пятницкой, упал в огородах. Не было ни взрыва, ни огня: после грохота падения кверху вознеслась только волна летучего праха.
Через Грязные ворота к разбитой избе побежал кто-то из городковских, откуда-то выполз грузовик с солдатами в кузове. Немцы в машине громко переговаривались и, подскакивая на ухабах, держась за высокие борта, не отводили глаз от далекого неба, откуда все глуше и реже доносились короткие потрескивания выстрелов.
– Один все-таки ушел!.. Все-таки ушел!..
Голоса ребят отзывались той же болью, что захватила и сердце Ксении, она переступила нетвердыми ногами, поглядела вниз на кричавшую что-то Нюрочку. Услыхала наконец:
– Упал, а, Ксень? Упал?!
Спрашивала, будто не видала и не слыхала ничего.
– Упал…
Ребята скатились с крыши и пустились к пролому в ограде, помчались за всеми глядеть обломки и что осталось от человека. А ей было не под силу, хотя душа и рвалась удостовериться: господи, а может, чудо? а вдруг жив?.. Успела лишь крикнуть вдогонку:
– Не суйтеся! Не лезьте там!..
И Нюрочка что-то прокричала своим девчонкам, они тоже схватились бежать вслед за всеми.
А ребята летели на крыльях надежды.
Костька еще на крыше выпалил:
– А если это Гаврутов, дядя Игорь?..
Вовка сразу даже слов не нашел, чтоб ответить, но с ним тут тоже вроде что-то произошло: он побледнел и впился глазами в атакуемый «мессером» ястребок.
Теперь, на бегу, каждым словом, даже вроде бы отрицавшим эту и без того кажущуюся невероятной вещь, они прибавляли огня сомнению и нетерпению узнать, кто разбился в самолете.
– Или дядя Коля Недоманский, а?
– Дядя Коля?!!
– А чего? Они же знают город, они тут летали… Они могли как разведчики…
– Может, сразу двое?
– А что ты думаешь…
– Ведущий и ведомый?
– Ну. Один другого и прикрывал. Ты видел, как второй все время старался уйти выше?
– Ага…
– Сверху потому что все видно.
– Может, у них патроны кончились?..
– Скорей всего. А то бы они им дали!..
За домом с обрезанными стропилами, в конце усадебного огорода, они увидели перевернутый самолет – от него веяло теплым масляным испарением. Что-то похрустывало еще внутри его изломанного тела… На смятом крыле, кровным криком надрывая сердце, остывала живая красная звезда…
Немцы, очевидно опасаясь взрыва, пока не подходили к самолету, оглядывали его со стороны, в том, что летчик погиб, сомнений не было. Сбежавшихся людей близко не подпускали. Однако чуть позже солдаты подали им знак подойти и с их помощью извлекли из. кабины тело пилота. Найденное при нем оружие, планшет и документы, лежавшие в нагрудном кармане комбинезона, забрали с собой, останки разрешили захоронить.
Лицо летчика было разбито до такой степени, что никаких черт его определить было невозможно. Кто-то из женщин, копавших ему могилу за тополиной аллейкой в конце улицы, завел было речь об имени: надо, дескать, было попросить у немцев документы да прочитать, откуда этот лейтенант и как его при жизни звали, но было уже поздно, – машина с ними давно уехала. На поперечине креста укрепили кусок блестящей обшивки с крыла и так и написали: «Неизвестный лейтенант».
Обо всем надо было немедля сообщить Вальке Гаврутову, никак не намекая, конечно, пока на отца. Если догадается сам, тогда другое дело: можно будет рассказать и про то, что им пришло в голову об этом летчике.
Мать отпускала кого-нибудь одного: нужно было носить воду для стирки. И на речку – все равно в доме имелось только два ведра – отправился Вовка, после воды он должен был тоже прийти на Новосильскую.
Через Семинарку было не пройти: в здании техникума теперь располагался военный госпиталь, – и Костька, поглядывая на гуляющих по саду раненых, обошел ее по обрыву, около зараставшей бурьяном стены. В конце Овражной улицы, где она подходила к Новосильской, увидел группу ребят, играющих в пристенок.
В очерченном на земле круге валялось несколько монет – кон. Играющие, по очереди ударяя монетой по забору, старались, чтоб она упала поближе к лежавшим в кону. Если от нее до ближайшей монеты можно было дотянуться растянутыми пальцами, монета забиралась, в ином случае удар об стенку выходил пустым. Если монета вообще не попадала в круг – выставлялась новая ставка, а если, шлепаясь в кон, накрывала какую-нибудь в круге, дополнительно к ней меткач забирал из кона точно такую же.
Пристенок была игра и Костьки с Вовкой, так же, как и алямс, где кон ставился стопкой на черте в десяти шагах от той, откуда метали битку, рука определялась по вольной перекличке, и битку кидали так, чтобы попасть на черту или как можно ближе к ней. Самый меткий бил по кону первым – выигранной считалась каждая монета, перевернутая на «орла», если ставка была по пятаку, гривенник перевертывался дважды. Опытные мастера при первой руке опрокидывали весь столбик крупного кона одним легким ударом…
Своя битка, тяжелый пятак с вензелем Петровской поры, – их было немало у городковских ребят – имелась и у Костьки и сейчас оттягивала штопаный карман. Но ему было не до игры, до гаврутовского дома оставались считанные метры, и он, улавливая ухом знакомое звеньканье, решил пройти мимо, даже особо не оглядываясь, тем более что некоторые из игравших – он кинул короткий взгляд на компанию – были совсем не знакомы. Правда, кто-то из них, оборотив к нему голову, долго провожал его вспоминающим взглядом – он видел это боковым зрением, но не изменил шага.
Но вдруг сзади послышался торопливый, вполголоса, разговор, какая-то сила слегка толкнула в спину – прибавь ходу, но ноги не слушались. Костька обернулся лишь тогда, когда услышал, что его догоняют. Быстро отступив к краю тротуара, не успев сделать и первого глотка надежды, что бежать могут и не за ним, он тут же увидел, что это не так. Опережая всех, к нему подбежал худой, остроносый пацан со взрослыми глазами, носом, ухмылкой. У него все было взрослое: лицо, одежда, даже голос, несильный и хриплый, хотя – в каких-то нотах – и мальчишеский. Это Костька видел у блатных – таких, как братья Кожины у них в Городке, как урки с бегающими глазами на городском базаре, приводящие в беспокойство всех, рядом с кем – случайно, нет ли – оказывались…
Подбежавший был знаком, определенно знаком, Костька даже почувствовал отравный осадок, взболтнувшийся в душе как воспоминание об этом остроносом лице и сиплом голосе. Первые слова его не дошли до сознания – понять их мешало лихорадочное напряжение памяти: где и когда сталкивались? И тут же пришло мгновенное и полное прояснение…
– Ну, падла, встреча!..
Малый, дважды повторив эти слова, даже покачал головой, выражая свою совершенную радость. Он изменился, конечно, с тех пор, как Ленчик бил его у вокзалами одет был лучше, видно, приспособился к жизни. И было видно, как ликовал, даже цокал языком от удовольствия.
– А где же монгол? – спросил он, смеясь и оглядываясь, имея, очевидно, в виду Ленчика. – Где он… – сиплый так грязно и длинно выругался, что его товарищи долго не могли остановить смеха.
Деваться было некуда, и Костька, не успев подумать, зачем он это делает, от какого-то отчаяния и еще не убитого в сердце сопротивления, полуобернувшись к хорошо видному уже дому Гаврутовых, крикнул:
– Валька-а-а!
Те, что окружили его, без особого страха повернули головы в ту сторону, куда он кричал: улица была пуста. А старый знакомый сразу же полез в карман и просипел:
– Еще вякнешь, падла, нос отрежу…
Он раскрыл кулак, и Костька увидел на ладони точно такой же охвосток бритвы, какой Ленчик Стебаков отнял у этого хиляка прошлой зимой. Только у этой большая часть лезвия вместе с концевым отростком была засунута в плотный кожаный чехольчик, острая часть выступала всего на полпальца или чуть больше. У него закружилась голова.
– Держи! – кивнул зареченец самому длинному из своей шайки и спрятал бритву. Костька обрадовался: бить будут все-таки руками и, может, не очень сильно, потому что сопротивляться он не будет, – ударишь уступком, вынут бритву…
Его ухватили за руки…
От первого удара удалось увернуться, второй рассек губу, потом огнем вспыхнул глаз, подумалось, что выбили. Хрипун сначала не бил, но когда один из бьющих, попав кулаком в бровь, выбил себе палец и, замахав рукой, отошел в сторону, не выдержал и, подскочив к Костьке вплотную, быстро ударил в лицо головой. Ноги у него подкосились, державшие разжали руки. Потом его били ногами, стараясь угодить в голову, он уткнул лицо в землю и что было сил обхватил перевитыми руками уши и затылок.
– У, падла!.. У, падла!.. – слышал он при каждом ударе.
Когда Вовка пришел к Гаврутовым, Валькина мать промывала Костьке лицо и разбитую голову. Он сидел, склонясь над тазом с водой, в котором тетя Нина смачивала тряпку, и никак не мог пересилить перехватившую горло спазму. Вовка просто онемел, решив, что таз полон крови. Он побледнел, но, постепенно придя в себя, попросил немедленно рассказать, что произошло, считая, что Костька попал под какой-то взрыв.
Возвращаться домой в таком виде было страшно, надо было дождаться ухода матери на работу, и сидеть с Ленкой отправился Вовка. Ко всему прочему куртка, недавно купленная матерью на базаре, оказалась располосованной по всей спине, – видно, хрипун успел черкануть по ней бритвой, когда Костька валялся на тротуаре. Тетя Нина взялась возиться с нитками.
Валька был испуган и зол, будто избили его самого, тем более что мать к его пущему стыду и обиде не раз повторила при всех:
– Вот и тебя так носит черт знает где!..
Это было несправедливо, все это знали, но ни оправдываться, ни вообще говорить на эту тему язык не трогался.
Прежняя часть, стоявшая в Городке, так и не возвратилась с фронта: либо там ее всю расколошматили, как говорила Нюрочка Ветрова, либо, потрепанную, перевели в другое место. Она была тыловой, не требовалось особой грамотности в этом смысле, чтобы определить ее вид: грузовики перевозили обмундирование, какие-то материалы, ящики, пакеты, даже мотки веревок и тюки с чистой ветошью. Бывало, у груженых машин и ночью не выставлялась охрана: такую ценность, видно, имел груз.
Но Городок недолго оставался тихим. В одну из ночей легкие дома на его немощеных улицах задрожали от рева моторов и лязга гусениц. Когда наступило утро, все увидели машины на гусеничном ходу, там и сям приткнувшиеся к ограде, к большим домам, к развалинам Сергиевской горки, несколько их осталось за стеной у Базарных ворот. В течение дня тягачи с кузовами расползлись по удобным местам: в дополнение к бывшим, чуть ли не в каждом тупике солдаты вырыли новые укрытия и, как уже стало привычно глазу, – моторами вперед – загнали в них машины. Школу, стоявшую неподалеку от Рабочего Городка, где до войны училась ребятня всей округи, детский сад, домоуправление, многие личные дома немцы заняли под жилье; и если в первое время расквартировщики прикидывали, где и как можно потеснить хозяев, теперь из облюбованных домов людей выселяли без разговоров. Постояльцы, как верно говорила Нюрочка, стали не те.
К Савельевым на постой поначалу не определили никого, Ксения даже решила, что их дом обошли по ошибке, пропустили в суете, и с этой мыслью и ушла в клуб на уборку. И была удивлена и расстроена, когда, вернувшись к сумеркам домой, увидела поджидавших ее на крыльце ребят и узнала, что квартиранты у них все-таки объявились.
Когда Ксения, полная тревоги, прошла в дом, в полутьме на кухне она увидела сидевшую у печки… Личиху. Рядом с ней на второй табуретке сидела дочь.
– Вот те на… – только и сумела она выговорить. – Как же это так?
Личиха тяжело вздохнула и осталась сидеть Молча, потом, когда хозяйка, принеся из комнаты сиденье, устало опустилась у стола, не выдержала и всхлипнула, прикрывая глаза снятым с головы платком. Валентина втихомолку глядела на нее и морщилась.
– Вот, – сказала Личиха, высмаркиваясь и утираясь тем же углом платка. – Выгнали… Из своей хаты выгнали… К тебе определили.
Ксения молчала.
Личиха покашляла, прочистила голос, но продолжала со слезой:
– Некому заступиться тепере… Как Егор утоп, так и все пошло прахом, вся жизня моя сменилась…
– Конечно… – Ксения не знала, что говорить. Где-то в глубине души ей жалко было Личиху. Свежи были в памяти дни, когда металась она по берегу и выла, выискивая по течению мужнино тело, спускалась по реке через весь город до самой Прокуровки, где многие льдины вынесло на заливные луговища. И все причитала, все кляла себя в голос за то, что не отговорила его от отчаянной затеи. Ходил слух, что и сестер ее в деревне не обошла беда, что у младшей сгорел дом.
– Может, в сарайку мы пока? – проговорила Личиха. – У меня-то они и ее заняли, загрузили всю ящиками и замок свой навесили. А счас и ночами теплей стало… А там как бог даст…
– Смотри…
Ксению охватили усталость и равнодушие. Все-таки есть на свете какое-то странное предчувствие, подумала она. Вот сегодня, пока она – безо всякого просвету и желания, с большой натугой, ну просто через силу – протирала слабой хлоркой полы и стены и полдня расставляла по-новому тяжелые связки кресел (на вечере, как ей намекнули, ожидалось большое начальство и награждение солдат орденами), она отчего-то начала бояться конца дня, точно он мог принести ей новую беду. Какую еще, господи? Когда увидела хитроглазых ребят на крыльце, успокоилась, но покой оказался лишь до порога…
– Тут ведь теперь не поймешь, кто и хозяин: и самою могут из собственной хаты выпереть.
– Ой, да-а!.. Да-а!.. – Личиха опять, вспомнив свои дела, приткнула к носу платок и всхлипнула. Но скоро отняла, задышала ровней. – Ты иди пока, – обернулась к дочери, – счас пойдем вещи носить…
Валька тут же поднялась и вышла. Личиха слегка привстала и снова села – узкая табуретка была не по ней – и уже с большей смелостью продолжала:
– Он ведь и к тебе захаживал… Все пьяный открывал…
– Кто? – Ксения откликнулась машинально, в следующую же секунду уже все уразумев.
– Егор мой…
– Ты не заводи об этом разговор. Тут все не про него лежало!.. – Старый витой стул чуть не завалился от быстрого движения Ксении. Она встала и шагнула – сама не зная куда: к зальной двери, потом к выходу. – Он муж твой был…
– Да уж теперь что?.. – Личиха сделала такое лицо, что, дескать, она все стерпела и стерпит и что, если уж правда грех, то и не вспомнит больше ничего, что было, но изгонный бес все-таки успел потянуть за кончик языка – Но вот ботики-то разве сама нашла где?.. Я себе их глядела поносить, да малые, не пошли…
Ксения вслед за ней опустила глаза к ногам: поношенная, пыльная обувка на все мокрые и сухие дни – потому как была одна-единственная – давно носилась как своя. Куда да и зачем было девать это напрасное Егорово даренье? Решилась оставить себе, хотя и знала: совесть без зубов, да грызет. Вот и вылезла наружу. А чего же говорить-то теперь? Кто рассудит-то да поймет?
Она сумела сделать сухой горячий глоток, заставила себя смолчать и пересилить обиду. Но как же они вместе толочься-то будут тут? Похлебку-то Личиха где себе варить будет, не в сарае же? А вещи какие собралась при-несть? Надо снова сесть и сказать, постараться быть спокойной…
– Нехорошо говорить про мертвого чего ни есть, ему и так не слаже всех, такая уж судьба, неизвестно еще, что с нами будет.
– Ой, да-а!.. Да-а!..
– И давай не касаться этих разговоров, я тебе уже сказала. Хождение его ко мне было пустое, я тебе поклянуться могу, чтоб ты перестала думать. А что он принес тут… раз и два: и вот, что ношу, потому что ноги не во что было сунуть, и хлеба буханку, и еще тут одна вещь – не знаю с кого и на кого, эта цела, можешь сразу взять – все верну, когда заимею, до крошки последней…
Личиха молча качала непокрытой головой, смотрела широкими глазами, и Ксения никак не могла избавиться от мысли, что та не понимает ее так, как могла бы понимать совсем недавно. Словно бы порча какая коснулась ее издалека и то проявится, как цвет на лице, то опять уйдет внутрь, не давая уравновеситься и успокоиться. Но это было не так.
Не сблизившись за долгие годы соседства, сталкиваясь случайно, почти не обмениваясь при этом ни единым словом, Ксения просто не знала и не понимала Егорову жену, о чем, впрочем, и ничуть не жалела. Это была женщина совершенно иного склада: когда, к примеру, кто-нибудь говорил ей что-либо понятное и веское, она вполне осмысленно воспринимала речь и, казалось, соглашалась с доводами собеседника, но стоило тому замолчать, а ей опять остаться со своими мыслями, она – человек подозрительный и мало кому верящий – словно бы сразу забывала доказательства и советы и снова каменела на опоре собственного опыта и инстинкта.







