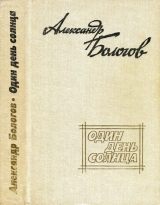
Текст книги "Один день солнца (сборник)"
Автор книги: Александр Бологов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 25 страниц)
На шаги матери она не обернулась.
Ольга загремела в прихожей бельевым баком – в нем согревали воду, поставила его на одну из конфорок плиты и кастрюлей поменьше стала набирать воду из-под крана. Затем затянула потуже темный платок и пошла в сарай за топливом.
Вовка, переодетый в сухое, ‘резво сучил кривыми ногами и голодно подхныкивал. Сбросив перед дверцей плиты охапку дров, Ольга подошла к нему и поцокала языком:
– Сейчас купаться будем!..
Внук увидел ее и занервничал еще больше.
– Поздно пришла-то как, – сказала Зинка, и по голосу ее было ясно, что это только вступление к тому, что она намеревается сказать.
– Задержалась, – неопределенно отозвалась Ольга.
– Ты на кладбище была, я видела. Ты ходила его хоронить… А мне говоришь, что он тебе никто, что он тебе совсем никто…
Не отвечая, Ольга прошла к единственному в комнате окну – большому, высокому, с широким подоконником. За ним стояла непроглядная темь. Чтобы хоть что-то разглядеть снаружи, нужно было приникнуть к стеклу вплотную, притиснуться лицом к его мертвой холодной грани. Ольга это и сделала – прижала лоб к остужающему листу.
Близка густая тьма, за кромкою окна – точно бездна пустая. Но что же так сечет глаза, словно встречный ветер? Веет холодом и выжимает слезы – такие близкие в некоторые дни!.. Ольга крепко зажмурилась и промокнула веки рукавом. Зябко подернула плечами.
Вовка уже совсем разгорячился. Он нетерпеливо взвизгивал и выгибал спину, норовя подняться. Увидев, что мать направляется к нему, Зинка вышла в прихожую, Ольга, приглядывая за внуком, подняла с постели ее пальто, чтобы повесить на крючок, и увидела под ним плотный желто-серый прямоугольничек старинного снимка. Она быстро перевернула его. С карточки, строго насупив брови, далеко и чуждо, без малейшего тепла и улыбки смотрела на нее баба Мотя…
17
Первая птица подала голос хрипло и прерывисто, словно испугалась или необычайно удивилась, проклюнув ледок тишины и покоя. Это был осторожный шаг вперед, в новый день, в продолжение жизни, и не успела птица вдохнуть поглубже и крикнуть поуверенней и почетче, как уже откликнулся другой голос – торопливый и неровный, но уже более звонкий и ясный.
Пока ранние острые лучи солнца коснулись верхушечных веток тополя, радостный птичий гомон половодьем залил округу. Птицы возносили благодарные песни свету и бытию, пестрые звуки, как разноцветные лоскутки, вплетались в красочную ткань хора. Стоило, кажется, откинуть плотную занавеску – и в комнату хлынет это многоцветье.
Ольга осторожно отодвинула штору и зажмурилась: «Господи, благодать-то какая!..»
День начинался ясным и теплым, и ясно и тепло становилось на душе.
– Доброе утро, мам! – Михаил, несмотря на поздний час, вышел заспанным, вроде бы недобравшим сна. Он зевнул, направился к большому приемнику на ножках и надавил какую-то кнопку. Через секунду-другую комната наполнилась мягкой музыкой.
– «Маяк» всегда наготове, – сказал Михаил.
– Доброе утро, сынок, – отозвалась Ольга. – Оно, и правда, смотри какое, во…
Михаил повернулся к окну, поглядел вверх:
– Да-а, небесная канцелярия знает, что делает. Давай-ка откроем форточку…
Потом он стал приседать. Растопырив руки, поворачивал то в одну, то в другую сторону тело, но в поясе оно гнулось туго, больше скручивались ноги. Сын был в трусах, Ольга видела его всего.
Ей снова пришел на память дед Павел, хорошо его помнила, – крутого нрава, малословный человек, разве чем и поваживавший внуков – так это прутом. В восемьдесят лет сил не потерял и ловкость во многом сохранил – без лестницы на вишни с решетом лазил обирать.
В него Мишка, в него. Дед с годами стал посуше, но кряжем, как был, остался.
– Как спалось? – спросил Михаил, когда они уже сели за стол, и он, в рубахе из махровой полотенечной материи, с мокрыми причесанными волосами, откупоривал четвертинку водки, чтобы долить графин.
– Да как спалось – хорошо, сынок.
Ольге было как-то неловко, что она сидит сложа руки, а невестка возится с едой одна. Но та так и не позволила ей встать с места, и Ольге это даже понравилось – Лида была хозяйкой.
Михаил вынул пробку, поглядел сквозь графин на свет:
– Как слеза…
Он наполнил стопочки и добавил:
– Водочка, если в меру, только на пользу. Доказано и проверено. А сегодня тем более праздник.
Ольга, приняв это на свой счет, запротестовала:
– Да ну, сынок, что за праздник!..
– Как что за праздник? – Михаил поднял брови. – Выходной!
– Ах, выходной, да… – Ольге стало неловко. – Но а рано-то как, самое утро?
– Это ничего, на весь день зарядка.
В тесной кухоньке, плотно заставленной белыми вещами, было не развернуться. Лида, вроде и с места не сходя, обращалась то к столу, то к плите, проносила над головами шкварчащую сковородку, разливала чай.
– Ешьте, мама. Это, правда, не очень, на скорую руку, но мы тут еще постряпаем…
– Ай, Лидушка, что не едят, того не варят. Спасибо, милая. А чай – это я люблю. Сама на старости лет научилась заваривать. Знаешь, сынок, Толик научил. Ага. Все как-то не различала вкуса: подкрашен кипяток – и ладно.
– Велика наука! Не жалей заварки – и все.
Михаилу показалось, что мать с умыслом вспомнила зятя, и вспомнила добром. А давно ли на чистую воду выводила? Пойми ее, елки-палки…
– Это-то верно, – согласилась Ольга, – а все-таки и уметь надо.
Хоть и недолгий, сон все-таки освежил Ольгу. Даже серое платье ее, в мелкий сиреневый цветочек, тоже вроде бы посвежело, отвисевшись за ночь на краешке стола. До сих пор лицо ее не потеряло ровности цвета, чистоты и матовости. Даже морщин, как и всегда при здоровой коже, было немного, и только губы как бы утопились слегка, хотя и целы были передние зубы, – видно, уж потому, что погрузнела вся и лицо покрупнело и порыхлело.
Ольга туго заплела косицу, накрутила жгуток на палец и пришпилила на затылке – оттого и лицо как-то выпятилось, раньше Михаил этого не замечал.
«Да ведь и старая уже. Нам бы, в такое-то время, дожить до ее лет…»– подумал он и сказал:
– У тебя симпатичное платье, – Лид, а?
– Правда, – сказала Лида. Она словно удивилась, дотрагиваясь осторожно до плеча свекрови. – Сами шили?
– Ну что ты, Лидушка, у меня и машинки-то нету. До войны была. И у Зинаиды тоже нет – ей и не до этого. Да и готовое покупать лучше, за один пошив платишь бог знает сколько. Нет, правда, прикинь…
Ольга ладошкой вытерла губы, потом достала из рукава пестрый носовичок и еще раз обмахнула рот и добавила:
– Да думала на обыденку – так, изношу по дому, а потом и самой понравилось: поехать куда, еще куда надеть. Толик подарил…
Вот тебе раз!.. Как же так Толик? Ведь она сама купила себе обнову, с пенсии, а Толик с Зинкой только и делали, что присутствовали при этом – все вместе зашли в универмаг. Толик, правда, сказал смехом, что это, мол, они дарят ей платье, но сути-то это не меняет. Ольга и сама не могла понять, отчего сказала про Толика, отчего вчера зла на него не хватало, а сегодня он то и дело с добрым словом соскакивает с языка…
– Симпатичное, – повторил Михаил, протягивая жене опорожненную чашку. – Лид, еще одну.
– Ай, сынок, дело стариковское – не ваше: всяко сойдет. Мне уже не вверх лететь.
Твердой рукой Ольга развела морщинки у платья на коленях, стряхнула невидимые крошки. Никто бы не уловил сокрушения в ее голосе, – давно ушла та пора, когда она долгое время чувствовала себя уже не молодой, но еще и не старой. Эта пора, не в пример отсеченной замужеством молодости, была одноцветной и долгой – точно полжизни захватила. Вся – в суете, в заботах, во всегдашнем напряжении. Вспомнишь ли день, когда не думала о грядущем, или ночь со спокойным сном? Что же спасало в эти безысходные часы, откуда силы брались? Значит, где-то была готова к крутым подъемам, по крови восприняла крестьянскую крепость, приноровилась? Или все-таки – молодость?
И так и жила много лет, а однажды посмотрела вдумчиво на себя в зеркало – и уныло удивилась: где ж это все, что было? Ссыпалось, как листва с дерева…
В тот день и угомонилась внутренне: иная жизнь подошла – приемли. Да и что зеркало, оно ли открыло глаза? Осветило миг – да и только. Душа износилась. Да и болезни всякие столько лет точили нутро… Если б на каждую хворь откликалась, как нынешние, – не один бы год лежачим набрала. Так иногда вступит в сердце – думаешь, не разожмет; или крестец заломит, закостенит – не согнуться, не разогнуться…
– Сейчас одежа у всех нарядная, Лидушка, слепой не видит. Все забогатели. Вон как в городе по выходным идут… Около кино пройдешь – как на ярмарке, особенно молодые, да если парой.
– Верно, верно. Какая-нибудь соплюшка, а на ней – кримплен, какой-нибудь финский костюм шерстяной, туфли на платформе за шестьдесят рублей.
– Гос-споди, от смерти, что ль?..
– А вот как хотите, – Лида заулыбалась. – А парики?
– Да-да… И сапоги? Такие, навроде чертовой кожи, в обтяжку?
– Чулки.
– Во-во, как чулки, и лодыжки наружу.
В душе Ольга не была против модной одежды молодых, ей претило видеть щеголих в возрасте, – в облегающих грузные бока брюках, с чужими волосами на голове, тщащихся спрятать хоть толику своих лет от постороннего глаза. Это – не семейный народ, думалось ей, потому как прихорашиваются обыкновенно – «на людей». И, поддерживая разговор с невесткой, она имела в виду далеко не тех, кого разумела та.
– Вообще-то сказать, и купить теперь все можно, были б деньги, не то что раньше. Разве что с жиру… У меня вот даже, можно сказать, ненадеванное кое-что лежит. А когда носить? Да и перед кем? А так, привыкнешь к чему: не рваное, чистое – ну и куда с добром.
По Ольгиному лицу вдруг словно свет пробежал и согрел его – разгладились складки, пояснели глаза. Она живо обтерла ладонью рот:
– Миш, не поленись, сынок, принеси альбом – там есть фото, где ты в американском костюме…
Михаил знал, о чем говорила мать. Первая волна тепла от выпитого уже расслабила его, тело стало легким и свободным. Он словно всплыл над столом и, тронув на ходу мягкое плечо матери, покинул кухню.
– Эта?
– Ага. Вот… Лидушка, ты видела, конечно… Сынок, а ты помнишь, как мы его получили?
– Еще бы!
Михаил действительно все помнил, как если бы это было уже не бог весть когда. Мать в тот день прибежала с работы раньше обычного, суетливо засобирала их с Санькой, и все они – втроем – понеслись в заводской профком. Живот у матери заметно выдавался вперед – это было незадолго до рождения Зинки, Мишка видел, каких трудов стоило ей осиливать его груз, но она торопилась: вдруг кто другой перехватит счастье. Ей выдали ордер на детскую одежду, – сколько добивалась его, сколько обследований приходило!..
Мишка в жизни не имел ничего похожего на какую-нибудь пару, где бы, допустим, рубаха соответствовала штанам – покроем ли, цветом ли, материей. А тут целый наряд, да еще американский. Через год сына надо было отправлять учиться, и Ольга взяла костюм на вырост – в серую клетку, плотной, грубой шерсти.
С год, поди, лежала обновка в сундуке, пока не пришел момент обряжать Мишку в школу. За год он не прибавил в росте и на палец – харчи были не те, и Ольга, как ни крутила, ни вертела, как ни ладила сыну помочи, вынуждена была подшить и штанины, и рукава. В классе, когда рассосалась смутная робость перед обновлением жизни, Мишка сообщил новым товарищам, что костюм у него американский, подарочный, полученный по ордеру за убитого отца. Двое или трое ребят сказали, что и у них отцы погибли на фронте, а ордеров им не выделили, и Мишка даже сдрейфил было, не отберут ли подаренье назад. Потом, соображая, сказал завистникам, что, видать, их отцы не так воевали, как его…
Года три, не снимая, носил он американский костюм – штопать локти было просто: на сером не различишь. На фото в нем попал, осталась память.
И Михаила задело минувшее – пробежал теплый ветерок в душе, шевельнул пожухлую листву. Горькое детство, которое он не любил вспоминать, на которое был в большой обиде, как бывают в обиде на человека, испортившего жизнь, издали показалось не таким уж и лихим и безрадостным. Не один раз приходилось ему вспоминать и рассказывать кому-нибудь о зловещем вое ночных бомб, выбирающих себе жертву по непонятным, слепым законам случая… И радость уцеления – разве она не озаряла счастьем душу и не затмевала все другие, преходящие беды, обнажая их суетность и ничтожность? До сих пор ее застывшие пласты помогают душевному равновесию, стоит лишь коснуться их в глубине прошлого, ощутить их скрытую до поры власть…
Он механически наполнил себе стопку – жар в груди возрастал.
…Ни прислониться к чему, ни на пол, упаси бог, сесть – носил заморский дар, точно воду боялся пролить. До первого пятна. Привычки к аккуратности не было, и пятно – густое, ядовитое – однажды в один миг прочно уселось на коленной выпучине. «Эх!..»
– А помнишь, как чернильницу на себя кувырнул? И чуть не испортил все?
– Вот я счас подумал… Не помнить!.. Лупила-то как!
– Да, сыночек, жалко-то как было, вещь-то какая…
– Не я же чернилку-то уронил, елки-палки! Ты вот до сих пор не веришь…
– Почему же не верю… Тогда ведь под горячую руку – как увидела, господи!..
Вот они, эти следы детства, отпечатались – за всю жизнь не сотрешь. Михаил, вынесший в детстве немало порок, своих детей зарекся наказывать битьем. Правда, пока их нету… Нету…
– Так когда вас снесут-то? – выдернув из множества предметов на столе графин с остатками водки, Михаил протянул его жене и кивнул в сторону холодильника: «Влей маленькую…»– Когда?
– Переселенье-то?
– Да.
– Ай!.. Пришла балалайка, назвонила – этот, который переписывал всех по домам, – да так вот который год и ждем. А я думаю, бесполезное дело, сынок. Ты подумай: колупни сейчас – ведь как тараканы побегут из развалюх. Стольких напрописали, как слух пошел, что всю улицу будут сносить, – ужас! Я знаю, у каждого родственники нашлись, уж, кажется, потерянные. Все теперь в город норовят…
Далеким отблеском мелькнуло время, когда сама она, ниткой потянувшись за мужем из деревни, трудно привыкала к городу – холодному и чужому, как ей казалось, для каждого. Ольга вытерла платочком лицо и продолжала:
– И ко мне подъезжали – да-да, и знаешь кто?
– М-м?
– Тетушка твоя Евгения…
Это была отцова двоюродная сестра. В голодное время Мишке перепадало кое-что со стола дальних родственников, – он тайком от матери изредка наведывался к ним. В те дни, когда Ольга со своей тройкой билась в нужде, словно рыба об лед, Евгения и горсткой соли не поделилась с невесткой, при всяком удобном случае выставляя наружу скудость своей жизни. Да и позже если и привечала кого из Ольгиной ребятни, так это Мишку – мальца расторопного и учтивого. Зинку Евгения считала пригульной, чужой, а Саньку «горазд спесивым» и вредным. Ольга, уяснивши, чем дышит ее золовка, в один раз отрубила все связывавшие их ниточки. Ни сама не была ни разу у Евгении, ни к себе ее не приглашала.
Михаил все это знал, конечно, – и по сию пору хаживал к тетке в редкие приезды домой, опять же скрытно от матери.
– Ты так и не помирилась с ней? – спросил он, будто сомневаясь.
Ольга удивленно поглядела на сына.
– Чего же это мне с ней мириться? – Она покачала головой и, секунду-другую помедлив, добавила – Да мы ведь и не ругались…
Михаил сделал вид, что никаких подводных струй в материных словах не различил, и бодро отозвался:
– Иностранцы с нами в космос летят, все секреты друг другу выложили – теперь ведь не скроешь, а люди на земле не могут столковаться…
Ольга промолчала.
– И огород твой со временем пропадет, – быстро тронул Михаил другую струночку.
– Да уж если возьмутся – пропадет.
– А все-таки очень выгодно – свой огород, правда? – спросила Лида.
– Лидушка, привычка. У вас вот все магазинное, а мне – укупишь ли? А огород – и зелень, и картошки сажаю ведра два-три. И Зинку снабжаю, и себе хватает до весны.
– А деревья? – Михаил произнес это так, словно очень жалко ему было, что у них-то с женой сад развести негде.
– И деревья, – согласилась Ольга. – Яблоки сушу, груши. И детям полезно – груша крепит хорошо, и витамины зимой.
Она подумала, что зря все-таки не привезла молодым и в этот раз вместе с вареньем сушеных яблок, – не пропали бы, употребили бы в дело.
– Да деревья-то уж застарели, – сказала она вслух. – Яблоня в дальнем конце ничего почти не дает, левый сук совсем высох. Спилить бы надо, я уже говорила Толику, да все как-то руки не доходят. А груша-то вымахала, сынок! Теперь уже не залезть… Одичала, правда, грушки маленькие – во! – Ольга показала долю пальца. – Ухаживать надо за всем, поливать, да уж силы не те. Разве натаскаешься воды?
– Все с угла? – Михаил вздохнул.
– С угла, два проулка… Так иногда намотаешь руки– думаешь, пропади оно пропадом!.. А нет, опять идешь.
– Огород и спас в войну, правда?
– Господи, да без него я и не знаю, что бы и было. Сад-то хулиганье обчищало: во, с голубиное яйцо завязь обрывали. Никак нельзя было уберечь. Я как-то надумала караулить, дак чуть самою не прибили – с железными прутьями лазили. Специально делали.
– Вот хамы!..
– Ай, сынок, все есть хотели…
– Значит – иди воруй?
– Да нет, это – конечно…
Ольга пожала плечами – не об этом, мол, речь – и развернулась к невестке:
– До войны-то у нас вообще не было огорода, один сад и трава. А в войну, в первую же весну, я сначала одну куртинку вскопала, потом вторую – так и подняла все под стволами. Потом и подсадила несколько корней, добыла в деревне, – ранетку, две вендерки…
– Я помню, – сказал Михаил.
– Да ты уже большой был, лет семь; конечно, должен помнить.
Минакова снова обдало теплом давнего прошлого, захотелось еще выпить – за тяжкое детство, за ушедшие годы. Он щелкнул пальцем по горлу, протянул руку к холодильнику: «Лида, ну что ты!» А матери сказал:
– Как выжили только…
– А так и выжили. Лежу ночью, думаю: а как же завтре-то, чем кормить-то буду? Все выменяно – и часы у нас были с кукушкой, и машинка ножная «Зингер», и вещи отцовские, что остались, – все снесли в деревню с Варей Грибакиной. За машинку два пуда хлеба дали, зерна и масла топленого. Да-а, дело было зимой, масло отпечатком так в тряпке и несла, помню. Ну, думала, заживем. А быстро все прибрали, мыши.
– Какие мыши?
– Да вы – мыши, какие же еще! Ты да Санька. Зинка еще только родилась. Цельный день могли хрупать, только давай.
Ольга приложила платочек к мокрому глазу, отняла, долго, будто не различая, смотрела на пятнышко просочившейся слезы.
– А как Варваре-то досталось, господи-и! Четверо малых ребят, Николай погиб еще раньше нашего отца. Ох, Варя… А всех выходила, всю жизнь на девок положила. Побиралась с ними.
– Побиралась?
– Дак а что же, куда денешься?.. Да и мы просили, сынок…
На какой-то момент в комнате словно что-то остановилось – движение воздуха, света или ход времени. Стало пусто и тихо. Но этот момент тотчас и миновал, жизнь текла, и Ольга все поняла. Было совестно – у Михаила осело лицо, попунцовели мочки ушей и у Лиды.
Краски голоса помутнели, словно высохла в них живая влага, и Ольге пришлось помолчать, продышаться. Испытание было предназначено, и надо было принимать его.
– В доме уже ничего не оставалось… Ну, там – вещи, из обстановки, что не понесешь. А я хоть и слабая была, но лицом сытая, щеки никогда не опадали. Мне кто подаст? А ты догадливый был, все понимал. Помню, скажу: иди, попроси, сынок. Ты пойдешь к дому, знал, что кому сказать, и несешь что-нибудь. А я-то радуюсь…
…«Мы вакуированные, шелон под бонбежку попал, всех убило, мы с мамкой одни остались…» – говорил Мишка, за несколько шагов до облюбованной избы настраивая голос, загоняя его под самое нёбо – чтобы было правдивее и жальче. Он и сейчас, вот сию минуту, по первому же желанию мог точно воспроизвести незабытые присловья из побирушьего псалтыря, обкатанного им на черствых деревенских душах. Они, оказывается, жили себе, скрывались в дальних темных закоулках памяти, и стоило только встряхнуться, смахнуть с них многолетнюю пыль, чтобы вновь ощутить их острый вкус…
«Всех убило, мы с мамкой одни остались…» – Минаков почувствовал, как дрогнуло что-то у него в горле, занялись внутренним звоном голосовые связки и губы послушно шевельнулись и округлились, чтобы дать волю звукам и словам…
– А как волки-то нас отрезали!.. Сынок! Горло-то ты как посадил?
Минаков молча смотрел перед собой, потом повернул к матери голову и запоздало закивал, хрипло произнес:
– Точно, точно…
…Ольга рассчитывала, что они засветло обернутся, удачно ли, неудачно, а обернутся, будут дома еще до огней, как она и обещала бабушке. Да и Полина – ее новая знакомая в деревне – обнадежила на этот счет: три часа ходу, а пошустрей шагать – и того меньше. Это было верно, они с Мишкой и сделали один конец разве что чуть больше, нежели в три часа, да и то не особенно нажимали. Но это было на свежую силу, за плечами висели порожние мешки. Маркизетовое платье – единственное дорогое, что имела Ольга, – и двадцать пачек нафталина, взятого на обмен по совету Вари Грибакиной, был не груз.
Очень помогла Полина – по-девичьи свежая, мало похожая на крестьянку молодайка. Муж ее, лейтенант, воевал с первого дня войны, детей у них не было, жила Полина вдвоем с отцом. В первый приход свой в Путимец Ольга зашла в их крайнюю избу, чтобы попить, а ушла с полпудом картошки и с сердцем, полным тепла и благодарности. Такой благодарности она, кажется, ни к кому не питала ни до, ни после встречи с Полиной. «Вот ляжу и умру за нее в любой час, – думала, – только бы знать, что с детьми будет все хорошо».
Полина знала, кто из соседей как живет, и указала Ольге дома, где могли нуждаться в нафталине – пересыпать спрятанное добро. И дивное дело, на платье и грошовый порошок, добытый Варварою в аптеке, Ольга наменяла и картошки, и зерна, даже немного сметаны для забелки варева. «Вот, что есть», – сказала старуха, наскоблившая ее со стенок махотки.
Топали они с Мишкой первые минуты – ног под собой не чуяли. И за Полину, золотого человека, радовалась Ольга, и за Варю, детям которой несла пропитание. Плечи приятно давила полная торба, рядом пыхтел серьезный по-взрослому сын. Город, дом были далеко, но душа ликовала.
Однако уже через короткое время – они и до первого оврага не дотянули, где по осени Ольга, разувшись, месила болото, через которое легла дорога, – Ольга поняла, что путь им предстоит тяжелый.
Мишка, как она ни смиряла свой и без того неспорый шаг, отставал. Оглянулась раз, а он стоит, уже далеко, мешок не опустил, но стоит, смотрит ей вслед. «Сыночек, ну что же ты?!»– хотела крикнуть, да не крикнула, – и дыхание было сбито, и пользы в этом не видела. Пришлось опускать свой «сидор» вперевес на землю, возвращаться, освобождать Мишку от ноши.
Переложила, снова перевязала груз, и хоть невеликий вес был отделен сыну, а тяжести прибавилось, – еле поднялась с четверенек, подлезши под мешок.
Миновали глубокий овраг с топким дном, – Мишка разом прошмыгнул, а Ольга на ощупь, скользя ногой, одолела присыпанный белой крупой и прихваченный ранним морозом переход. На бугре ветер задувал сильнее. Мишка налегке потерял тепло. То и дело тер он на ходу коленки, глубже засовывал в стеганые бурки бумажные штаны, поправлял привязанные скрученной тесьмой галоши. Галоши были чужие, крупнее ноги, и часто сбивались с ровного следа. Но Мишка страдал не из-за них, а из-за холода. А оттого что перегруженная, не в пример ему взмокшая от пота мать досадливо сопела всякий раз, как он догонял ее после частых заминок, Мишка совсем расстроился и захныкал.
Не видя впереди ни подходящей лощинки, ни кустов, Ольга решила передохнуть на открытом месте. Опустила груз, потерла рукой заломивший крестец. Потом села на раздвоенный мешок, распахнула телогрейку и притиснула к себе сына. Приложила горячие руки к его коленям и сквозь материю ощутила их морозную твердость. «Господи, и вправду заледенел…» Потерла, погрела худенькие ноги, подышала на руки, потом, не отпуская сына от себя, достала спрятанную глубоко за пазухой скибку хлеба и пару вялых соленых огурцов.
– Давай-ка, сынок, поедим. Пошибче пойдем – теплей будет. Вот попрошу баушку связать тебе новые рукавички, знаешь, как будет хорошо… Распущу старые паголенки, и тебе на рукавички.
Она закрыла Мишку от ветра, дышала на пальцы сквозь штопаные-перештопаные варежки, чтобы согреть всю руку сразу.
Дуло в спину, словно толкало к дому. Пороша ложилась неровно: местами на узкой белой простыне дороги намело плотные косые складки. Жнивье скрадывало первый редкий снег, и проселок матово светился среди пустой серой равнины.
Ольга устало жевала и глядела вдоль четко определившейся снежной полосы, думала: хорошо, что снег выпал, – и смеркнется, путь не утеряешь. Раз и два поворачивала голову, глядела вперед, куда надо идти, и вдруг далеко-далеко на дороге обнаружила куст. Отчего же она не увидела его сразу? Он хорошо заметен, хоть и мал, и неширок… И странно растет – между колеями, не прибило его ничем… А может, это не куст? Да куст, что же еще!..
Словно по чьей-то команде, Ольга быстро повернула голову и посмотрела вдоль дороги назад. На том же расстоянии, что и по пути к дому, посередине нее виднелся такой же аккуратный, точно кем-то обихоженный куст. Ветер не колыхал его…
«Ах!..» – Ольга так испуганно охнула, что Мишка, еще ничего не понимая, соскальзывая с ее колен, крепко вцепился в полу фуфайки и сразу же заголосил.
– Во-олки! – Ольга прижала к себе сына, потом быстро потянулась дрожащими руками к мешку, машинально тронула его, зашарила в карманах телогрейки, словно надеясь найти там что-нибудь такое, что дало бы ей возможность понять, что же ей делать.
Она ни разу не видела живых волков. Мертвого видела, в раннем детстве, – добытого отцом. Отец нашел логово, с семьей, подсторожил и убил волчиху, а троих детенышей взял живыми. Волчиха – длинная, как теленок, задеревеневшая на морозе – лежала в сенях. Холодея от страха, Ольга смотрела на ее оттянутое брюхо с помятыми сосками и алые потеки в углу приоткрытой пасти. «Не бойся, не кусит», – сказал отец, смахивая рукавицей, а потом и голой рукой кровяные следы с волчьей морды.
Волчата – еще маленькие, широколапые и головастые, – как только отец высыпал их из мешка, забились в темный угол под лавку и взвизгивали, звали на помощь.
– Мамку кличут, – кивнул отец в сторону дверей и снова вышел, чтобы унести волчиху в амбар. Слышно было, как он кряхтел и приловчался в сенях, подымая зверя, и как заскребли по выстывшему полу омертвелые когти…
Давно затерялась в памяти эта картина – казалось, безвозвратно, навсегда. И вдруг снова ожила – близко и ясно, до самой малой кровинки на черной губе онемелой волчихи. Ударил из детства глухой щелк тяжелых картечин, отмеряемых отцом для заряда, кислый запах старой шомполки, перетянутой в цевье сыромятным жгутом…
«Вот она – божья кара», – твердо представила себе Ольга, но между тем, оправившись от первого страха, торопливо стала делать то, что диктовал ей рассудок и опыт.
Ни при себе, ни на дороге она не обнаружила ничего, что могло бы ей помочь, – ни камня, ни палки какой-нибудь. Место было голое. Ногой, не слыша боли, Ольга отколола у кромки стерни смерзшийся комок земли, положила рядом с мешком. Отковырнула еще – Мишке.
– Не показывай, что боишься! – крикнула сыну, будто он был за версту. – Не голоси, они по голосу понимают…
Потом, пощупав затылок, сдернула с себя верхний платок и поверх шапки туго перетянула им Мишкину голову и шею.
– Если что – ты беги без оглядки, беги и беги… За маленьким не погонятся…
Мишка завыл еще сильнее.
Ольга огляделась. И в одну сторону – назад, к Путимцу, и в другую – к городу – путь был одинаков. Скоро упадут сумерки, деревню затянет мглой, бабы наглухо запрут и сенные, и внутренние двери, забьются овцы в углы хлевов – ни шороха, ни перха не услышишь. Не докричишься в такую пору до живого…
Город – ближе… Там всегда люди. Может, и на дороге кто появится – мало ли ходят… В городе Зинка и Санька – дети малые… За что им-то муки терпеть, если что?..
День поблек. Еще немного – и загустеет небо, сузится видимый промежуток. Поздно будет горевать, поздно думать…
Не отводя от дороги глаз, Ольга взялась за ношу, бросила Мишке: «Сынок, подсоби!..»– и разом вскинула мешок на плечо.
– Дай!
Мишка протянул ей заляпанный снегом комок.
– Иди и кричи, я тоже буду!.. И не показывай вида! Они следят… Только ослабнешь – поймут. Громче кричи!..
Мишка трясся, как будто кто-то невидимый, не переставая, сильно тормошил его, дергал так, что никак нельзя было остановить тело и губы, выговорить слово. Он всхлипывал и, слегка постанывая, пытался кивком головы показать матери, что понимает ее и что будет делать так, как она велит. Но даже это у него не получалось: голова не подчинялась Мишке.
Пошла поземка, пока еще слабая. Ольга запнулась на плотном скрипучем пласте и чуть было не упала – успела ухватиться за Мишкино плечо.
– На палых они и нападают! – громко сказала сыну, пока он поднимал оброненный ею отколок земли. – И слабых…
Мишка стучал зубами и молча вглядывался в далекий силуэт на дороге.
– Кричи, сынок! – сказала Ольга и сама резко и высоко, осиливая одышку, закричала – Ого-го!.. Николай, Василий, догоняйте нас!.. Ого-го!..
Семенящий рядом сын поднял на нее испуганные глаза, но она никак не отозвалась и продолжала выкрикивать:
– А ну поди!.. Ишь ты, вражина!.. Николай, Василий!.. А ну пошел! А ну пошел!..
Подал голос и Мишка. Он в один вскрик выдул из себя весь воздух, так что запело в ушах и проскребло глотку, – боль в ней обозначилась сразу, острым уколом. Но Мишка не снижал силу, напрягал голос, как мог:
– Эй!.. А ну пошел!.. Пошел!..
Дрожь не оставила его, и холод все так же костенил все тело, но он не думал об этом. Каждый следующий шаг он ждал чего-то еще более ужасного, чем переживал в данный момент. Весь он, все нутро его держалось, кажется, на одной-единственной прядке, готовой источиться в любую минуту.
Ольга шла не ходко, но частыми шагами, для шума что есть силы топая по застеленной белым сукном дороге. Дышать было тяжело, давило шею – одежда под стеганкой сбилась в сторону, складки тянули влажную кожу.
Она не отрывала глаз от волка…
Волк сидел и смотрел на приближавшихся людей. Та же собака, только дикая, – простая истина, открывшаяся давно, сама собой, и усвоенная без сомнения. Отчего же такой страх? «И у зверя есть душа…» Кто это говорил? Не отец ли?.. «Не бойся зверя, бойся человека…»
Он сидел ровно, не шевелясь. Теперь уже видно было, как легкий вихрь теребил шерсть у него на грузной шее (издалека казалось, что это на кусте шевелятся уцелевшие листья). Глаз его было не различить, но Ольга чувствовала острый охотничий взгляд, как ледяной луч пронзавший ее насквозь и замыкавшийся за спиной, у предела ее жизненной свободы.







