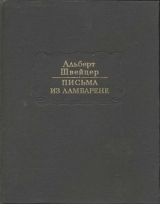
Текст книги "Письма из Ламбарене"
Автор книги: Альберт Швейцер
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 33 страниц)
В общем получаемые лесоторговцами прибыли довольно скромны, если принять во внимание затрачиваемые средства и тяжелую, исполненную лишений жизнь на лесном участке. Если кто-нибудь из них связал себя обещанием продать лес, получил аванс и поэтому не может использовать все благоприятные обстоятельства, то он должен быть доволен уже тем, что ему удается закончить год без долгов. Мне не раз случалось лечить, у себя европейцев, людей трудолюбивых, которые, однако, не в состоянии были оплатить стоимость питания и лечения в больнице и должны были просить меня об отсрочке до наступления лучших времен.
Говорить об эксплуатации вывезенных из глубинных районов туземцев лесоторговцами можно только в том смысле, что труд их оплачивается слишком низко. Но в действительности эти люди вырабатывают иногда значительно меньше стоимости своего содержания и того жалования, которое должно вручаться им по истечении срока действия договора. В первые месяцы многие из них вообще непригодны к работе, потому что никогда не держали в руках топора и им еще надо научиться с ним обращаться. Как это ни странно звучит, но нигде, пожалуй, рабочая сила не оплачивается так высоко по сравнению с действительно затраченным трудом, как в девственном лесу.
* * *
Но даже если допустить, что здесь нет эксплуатации в обычном смысле этого слова, эти сделавшиеся лесорубами туземцы все равно вызывают к себе жалость. Приехав из далеких горных районов и степей, они не в силах вынести сырого климата низменности Огове. Они все время тоскуют по родным местам. В девственном лесу им не по себе; еще большую отчужденность они чувствуют на воде, к которой не привыкли. Плавать они не умеют, а меж тем им приходится сплавлять лес по озерам и рекам. Иные из них, правда, довольно скоро научаются плавать, однако немало и таких, кто, день от дня работая на воде, не может освободиться от ужаса перед водной стихией. Уже сама необходимость работать регулярно и ежедневно деморализует этих детей природы. Тоска по периодам ничегонеделанья, которые в их прежней жизни чередовались с периодами работы, их заедает.
К этому присоединяются еще и заболевания, вызванные переменой пищи. Уже во время длительных и тяжелых переходов по пути сюда у них начинаются желудочно-кишечные расстройства, оттого что питаться им приходится только рисом. Многие из них прибывают на лесной участок совершенно больными. На самом участке, насколько мне известно, в общем-то делается все, что можно, для того чтобы их хорошо кормить. Это в интересах торговца лесом: ему нужно, чтобы его рабочие были сильными. Если негру не хватает еды, он бросает работу, не задумываясь над последствиями, которые это может для него иметь. Но при всем желании европеец часто не может дать своим людям ничего другого, кроме неизменных риса и соленой рыбы, ибо именно эти продукты легче всего бывает и доставать, и перевозить, и хранить. Однако туземцы Экваториальной Африки, надо сказать, переносят рис гораздо хуже, чем другие. Что именно является тому причиной, я так и не знаю. Несомненно, что отчасти это вызвано тем, что им всегда приходится торопиться и поэтому рис, который едят лесорубы, оказывается всякий раз недоваренным. Были сделаны попытки исправить это положение – давать рабочим рисовую кашу, приготовленную с солью и жиром. Но туземцы ее не едят. Они такие дикари, что едят только то, что сами сварят в своем котелке на дымном огне. В итоге питание рисом оказывается для них губительным. Люди худеют и заболевают желудочно-кишечными расстройствами. Часто у них развивается бери-бери, иногда в легкой, а иногда и в тяжелой форме. К ней присоединяется дизентерия. Никогда раньше мне не доводилось видеть здесь столько дизентерии, сколько я ее вижу сейчас. Но как же не распространиться дизентерии среди людей, которые пьют воду из первой попавшейся лужи близ их хижины, – и даже тогда, когда не подлежит сомнению, что вода эта загрязнена самыми мерзкими отбросами! Если же неподалеку от лесного участка и есть какой-либо источник, то привычки этих дикарей таковы, что нет никакой возможности содержать его в чистоте. К тому же кишечник у всех у них настолько поражен от постоянного питания рисом, что не может оказать сопротивление дизентерийной инфекции.
Наряду с дизентерией их подстерегает и малярия. В отдаленных районах, где они жили, в горном крае или в степях нет ни москитов, ни малярии. А на лесном участке они страдают и от того, и от другого. К этому присоединяются еще и простуды. Дикари эти очень чувствительны к сырому воздуху девственного леса. Но почему же тогда они не покупают себе на заработанные деньги ни москитников, ни одеял? Да просто потому, что москитники стоят дорого, а они, как и пристало истым дикарям, с большей охотой приобретают табак и разные мелочи, чем полезные вещи. В таком случае следовало бы их нанимателям обеспечивать их москитниками и одеялами! Совершенно справедливо. Но ведь они тотчас же отдадут то и другое за бананы, табак и разные безделки, которые предложит им какой-нибудь негр, приехавший из ближайшей деревни, точно так же, как они охотно меняют топоры и секачи своего нанимателя на какую-нибудь ерунду, а потом объявляют, что потеряли их.
Очень жестоко страдают эти привезенные из отдаленных районов рабочие и от язв стопы. Уже спустя несколько недель после прибытия немалая часть их по этой причине оказывается неработоспособной. Обычно они заболевают самым худшим видом язв – разъедающими тропическими язвами. Вначале они не обращают внимания на крохотный нарыв, который гноится. Через некоторое время нарыв этот превращается в язву величиной с кулак, сопровождающуюся сильными болями. Живя в грязных, битком набитых хижинах, люди, разумеется, заражают этими язвами друг друга. Однажды, например, с лесного участка ко мне прибыло двенадцать человек, у которых развились разъедающие язвы от контакта с одним из таких больных.
Итак, получается, что, хотя численность населения бассейна Огове значительно уменьшилась, приток больных, поступающих ко мне в больницу, намного больше, чем был прежде. В этом краю теперь меньше людей, но больше больных, потому что привезенные из глубины страны лесорубы во множестве становятся жертвами непривычного климата, несвойственного им образа жизни и свирепствующих здесь болезней.
* * *
Какое это печальное зрелище, когда такие вот исхудавшие люди, в которых по характерным чертам лица узнаешь дикарей из отдаленных районов, приезжают к нам в больницу со своими жалкими узелками! Сколько бы раз ни случалось пережить это, все равно невозможно спокойно смотреть на это великое страдание. Проникаешься невыразимым сочувствием к этим несчастным. А сколько раз это сочувствие оказывается совершенно бесплодным, ибо с первого же взгляда становится ясно, что прибывшему суждено умереть здесь, вдали от близких, которые ждут его возвращения и ждут денег, которые он должен с собой привезти.
Этих самых бедных и многочисленных наших гостей мы зовем «бенджаби», ибо большая часть их принадлежит к племени бенджаби.[66]66
... ибо большая часть их принадлежит к племени бенджаби.* – Бенджаби, или бензеби, – небольшая племенная группа, насчитывающая около 60 тыс. чел., населяет лесные районы на южной границе Габона, к западу от Франсвиля. Государственная граница разделяет бенджаби: большая часть их находится в пределах Габона, южные их группы – на территории Народной Республики Конго. Язык их – бинджаби – отличается от языка населения, живущего около Ламбарене. До сих пор нет ни одного научного описания ни языка, ни этнографии этого народа. Единственные сведения о нем см.: Guthrie M. The Bantu languages of Western Equatorial. Africa. Oxford, 1951, p. 69 – 73.
[Закрыть]
Совершенная недисциплинированность этих людей в такой степени затрудняет нашу работу, что при виде их нами овладевают одновременно чувства сострадания и отчаяния, которые свиваются в наших сердцах в один запутанный клубок. Вот почему я с таким сожалением говорю, что больница моя уже перестала быть тем, чем была прежде.
В том, что касается распорядка и подчинения, мы требуем от наших больных только самого необходимого. Если больной сам приходит утром на перевязку, на вливание или для того чтобы принять прописанное ему лекарство; если он не убегает от нас из-за того, что его очередь еще не настала; если, после того как протрубил созывающий на обед рожок, он является со своей тарелкой и опаздывает не больше чем на полчаса; если он выбрасывает мусор в надлежащее место; если он не ворует кур у миссионера; если он не мародерствует в плодовом саду миссионерского пункта и на банановой плантации; если во время субботней уборки он не поднимает слишком громкого крика; если, когда на него падает жребий и состояние его позволяет, он садится за весла; если, наконец, он соглашается помочь при разгрузке ящиков и мешков с рисом, когда его вдруг потревожат и оторвут от горшка с едой, – всякий, кто способен делать все это и, может быть, еще кое-что, в наших глазах становится доброжелательным разумным существом, которому мы охотно прощаем многое.
Однако как ни скромен этот идеал человека, туземцам бенджаби никак его не постичь. Будучи истыми дикарями, они находятся далеко по ту сторону добра и зла. Правила, которым подчиняется больничная жизнь, – для них только ничего не значащие слова. Они, правда, могут сослаться на то, что никто им этих правил не объявлял. Давно уже мы отказались от ежедневного оповещения больных о принятом в нашей больнице распорядке, том, о котором говорится в книге «Между водой и девственным лесом». Продолжать его при теперешних условиях оказалось невозможным из-за отсутствия понятного всем языка. Прежде мы могли обойтись с помощью языков галоа и пангве. Сейчас заполнившие наши бараки больные говорят по меньшей мере на десяти языках. Доминик, преемник покойного Гмба, живший некоторое время в отдаленных районах, может объясниться на ряде туземных наречий, однако далеко не на всех. Таким образом, остаются больные, которые понять нас вообще не могут.
Обстоятельство это трагически переживается нами, когда дело касается одного несчастного дикаря, прибывшего сюда с ущемленной грыжей. Приходится класть его на операционный стол, не будучи в состоянии объяснить ему, что мы с ним собираемся делать. Когда мы привязываем его к столу, на лице его изображается ужас. Весьма возможно, он думает, что попал к людоедам. Наркоз, который мы ему даем, избавляет его от страха. Когда он приходит в себя и уже не ощущает прежней ужасной боли, по выражению его лица можно догадаться, что он что-то понял. Оно озаряется улыбкой благодарности. К сожалению, спасти его все же не удается. Никогда, должно быть, берясь за скальпель, не испытал я такого волнения, как в этот день.
То обстоятельство, что мы только в очень малой степени можем докучать им своими разговорами, воодушевляет бенджаби на то, чтобы нисколько не считаться с порядками, установленными в нашей больнице. Они и не думают являться утром на перевязку. Приходится их приводить насильно. А если черед больного еще не настал и ему надлежит немного подождать, то стоит только на минуту отвернуться, как он исчезает, чтобы снова преспокойно усесться где-нибудь у огня. Когда вызывают больного для приема лекарств или на вливания, он слышит свое имя и, однако, не шевельнется. Его зовут второй раз, но он проявляет такое же безразличие. Является он только тогда, когда за ним приходят и ведут его под руку.
Однажды утром я обнаруживаю, что два бенджаби, живущие в самом углу барака, развели огонь под нарами, меньше чем на метр поднятыми над полом. Разводить небольшой огонь около своего места разрешено каждому. Без этого негру, здоровому или больному, никак не прожить. Целый день он себе что-нибудь стряпает. Ночами пламя помогает ему перенести сырость, а дым отгоняет москитов. Сами мы с трудом переносим этот чад. Больные же наши нисколько от него не страдают. Так у меня в бараках постоянно горит полсотни огней и огоньков. То, что больница до сих пор еще не сгорела, это чудо, которому я уже перестал удивляться. Но когда огонь начинают разводить под нарами, я впадаю в тревогу. Поэтому с помощью переводчика и пуская в ход жесты я запрещаю им это делать, тушу сам огонь и водворяю больных на свои места. Через два часа огонь под нарами зажжен снова. Повторяется та же сцена, только жесты мои становятся выразительнее, а голос – громче. Теперь они все отлично поняли. После полудня огонь под нарами горит снова. Я выхожу из себя, в голосе моем появляются патетические ноты. Но оба бенджаби спокойно смотрят через мое плечо куда-то вдаль, как будто слова мои – гимн, обращенный к солнцу. Ночью я по какому-то поводу захожу еще раз в больницу. Оба огня под нарами продолжают гореть...
Когда вы обращаетесь к кому-нибудь из бенджаби с просьбой, то не ждите, что он звуком или движением ответит, понял он вас или нет, соглашается он или отказывается ее исполнить. Он ведет себя, как кусок дерева.
Понятия собственности для этих людей но существует. Они воруют у других больных все, что только могут. У тяжелобольного, который не в силах подняться на ноги, они отнимают еду.
В довершение всего мне приходится жить в постоянном страхе, что эти дикари могут создать трудности в наших взаимоотношениях с миссией. На этих днях г-н Херман привел ко мне двоих бенджаби, которых он поймал: они лазали за пальмовыми орехами. Эти несчастные больны дизентерией и едва держатся на ногах. Во время нашей субботней уборки мы бы не решились дать им в руки метлу. Однако на пальму они все-таки забрались и сумели проделать нелегкую работу: обрезав, секачом ветви, извлекли плотно зажатый ими орех. Такие и подобные им конфликты г-н Херман разрешает с поистине соломоновой мудростью и христианской добротой. К тому же, вообще-то говоря, беды в атом никакой нет. Миссионерам не приходится сажать пальмы: они растут здесь на свободе, как сорняки. На плантации немало орехов гниет на дереве, их просто некому собирать.
Да, но что же будет, если во главе миссии окажется человек, который воспримет подобное происшествие как трагедию, вместо того чтобы, как г-н Херман, обратить это все в милую шутку?
К недисциплинированности наших диких пациентов присоединяется еще и полное непонимание ими ценности тех или иных вещей. Благодаря близости леса добывать дрова, для того чтобы развести огонь, для них действительно не составляет никакого труда. Но им, видите ли, удобнее брать для этой цели брусья и доски, которые я достаю ценой больших усилий и больших затрат. Так как у меня Нет помещения, где бы я мог все это запереть, то я просто не знаю, как сохранить эти дорогостоящие строительные материалы от разграбления. И вот я рассовываю свои доски то туда, то сюда. Однажды вечером с моего каноэ срывают защищающий от солнца навес, который мы с таким трудом соорудили из связанных вместе реек и тонких досок, и теперь вот лодка вышла из строя, приходится все начинать сначала. На следующее утро я нахожу обугленные куски моего навеса в кострах у негров. Полдня уходит на то, чтобы снова вырезать и подогнать доски.
Эти напрасные, день ото дня возобновляющиеся усилия заставить моих пациентов понять, что те или иные вещи имеют ценность, – испытание для моего терпения и нервов столь тягостное, что хуже невозможно и вообразить.
Один из бенджаби повергает нового доктора в отчаяние. Это первый такой случай за время его пребывания в Африке. Больным с язвами стопы вменяется в обязанность выстирать в течение дня в реке бинты, которые им утром при перевязке меняют, и принести их на следующее утро, для того чтобы их можно было прокипятить. Делается это потому, что ни за какое жалованье здесь не найти человека, который взялся бы их стирать. И вот один из вновь поступивших к нам бенджаби приходит на перевязку и не приносит вымытого бинта. Он его просто выкинул. Новый доктор обстоятельно ему все разъясняет, ставит ему в пример других и взывает к самым благородным его чувствам, прося, чтобы тем бинтом, который сейчас у него в руках, он распорядился иначе. Однако и этот бинт бенджаби и не думает мыть, а преспокойно бросает в воду. Та же самая участь постигает и третий бинт. То, что каждый наш крепкий, подрубленный бинт стоит немалых денег и с ним нельзя поступать как заблагорассудится, человеку этому втолковать невозможно. Для него это просто кусок материи, который можно выбросить, тем более что у доктора много других таких же кусков и тот все равно даст ему новый. Только после того, как больного этого несколько раз лишают обеда, он начинает вести себя иначе.
Разумеется, лекарским помощникам надоедает каждый день сражаться с бенджаби из-за невымытых или выброшенных бинтов. Они сами находят, что гораздо проще доставать всякий раз новый бинт из имеющегося у нас запаса. Расточительность эта их нимало не огорчает. Мы же думаем о том, сколько труда положили наши друзья в Европе на то, чтобы раздобыть нужную материю, сшить из. нее бинты и их подрубить. Поэтому легкомысленное обращение с бинтами мы расцениваем как одно из тягчайших нарушений больничного режима и учреждаем соответственный надзор. Заботы эти отнимают у нас много часов, и многие дни, которые можно было провести с пользой и спокойно, вместо этого уходят на жестокие распри.
Не приходится сомневаться, что моим курам грозит та же участь, что и миссионерским. Иные из них уже закончили свое существование в кухонном горшке и украсили собою ночное пиршество.
Само собой разумеется, я описываю лишь худших из наших бенджаби. Но этих худших так много. Побыв у нас некоторое время и видя, как ведут себя другие, они в конце концов привыкают к порядку. Но постоянно прибывают новые, и тогда все приходится начинать сначала. Это изматывает наши нервы больше, чем сама работа. Мы сполна постигаем, что значит жить среди дикарей.
Но сколько бы раз мы ни вздыхали над нашими бенджаби, – слова «как хороша была бы Африка без дикарей» вошли у нас в поговорку, – мы уже начинаем чувствовать, какая между ними и нами образовалась тесная связь. Когда новый доктор – не в первый раз уже – поддается охватившему его порыву возмущения, я стараюсь его успокоить, я говорю ему, что он с тоской и с любовью будет вспоминать об этих людях в Европе. Иные из них действительно похожи на зверя в образе человека. Это не просто дикари: исторгнутые из родных деревень и испытавшие на себе самые разнообразные тлетворные влияния, они опустились еще ниже. Чувство благодарности им начисто незнакомо. Они считают, что вся наша работа в больнице вызвана желанием разбогатеть. И вернувшись на лесной участок, они говорят об этом своим товарищам, – так мне рассказывают те, кто сам это слышал.
Но зато есть и такие, кто нам искренне предан. Сколько у нас было больных, которые оставили по себе дурную память и относительно которых можно было думать, что и они, после того как их столько ругали, затаили к нам неприязнь. И что же, когда мы однажды оказываемся неподалеку от их лесного участка, они мигом прибегают к нам, и лица их светятся радостью! Сколько раз с проходящего мимо каноэ до нас доносятся приветствия сидящих на веслах бенджаби!
Нам, наверное, было бы легче ладить с нашими дикарями, если бы мы могли посидеть с ними иногда у огня и быть в их глазах не только медиками и ревнителями больничного порядка, но и просто людьми. Но на это у нас не хватает времени. Все трое – мы, врачи, и фрейлейн Коттман – страдаем сами, и как раз оттого, что чересчур поглощены работой, заглушающей в нас все человеческое. Но ничего не поделать. До поры до времени мы должны посвятить себя целиком выполнению одной задачи – борьбе с болезнями и смертью, отдать этой изнурительной работе все силы и не допустить, чтобы что-то нас отвлекло.
До какой степени мы переутомлены, можно судить по тому, что выдачу рационов мы по-прежнему часто поручаем нашему лекарскому помощнику Доминику, хоть и знаем, какие злоупотребления он допускает, распределяя между больными рис и соленую рыбу, если кто-нибудь из нас за ним не присматривает. В первую очередь мы обязаны сосредоточить все силы на лечении наших больных. Фрейлейн Коттман настолько занята ведением хозяйства и требующим немалых сил уходом за белыми больными, что не может помогать нам в больнице так, как бы нам этого хотелось.
* * *
Иногда мне случается иметь дело с туземцами, которые во время войны служили в армии в Европе. Мне особенно симпатичен среди них один пангве, хоть он и не может похвастать никакими героическими деяниями. Вернувшись с войны целым и невредимым, он нанялся поваром к одному из белых в трех часах езды отсюда выше по Огове. Когда он как-то раз забавлялся с принадлежащим хозяину охотничьим ружьем, по его собственной вине, равно как и по вине принимавшего в этом участие боя,– произошел выстрел, которым ему раздробило локтевой сустав правой руки. При свете фонаря я останавливаю кровотечение и извлекаю обломки костей. И вот на следующее утро являются его родственники – их больше двадцати человек – и хотят везти пострадавшего к коменданту округа, чтобы сразу же возбудить вопрос о возмещении причиненного ему ущерба. Они предполагают, что он умрет, и, как истые пангве, думают о деньгах, которые в этом случае могут им достаться.
Разумеется, я не даю им его увезти. То, что, занятый его лечением, я полночи не спал, ничуть их не беспокоит. Им и в голову не приходит меня поблагодарить. Насколько я могу понять, они считают, что отблагодарить и вознаградить меня должен хозяин повара, ибо виновник несчастного случая – находящийся у него в услужении бой, за которого его хозяин несет ответственность. Такое поведение кажется мне чересчур бесцеремонным даже для полудикарей, какими являются пангве. Я решительно его осуждаю, и вот, чтобы умилостивить меня, весь этот клан каждую субботу после полудня преподносит двенадцать больших связок бананов – очень щедрая дань! – «в подарок доктору» и не дает мне делать больному перевязку, пока я этой дани от них не приму. Несмотря на то что ранение тяжелое, заживает оно, против ожидания, хоть и медленно, но хорошо – и, как видно, оттого, что я обеззараживаю рану метилвиолетом. Больной может уже немного шевелить рукой. Родственники его много раз являются с теми же подношениями и пытаются склонить меня на свою сторону. По субботам после обеда раненый сидит на берегу и с тоскою смотрит на реку, ожидая, когда покажется каноэ. Родичи больного, расположившиеся в деревне выше по течению реки, продолжают выпытывать у него, все так же ли доктор тверд в своей решимости. Если посланцы возвращаются с известием, что, по всей видимости, перемен никаких нет, то снова посылаются бананы, хотя иногда это делается уже только в понедельник. По счастью, перелом хорошо срастается, и я имею возможность без вреда для больного прекратить перевязки еще до того, как пангве признают себя побежденными.
Расспрашивая этого человека по поводу золотых коронок у него на зубах, узнаю, что мой пациент, побывал в Европе и участвовал в войне. Сам он мне об этом ничего не рассказывал. Золотые коронки поставлены ему без всякой надобности. У солдат-негров было обыкновение ставить себе такие коронки, чтобы по возвращении домой поразить ими своих односельчан. Во всех остальных отношениях, в одежде и в обычаях своих воевавший в Европе африканец остался таким же негром, каким был, и только после всего пережитого сделался серьезнее. Можно подумать, что над ним тяготеет некая страшная тайна.
– В деревне люди хотят, чтобы я рассказывал им о войне, – говорит он, – а я не могу. Они все равно не поймут. Все было так ужасно, так ужасно.
В течение тех нескольких недель, когда раненый находится в больнице, я держу спустившего курок боя у себя, чтобы родственники больного не могли причинить ему никакого вреда, чтобы они не похитили его и потом не вымогали за него крупной суммы в возмещение понесенного ими урона. Бою велено прислуживать на кухне, и он помогает Матильде Коттман мыть посуду. Радуюсь, что мне удается наконец достичь соглашения между раненым и стрелявшим касательно уплаты за причиненный ущерб. Бой должен заплатить пострадавшему около ста шиллингов, по десять шиллингов в месяц, и дает ему в придачу еще козу. Обычай туземцев требует, чтобы тому, чья жизнь подвергалась опасности, в уплату непременно давалось что-то живое. Если бы человек этот лишился руки, бой обязан был бы купить ему жену.
Немало серьезных разговоров веду я с этим негром, потрясенным всем, что он пережил на войне. Г-жа Херман он тоже полюбился. Когда она приходит к нам в больницу, чтобы прочесть вечерние молитвы, он всегда является одним из первых.
В декабре нам привозят одного бенджаби с лесного участка на озере Азинго. Он и его спутники за три дня умудрились съесть большого слона, которого они неподалеку оттуда убили, и в горле у него застрял кусок твердого слоновьего мяса.
Американец, который находится здесь с начала октября и которому мы вскрываем один за другим глубоко лежащие абсцессы мышц, начинает заново учиться ходить. Я уже почти потерял надежду его спасти. Исхудал он невообразимо.
Среди находящихся у меня на излечении белых больных есть один человек, который совсем недавно прибыл сюда искать счастья. Лесоторговцы-негры, на которых он положился в деле разработки богатого лесного участка, воспользовались его неосведомленностью и выманили у него большую часть привезенных им с собой денег. С тем, что у него еще осталось, он собирается теперь вернуться домой, как только окончательно оправится после солнечного удара, который здесь очень быстро его настиг.
Уже несколько недель, как сам я из врача превратился в пациента. Еще во время моего первого пребывания здесь у меня были язвы стопы, которые потом хорошо зарубцевались; теперь же на строительстве мне несколько раз случалось ушибить ногу, и в результате новых травм язвы мои опять открылись и причиняют мне много неприятностей. Прихрамываю, но продолжаю ходить. Когда мне становится совсем плохо, меня укладывают в больницу. Но мне надо быть весь день внизу, иначе строительство не сдвинется с места. Хуже всего при таких язвах стопы это нервное возбуждение, вызванное затяжною жгучею болью.
12 декабря в домике для нового доктора и для белых больных готова наконец одна комната. До ночи работаю там вместе с моим плотником-негром, навешивая двери и ставни. Как я прав, что не слушаю советов нового доктора и Матильды Коттман, которые из-за моих больных ног хотят запретить мне работать на строительстве! Не далее как 13 декабря являются сразу шестеро больных европейцев, которых необходимо принять, и среди них женщина с ребенком; состояние последнего внушает серьезные опасения. Муж этой женщины тоже болен. Вскоре выясняется, что один из прибывших страдает сонной болезнью. Спустя несколько дней к нам поступает еще один европеец. И вот на рождестве у нас – американец все еще здесь – восемь пациентов-европейцев. Если бы не эта ко времени приготовленная комната, куда я поместил четверых больных, я бы решительно не знал, что с ними со всеми делать. Двоих г-н Херман и его жена устраивают у себя. Плотника-негра, который готов уже был оставить меня в беде, ибо не любит, чтобы его торопили, мне с помощью хорошего подарка удается уговорить остаться.
Сочельник мы проводим печально. Женщине, которая лежит у нас в доме, очень плохо. В то время как, расположившись возле украшенной пальмы, мы поем рождественские песни, фрейлейн Коттман сидит у нее на краю кровати и старается успокоить заливающуюся слезами больную. Внизу на склоне холма до глубокой ночи горит свет: американец празднует у себя в палате свое выздоровление. Он снова может ходить и начал уже помогать мне на строительстве.
В первый день рождества больную вместе с мужем и ребенком увозят от нас на пароход. Как она радуется свежему воздуху! Доедет ли она до Европы?








