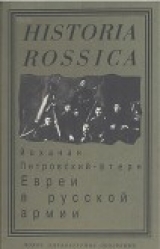
Текст книги "Евреи в русской армии: 1827—1914"
Автор книги: Йоханан Петровский-Штерн
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 47 страниц)
Деятельность Шомрей эмуна строилась по тем же принципам, что и любое другое общество еврейского самоуправления в черте оседлости. Жребием выбирали трех солдат, ответственных за назначение двух старост. Старосты назначали двух «хранителей» – один отвечал за хранение устава (shomer ha-pinkas), другой за общественную кассу или казну (shomer heshbon). Последний занимался еженедельным сбором средств (tsedakah) среди солдат полка и евреев местных общин. Члены общества платили пять копеек еженедельных пожертвований в кассу общества. Старосты следили за поведением членов Шомрей эмуна и отвечали за выполнение пунктов устава. Они же устраивали собрание членов общества – обсудить, что делать с нарушителями устава или как помочь нуждающимся солдатам. По уставу, старосты с одинаковым рвением пресекали попытки отклонения еврейских солдат от законов еврейской традиции (Торы) и от уложений воинской службы (названных в пинкасе «законами Царя»). На старосту также были возложены обязанности штадлана, отстаивающего интересы еврейских солдат перед начальством: «Если вдруг по жребию выпадет одному из членов общества стоять в карауле или же исполнять [запрещенную] работу в субботу или по праздникам, староста должен пойти к офицеру и умолять его отпустить избранного жребием солдата, чтобы тот смог отдохнуть в субботу или на праздник. Мы должны пользоваться любой представившейся нам возможностью, чтобы упрашивать офицера отпустить его»{290}. Хранитель казны всецело отвечал за общественные расходы. Занесенное в пинкас требование полной отчетности по расходам общества лишний раз свидетельствовало, что как в черте оседлости, так и в армии еврейские организации принимали необходимые меры против финансовых злоупотреблений.
Обратим внимание на три особенности Шомрей эмуна. Прежде всего, в отличие от многих других классических обществ еврейского самоуправления, Члены этого общества считали себя не частью от целого, но целым: полноправной еврейской общиной. Об этом говорит употребление в уставе термина кагалену и кагал (т. е. «наша община» или попросту «община»), вместо привычных хавурену или хавура («наше общество» или «общество»). Шомрей эмуна, таким образом, не представляло еврейскую общину, но заменяло ее{291}. Вторая особенность, логически продолжающая предыдущую, заключалась в том, что Шомрей эмуна вбирало в себя функции практически всех разнообразных еврейских обществ, действующих в Царстве Польском или черте оседлости (за небольшими исключениями){292}. Общество Шомрей эмуна отвечало и за пидион швуим (выкуп пленников и арестантов), и за бикур холим (посещение больных), и за гемилут хесед шел эмет (погребение умерших), и за гемилут хасадим (беспроцентные ссуды). Кроме того, Шомрей эмуна действовало еще как обыкновенное молельное общество, особенно после того, как его члены обзавелись собственным свитком Торы{293}. Иными словами, все те функции, которые были распределены между десятками различных добровольных обществ одного или нескольких местечек черты оседлости, были представлены вместе под одной крышей Шомрей эмуна. Наконец, общество отвечало за все 613 заповедей, а не только за некоторые из них, подобно обществам «Читающие псалмы» или «Ухаживающие за больными»{294}. В этом смысле Шомрей эмуна на полстолетия опередило возникновение обществ ортодоксального еврейства в самом конце XIX – начале XX в., названных впоследствии Mahzikei ha-Dat, «укрепляющих веру». Разумеется, самым удивительным в истории Шомрей эмуна была его жизнеспособность: несмотря на все военные катаклизмы, несмотря на жесткое ограничительное законодательство, на текучку, вызванную каждым новым набором, когда состав общества полностью сменялся, общество продолжало существовать и действовать. В этом смысле Шомрей эмуна обнаруживает два удивительных качества еврейских солдат: их общинный характер, их традиционалистское упорство, если не упрямство, и в то же время удивительную гибкость и умение адаптироваться к негостеприимной среде{295}.
Еврейское образование солдатских детей
Картина формирования в среде еврейских солдат традиционных общинных отношений будет не полной, если мы хоть кратко не остановимся на таком важном элементе еврейской жизни, как обучение детей. Из того немногого, что нам известно о формах образования, доступных солдатским детям, напрашивается вывод: и в до– и в послереформенную эпоху еврейский солдат, владеющий русской речью и грамотой, предпочитал для своих детей самое что ни на есть традиционное еврейское образование. Некий культурный архаизм был свойственен образованию еврейских солдатских детей и тогда, когда Хаскала, Великие реформы и ожидание равноправия решительно изменили отношение русских евреев к интеграции. Новые «прогрессивные» формы еврейского просвещения были не по карману еврейскому солдату: он попросту был не в состоянии оплачивать услуги «просвещенных» учителей-маскилим нового поколения. Его выбор был ограничен доступными для него учебными заведениями – более традиционными и более дешевыми. Кроме того, солдаты, попавшие в армию по николаевским наборам и прослужившие около двадцати лет, сохранили традиционное понимание еврейских ценностей, восходящее к эпохе до 1830-х годов. Реформы, вторгшиеся в еврейскую жизнь в 1860-е годы и связанные прежде всего с новым типом школ и новой системой образования, казались николаевским солдатам чужими. Они, может, и соглашались открыть для своих детей талмуд-тору (не хедер), т. е. особую школу, считавшуюся оплотом русификации, но даже в подобных школах, насколько это было в их силах, они пытались составить такую программу, которая отвечала бы в большей степени традиционному типу обучения, чем маскильскому{296}.
Так, например, случилось с талмуд-торой в Симферополе, где николаевские солдаты предпочли скорее отделиться от местной еврейской общины и создать свое собственное учебное заведение, чем принести в жертву старинные традиции и обычаи. В городе уже существовала одна талмуд-тора для еврейских детей, когда в 1868 г. еврейские солдаты, бывшие участники обороны Севастополя, решили открыть еще одну талмуд-тору – специально для детей-сирот, чьи отцы погибли в Крымскую войну. Поскольку первая талмуд-тора, открытая с разрешения Николая Ивановича Пирогова (1810–1881), выдающегося реформатора и большого поклонника новых форм еврейского просвещения, была насквозь маскильской, солдаты отказались посылать туда своих детей{297}. Они также отказались принять пожертвования от тех, кто хотел бы видеть новую школу более-менее «прогрессивным» заведением{298}. Их попытки собрать деньги на новую школу и создать альтернативу уже существующей вызвали внутриобщинные конфликты и вражду. Знаменательно, что казенный раввин Тырмос, избранный директором новой талмуд-торы, поддержал солдат в их попытке обустроить учебное заведение, которое самим своим духом противоречило его, Тырмоса, маскильским взглядам и воспитанию. Вместо того чтобы собирать деньги в Симферополе, было решено отправить представителей по всей черте оседлости и опубликовать статьи в русско-еврейской прессе – чтобы привлечь внимание публики и потенциальных доноров. За шесть месяцев на нужды солдатской талмуд-торы было собрано 466 руб., из которых 167 прислали частные доноры, а 176 поступило из возврата налога на кошерное мясо (коробочный сбор){299}.
Симферопольская солдатская талмуд-тора оказалась в числе немногих специальных школ для солдатских детей внутри черты оседлости. Тырмос печатал в «Рассвете» заметки о состоянии школы. В 1879 г., через десять лет после открытия, в школе, по его словам, было 80 учеников, а ежегодный бюджет составлял 2022 руб.{300} Поскольку школой управлял казенный раввин, получивший, среди прочего, неплохое светское образование в одном из реформаторского толка раввинских училищ, он, видимо, полагал, что следует новым требованиям еврейского воспитания. В 1881 г. Бен-Ами, известный русско-еврейский писатель и журналист, дал совершенно иную оценку школе Тырмоса. Оказалось, что учебная программа в обычной талмуд-торе, насчитывающей 53 ученика, включала русский язык и письмо, арифметику и грамматику древнееврейского языка. Одним словом, требования талмуд-торы целиком соответствовали программе еврейского просвещения. Что касается солдатской талмуд-торы, где училось 70 мальчиков, общие предметы, по словам Бен-Ами, почти не преподавались, а в целом образование было поставлено «первобытным хедерным образом»{301}.
В столице солдаты-евреи относились к прогрессивным формам еврейского образования совсем иначе, однако в этом случае безразличие военного начальства вынудило их остаться при традиционных формах образования. Показателен в этом смысле опыт Санкт-Петербургского училища для солдатских детей, организаторы которого обратились в Военное министерство за материальной поддержкой. Училище для детей еврейских солдат, проходящих службу или постоянно живущих в Санкт-Петербурге, было основано в 1865 г. Моисеем Берманом. В нем насчитывалось 193 учащихся: 74 из солдатских и 119 из богатых купеческих семей, семей николаевских солдат, а также тех, кто имел особые льготы по образованию. Последние платили от 10 до 80 руб. в год, в то время как первые в большинстве своем не платили за обучение вовсе, а девять из них платили от 1 до 40 руб. ежегодно{302}. Программа школы отражала основные направления маскильских еврейских школ Европы и соответствовала трем первым классам русских гимназий. Все предметы, в том числе и Библия, преподавались по-русски. Берман, директор училища, не скрывал своих ассимиляционистских симпатий. Он считал, что училище убедительно демонстрирует необходимость постепенного сближения между евреями и русскими ради «общей пользы». Такое сближение, по Берману, возможно было только на основе общего образования и использования русского языка{303}.
Бермана охотно поддержал великий князь Николай Николаевич, командующий Петербургским военным округом, полагавший – возможно, не без подсказки самого Бермана, – что такое училище сможет стать эффективным оружием в борьбе с предрассудками и обскурантизмом традиционного еврейского общества. Обращаясь к военному министру, Николай Николаевич присоединился к борьбе реформаторов-маскилим против традиционных еврейских учителей (меламедов) и форм еврейского образования (хедеров и ешиботов). По его словам, училище представляло собой
…крайне желательное средство к уничтожению в еврейском населении невежественной замкнутости, внушаемой им фанатиками-учителями. Сверх того, означенное училище в районе вверенного мне округа – единственное заведение, поступая в которое солдатские дети еврейского закона, лишенные почти всяких средств, избегают вредного влияния упомянутых учителей и могут получить такое первоначальное воспитание, где с малолетства приучаются правильно смотреть на свои обязанности в отношении к Престолу и отечеству{304}.
В 1867 г. Берман дважды обращался к военному министру Дмитрию Александровичу Милютину с просьбой выделить для поддержки училища ежегодную сумму в 4600 руб. Командующий округом решительно стал на сторону Бермана, о чем свидетельствуют его неоднократные ходатайства, посланные военному министру. Однако ни граф Ф.Л. Гейден 2-й, глава Главного штаба, ни Милютин не поддержали Николая Николаевича, и в конце концов Милютин отказал Берману в поддержке. По Милютину, в бюджете министерства не оказалось соответствующей статьи, на которую можно было бы списать подобные расходы. Реальной причиной отказа, разумеется, было общее пренебрежение военной бюрократии вопросами еврейской эмансипации. Милютин писал: «Едва ли полезно поощрять [обучение евреев] в отдельных еврейских училищах. Пусть идут в общие училища для русских и других народностей»{305}. Перефразируя Эли Ледерхендлера, Милютин требовал от русских евреев безоговорочной ассимиляции, не предоставляя им ни малейшего шанса на равноправие{306}. Но его нельзя упрекнуть в непоследовательности: в отличие от министра народного просвещения он полагал, что образование евреев должно так же настойчиво проводить политику безоговорочной (быть может, и насильственной) ассимиляции евреев, как это делает армия. В любом случае его действия способствовали тому, что разрыв между традиционными ценностями военнослужащего из евреев и той средой, в которую он поневоле активно интегрировался, становился все более ощутим.
Выводы
Анонимный автор статьи в популярной газете Га-Мелиц, утверждавший, что в казарме еврей не может ни соблюдать субботу, ни достать кошерной еды, был одновременно прав и неправ. Еврейский солдат чаще всего не мог следовать ни жестким требованиям раввинистических авторитетов, ни даже тем минимальным требованиям, которые он предъявлял к самому себе. Он, бесспорно, был вынужден подчиняться армейскому расписанию и нарушать чуть ли не каждую букву еврейского закона. Но он остался при особом духе закона – традиционных символах, ощущении национально-этнической принадлежности, солдатских молельнях, добровольных обществах, приглашениях в общину на праздники. Переход в православие был открыт лишь для тех солдат, кто готов был отрезать пуповину, связующую его с еврейством, ради того, чтобы сделать карьеру в армии.
Россия не предложила никакой либеральной альтернативы своему еврейскому населению, в рамках которой стремительно русифицирующиеся евреи могли бы сохранить свой национальный статус{307}. Поставленный перед дилеммой – аккультурация либо сохранение традиционных форм поведения и мышления, – еврейский солдат стремительными темпами утрачивал живую связь с традицией и превращался в русского солдата еврейского закона. С другой стороны, русификация не означала его немедленного разрыва с традицией. Приверженность ей – в сочетании с новыми формами поведения – порождала подчас гротескные формы. Скажем, как это случилось с Залманом Пинхасовичем Шапиро, меламедом солдатской синагоги размещенного в Санкт-Петербурге лейб-гвардии Семеновского полка. Когда он скончался, его русская православная жена пришла к полковому начальству за телом, а вслед за ней с той же просьбой пришла прежняя жена Шапиро, иудейка. Первой, правда, удалось убедительно доказать начальству, что Шапиро был крещен за семь лет до смерти и что по бумагам он – Василий Степанович Шапиро{308}. Невероятный факт – крещеный еврей до последнего дня жизни учил еврейских солдат Торе – может быть понят только как попытка совместить те крайности восприятия и отталкивания иудейской традиции, с которыми ежедневно сталкивался еврей в армии.
Для еврейского солдата, по слову Хаима Соловейчика, иудейская традиция превратилась из ежедневного праксиса в символический ритуал{309}. Парадоксальное сочетание агрессивно нетрадиционного поведения еврейских солдат с их приверженностью традиционным ценностям расшатывало их национальное самоощущение. Но вплоть до начала XX в. традиционность и законопослушание – как в русском, так и в иудейском смысле – оставались главными ценностными характеристиками еврейских солдат.
Глава III. МАЛЕНЬКИЕ СОЛДАТИКИ ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ: СУДЬБА ЕВРЕЙСКИХ КАНТОНИСТОВ
«Знаете, много было кантонистов, они с волной беженцев прибыли из Сибири. Люди бывалые, грубые, с зычными голосами. Помню, на Симхас-Тойре – это когда Тойру (пергаментный свиток Пятикнижия Моисея. – Й. П.-Ш.) должны были обносить вокруг “бима” (центральная часть синагоги. – Й. П.-Ш.) – поручили нести свиток одному старому кантонисту – большая честь, между прочим. И кто-то спрашивает его, не тяжело, мол, будет? Так он обиделся, кричит: “Я на своей спине пушки таскал! Что я – это говно не подниму?”»{310} Реплика постаревшего кантониста русской армии из евреев, переданная мемуаристом, переворачивает традиционное представление о кантонистах, утвердившееся в культурной памяти, и заставляет по-новому взглянуть на удивительный опыт интеграции еврейских детей в русскую армейскую среду.
Еврейские дети попали в батальоны военных кантонистов по первому николаевскому рекрутскому набору 1827 г.{311} К этому времени институт военного воспитания малолетних насчитывал около ста лет{312}. Еще в 1721 г. Петр I приказал организовать при полках гарнизонные школы для солдатских отпрысков, по пятидесяти в каждой школе. В 1758 г. императрица Елисавета Петровна подписала указ о закрепощении солдатских детей, согласно которому все дети нижних чинов причислялись к военному ведомству и распределялись в гарнизонные школы. При Павле школы были переименованы в военно-сиротские отделения, а при Александре I детей впервые назвали кантонистами, от немецкого Kanton – призывной округ. В 1824 г. военно-сиротские отделения были вновь переподчинены Департаменту военных поселений. При Николае I отделения были переименованы в роты (250 чел.), полубатальоны (две роты по 250 чел.) и батальоны (1000 чел.), объединенные в пять учебных бригад{313}. Между 1827 и 1855 гг. существовало 13 батальонов, 9 полубатальонов, 3 отдельные роты, а также различные кантонистские отделения и школы при карабинерных полках и в резервной кавалерии. Основные кантонистские заведения находились в Архангельске, Верхнеуральске, Витебске, Воронеже, Иркутске, Казани, Киеве, Красноярске, Омске, Оренбурге, Перми, Петербурге, Пскове, Ревеле, Саратове, Симбирске, Смоленске, Тобольске, Томске и Троицке. В 1840-е годы в кантонистских батальонах числилось около четверти миллиона воспитанников – детей от восьми до восемнадцати лет. При Николае I в батальоны военных кантонистов зачисляли всех солдатских детей (в большинстве своем, как показывает сплошной просмотр батальонных списков, – незаконнорожденных, прижитых солдатскими женами вне брака), затем – малолеток, отнятых от бродяг, а также офицерских детей и детей из обедневших дворянских семей (взятых по желанию родителей), беспризорных и бездомных сирот Царства Польского, а с 1827 г. – еврейских детей-рекрутов{314}.
В отличие от многих нееврейских воспитанников кантонистских заведений, еврейские дети были взяты в крепостные военного ведомства из семейной среды и из мещанского сословия. В батальонах кантонистов они оказались на ступень ниже того сословия, к которому принадлежали. В отличие от детей военных поселян еврейские дети совершенно не были готовы к такому опыту. Об этом повествует обширная литература, как мемуарная, так и историографическая, приводящая множество примеров бесчеловечного обращения с кантонистами из евреев со стороны их непосредственного военного начальства{315}. Эта литература рассматривала еврейского кантониста изолированно, вне его специфического социального и военного контекста. Иными словами, кантонист оказывался один на один со всей русской государственной машиной, озабоченной будто бы только тем, как бы загнать его в православие{316}.
Действительно, представление о еврейском солдате как жертве режима восходит прежде всего к образу еврейского солдатика-кантониста, чью судьбу оплакивало не одно поколение русско-еврейских историков{317}. С нашей точки зрения, такое представление содержит в себе некую долю истины. Достаточно упомянуть, например, то обстоятельство, что всех малолетних кантонистов было разрешено оставлять у родственников и при родителях – кроме еврейских детей. Последних по статусу приравняли к сиротам и распорядились не отпускать домой, «каких бы лет они ни были»{318}. Тем не менее «сиротский» статус никак не объясняет особенностей военной карьеры, службы, быта и самоощущения еврейских кантонистов. Что же такое кантонист из евреев, десяти-двенадцатилетний мальчик, оторванный от чадолюбивых родителей и отправленный за сотни километров от дома в казарму, в совершенно незнакомый быт, в иноязычную среду, печально известную своей многовековой ксенофобией? Кем он стал за годы пребывания в батальонах? Как он отреагировал на навязанное ему крещение и что в действительности он обрел? Чем он отличался от своих сотоварищей по службе и чем походил на них?
Чтобы ответить на эти вопросы, рассмотрим три аспекта, по большей части обойденные вниманием отечественных и западных исследователей. Во-первых, анализируя отчеты о состоянии батальонов военных кантонистов, мы ответим на вопрос, действительно ли рекрутчина была введена для того, чтобы насильно интегрировать русских евреев в доминирующую православную культуру. Для этого мы проследим, каким образом формировалась миссионерская концепция Николая I в отношении еврейских рекрутов и как на нее реагировали еврейские дети-кантонисты. Во-вторых, мы остановимся на некоторых аспектах статистики и быта кантонистов-евреев и попытаемся определить особенности еврейской этнической группы в кантонистской среде с момента попадания в рекрутское присутствие и до распределения на службу в армию. Особое внимание мы уделим медицинскому состоянию батальонов, преступности в кантонистской среде и профессиональным качествам еврейских кантонистов. Мы не будем подробно останавливаться на учебном процессе кантонистских заведений: он был общим для всех кантонистов, независимо от их происхождения, а кроме того, он достаточно полно освещен историками русской армии{319}. В-третьих, мы расскажем о закрытых расследованиях второй половины 1850-х годов, которые дают ретроспективную картину кантонистского быта и подводят неожиданный итог государственному миссионерству эпохи Николая I.








