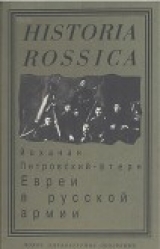
Текст книги "Евреи в русской армии: 1827—1914"
Автор книги: Йоханан Петровский-Штерн
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 47 страниц)
Выводы
Прошло почти полвека яростных и продолжительных атак на Военное министерство, прежде чем русским консерваторам удалось решительно утвердить на повестке дня вопрос об отмене прав и привилегий военнослужащих-евреев. Если принять во внимание все антиеврейские распоряжения, официально либо подзаконно принятые в армии с 1874 г. по 1912 г., можно смело утверждать, что усилия ультраправых увенчались успехом. Их попытки натравить армию на еврейское население также оказались продуктивными{1048}. Тем не менее их цель – изгнать евреев из армии – не была реализована ни в малейшей степени. Это обстоятельство представляется противоречащим элементарной логике: ведь мы уже убедились, каким мощным влиянием пользовались государственные и высшие военные чиновники, поддерживавшие идею об изгнании евреев из армии в самом Военном министерстве и за его пределами. Что же их в конце концов остановило?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо решительно переосмыслить позицию Военного министерства и оценку его «еврейской политики». На фоне событий идеологической жизни России последних двадцати пяти лет существования империи позиция Военного министерства выглядит умеренно-консервативной, в каких-то случаях откровенно центристской, а вовсе не ультраправой – особенно на фоне того факта, что Военное министерство даже не потрудилось отразить результаты анкеты 1912 г. в новом воинском уставе и не снизошло к оголтелым призывам Маркова 2-го, Пуришкевича, Замысловского и Ко изгнать евреев из армии. В то же время гораздо труднее определить, по каким причинам Военное министерство придерживалось своеобразной «золотой середины». Пожалуй, военный историк заметит по этому поводу, что после 1907 г. Военное министерство попыталось решительно самоустраниться от противостояния между властью и обществом, заняв прагматическую, профессионально ориентированную позицию. В этом смысле прагматической была и его «еврейская политика». Специалист по политической истории заметил бы, что в целом отношение российского правительства к национальным меньшинствам и «инородцам» было чем-то промежуточным между умеренно и радикально консервативным. Социальный историк предположил бы, что позиция Военного министерства отражает характерную для последних лет империи атмосферу бессилия, нерешительности и страха перед принятием ответственных решений.
Очевидно, что все это – лишь частичные ответы. Непоследовательность и противоречивость «еврейской политики» Военного министерства объясняется в первую очередь его желанием выйти за пределы идеологического противостояния в обществе и уклониться от принятия жестких мер (как, например, прекращение приема евреев в армию), способных привести к нежелательным политическим последствиям. С другой стороны, «еврейская политика» Военного министерства далеко не всегда совпадала с радикальным антисемитизмом ультраправых, хотя порой разница между ними сходила на нет. И все же вряд ли можно назвать армию антисемитским учреждением, базируясь лишь на том факте, что высшие военные иерархи пресекали попытки филосемитских акций в среде офицерства. Важно понять, что в самой армии отношение к евреям не было однородным. Чем ближе к Военному министерству, тем антиеврейские настроения были сильнее, и наоборот, как мы убедились, здравое прагматическое мышление сохранялось прежде всего на уровне полковых командиров. Что же касается самого Военного министерства, в огромной многонациональной империи оно охотно подписывалось под антисемитскими лозунгами, но при этом не собиралось воплощать их на практике. Несмотря на негативное отношение в армии к полякам, финнам и евреям, Военное министерство вынуждено было проводить сбалансированную политику в отношении этих групп, хотя бы для того, чтобы сохранить в действии систему призывной разверстки, набора в армию и, разумеется, безопасности западных границ{1049}. В конце концов вопросы государственной обороны в большей степени повлияли на политику Военного министерства, чем государственная идеология. Именно это сложное, чреватое внутренним конфликтом отношение к евреям и позволило еврейским солдатам оставаться в армии на протяжении Первой мировой войны.
Глава VII. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ: ОБРАЗ ЕВРЕЙСКОГО СОЛДАТА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Картина службы евреев в русской армии, представленная в предыдущих главах, будет неполной, если мы оставим вне поля зрения немаловажный вопрос: почему в культурном сознании легенда о несовместимости евреев и русской армии оказалась такой устойчивой? Неужели вся ответственность лежит на черносотенной публицистике и второсортных образцах охранительной литературы, вроде Крестовского? Обратимся к текстам, появившимся во второй половине XIX – первой четверти XX в., центральной фигурой которых был еврей-солдат. Забегая вперед, заметим, что в подавляющем большинстве авторы этих текстов, при всем их напряженном внимании к военным сюжетам, ставили перед собой совершенно иную задачу, порой ничего общего не имеющую с интересующей нас темой. Как это ни парадоксально, но у русско-еврейских, да и у русских писателей еврей в русской армии – это метафора, в наименьшей степени соотносимая с реальным еврейским «нижним чином». Поразительно, что именно этого обстоятельства не заметили профессиональные историки.
В самом деле, произведения о еврейском солдате занимают выдающееся место в творчестве русско-еврейских писателей. Представить себе русско-еврейскую литературу без рассказов Осипа Рабиновича или Григория Богрова о еврее и армии немыслимо. Есть некая закономерность в том, что в начале и в конце «классического периода» русско-еврейской литературы рубежа XIX–XX столетий стоят «Штрафной» Рабиновича и «Конармия» Бабеля. С другой стороны, у тех русских писателей, кто обращался к еврейской теме, военные сюжеты также оказывались на первом месте. Невозможно представить себе образ иудея в русской литературе без матроса Исайки, скрипача Сашки, отслужившего на русско-японском фронте, или военврача Гурвейса. Именно поэтому беллетристика, повествующая о судьбе еврейского солдата в русской армии, оказалась среди источников, на которые по сей день опирается историография как на материал несомненного правдоподобия{1050}.
Мы также должны учитывать, что патриархи еврейской историографии – Семен Дубнов, Юлий Гессен, Саул Гинзбург – были жадными читателями русско-еврейской литературы{1051}. Художественные образы еврейского солдата стали неотъемлемой частью общественного сознания, в рамках которого сформировалось историческое мышление Дубнова и Гессена{1052}. Тем более важно указать на компонент литературности, точнее – легендарности, присущий этому историческому мышлению.
Разумеется, и русский и еврейский читатель, обращаясь к рассказам таких писателей, как Никитин или Бен-Ами, понимал, что имеет дело с особой литературно-художественной трактовкой темы «Еврей и армия». Однако чем популярнее и ярче было то или иное произведение, тем реже возникал у читателя вопрос о том, насколько изображенная в нем художественная реальность соответствует реальной действительности. Между тем для историка этот вопрос важнейший. Поэтому в настоящей главе мы попытаемся понять, что же представляет собой образ еврея-солдата в русско-еврейском литературном дискурсе и почему столь важной оказалась военная тема для русско-еврейских писателей. Мы ответим на вопрос, каким образом в еврейском национальном мышлении под влиянием беллетристики сложилась некая устойчивая легенда, своего рода расхожий штамп еврейского солдата, и можно ли опираться на русско-еврейскую мемуаристику и художественную литературу как на исторический источник, дающий адекватное представление о еврейском солдате в русской армии.
В основе нашего подхода лежит одно немаловажное допущение. Мы рассматриваем представителей русской и русско-еврейской литературы как объединенных принципом языкового (русский язык) и тематического (еврей в армии) единства{1053}. Это допущение продиктовано сложной и до сих пор не решенной проблемой интеракции между русской и русско-еврейской литературой{1054}. Вводя такое допущение, мы снимаем с себя необходимость решать в каждом конкретном случае, представителем какой литературы выступает тот или иной автор. Наконец, некоторым юдофобским произведениям на ту же тему мы посвятили вступительную часть предыдущей главы.
Философ – просветитель в солдатской шинели
Первым в ряду рассматриваемых произведений стоят два классических произведения выдающегося русского еврейского публициста Осипа Рабиновича (1818–1869){1055}. Читатели и литературные критики восприняли его рассказы «Штрафной» и «Наследственный подсвечник» (с них, по сути, начинается история большой русско-еврейской литературы) как доподлинно верное описание кошмаров николаевской рекрутчины. По словам мемуариста, в еврейских домах рассказ «Штрафной» воспринимался как повествование о реальном герое в реальных обстоятельствах. Его читали вместо пасхальной аггады, отмечали упомянутый в тексте день рождения штрафного солдата и, словно газетную передовицу, устно переводили рассказ на идиш для не знающих по-русски{1056}. Читатели-современники не заметили, что Осип Рабинович вовсе не интересовался армией, он ставил перед собой совершенно иную цель – а именно воплотить в художественных образах основные пункты своей идеологической программы.
Штрафной солдат нигде не проговаривается о программе Хаскалы (идеологии еврейского просвещения и ассимиляции), но все, что он рассказывает о своих современниках – евреях черты оседлости, оценивается с ее позиций. Важнейшие темы, которые просветитель-маскил Осип Рабинович разрабатывает в своей публицистике, в «Штрафном» излагаются от имени еврейского солдата{1057}. Штрафной солдат выступает язвительным критиком хасидизма, несущего еврейским массам преклонение перед всевластными цадиками, невежество и самые мрачные предрассудки (40–43). Во-вторых, в самых резких выражениях штрафной высмеивает отсталую систему традиционного еврейского образования, с ее «полудиким» хедером, «чуждым всякому здравому смыслу» меламедом и тщедушными детьми (46–47). В-третьих, штрафной говорит о сопротивлении еврейской массы новым просветительским идеям. «Партия просвещенных», о которой рассказывает штрафной, пыталась было ввести начатки нового образования, но уступила всемогущей «партии хасидической», пользующейся всевозможными запрещенными приемами{1058}. В-четвертых, штрафной солдат рисует общую картину еврейского бесправия, причем тема рекрутских недоимок, их накопления, неспособности еврейских обществ эти недоимки покрыть, оказывается не более чем одной из деталей этой картины. Другие, не менее важные ее детали – удаление евреев из сел и деревень, ограничение в некоторых промыслах, ущемление прав на жительство (24). Рекрутчина – только одно из проявлений неравенства евреев перед законом. Именно это неравенство провоцирует укрывательство и другие злоупотребления еврейских обществ. Действительно, рассуждает штрафной, что требовать от еврея любви к армии, если он лишен всех привилегий по службе? Штрафной солдат, таким образом, – это рупор просветительской критики, обращенной против традиционного еврейского уклада и ограничительных государственных законов{1059}. Разумеется, положительной стороной этой критики должна была стать программа постепенного «слияния» еврейской и русской культур.
Эта программа широко развернута в другом важном произведении Рабиновича – «Наследственный подсвечник»; в «Штрафном» лишь намечены ее общие черты. Разумеется, в основе критики штрафным солдатом традиционного и замкнутого еврейского общества лежит идея культурной ассимиляции, восходящая в конечном счете к сочинениям немецкого философа-просветителя Моше Мендельсона (1729–1786), основоположника еврейского Просвещения{1060}. Ради этой идеи и написан первый рассказ Осипа Рабиновича. Можно без натяжки утверждать, что все темы бесед рассказчика и штрафного солдата Рабинович в той или иной форме развил в своей публицистике – статьях и очерках, опубликованных в «Рассвете». Но зачем Рабиновичу солдат? Почему он выбирает не просвещенного купца 1-й гильдии, не русско-еврейского журналиста или врача, а именно солдата?
Как раз в этом и состояла своеобразная «хитрость» автора. Он вложил весьма полемичную маскильскую критику и позитивистскую программу в уста героя, который уже самим своим положением вызывает сочувствие. Одно дело, когда такого рода программа преподносится от имени еврея, обласканного фортуной: какого-нибудь преподавателя Житомирского раввинского училища, просвещенного купца или «ученого еврея», состоящего при губернаторе{1061}. И совсем другое дело – когда эта программа вложена в уста пожилого человека, бывшего кагального, потерявшего все: положение, семью, достаток, репутацию, наконец свободу – и на склоне лет отданного за общинные недоимки в солдаты. Рассказчик (alter ego Рабиновича) полагает, что точно так же, как он сам с наивным любопытством просветительского «естественного человека» слушает своего собеседника – штрафного солдата – и верит каждому его слову, так же воспримет его героя и читательская аудитория.
Действительно, штрафной, как и любой другой пятидесятилетний солдат, не может не вызывать чувства сострадания. Особенно если учесть, что он – дважды жертва: как продукт коллективной вины еврейской общины и как жертва николаевского произвола. Не случайно штрафной рассказывает о себе, что «катальный – разбойник или мученик» (23). Из истории его судьбы мы знаем, что он тяготился навязанной ему ролью кагального, ответственного за выполнение рекрутской раскладки, пытался избавиться от этой роли и в конце концов поплатился: за рекрутские недоимки ему самому обрили лоб. Осип Рабинович совершенно справедливо полагал, что жалость читателя к его герою будет априорной, бесспорной и глубокой. Трудно сказать, что раньше пришло в голову автору рассказа: сделать штрафного солдата выразителем идей Хаскалы – или подобрать главного героя таким образом, чтобы маскильская программа в его устах не вызывала сомнений. В любом случае с некоторыми оговорками можно признать, что в рассказе Осипа Рабиновича профессия главного героя выполняет чисто формальную функцию. Старый несчастный солдат нужен только для того, чтобы преподнести читателю маскильскую критику, к которой, учитывая особое положение ее выразителя, нельзя не прислушаться.
Рабинович настолько сосредоточен на рассказах штрафного солдата, что военной обстановке вокруг него уделяет ничтожно мало внимания. Происходящее со штрафным солдатом в армии можно восстановить разве что по мелким деталям, случайным репликам и догадкам рассказчика. То немногое, что мы знаем о штрафном, дает скупую картину его армейской жизни. Попав в армию в возрасте около пятидесяти лет, он был принят в инвалидную команду. Ему с трудом удалось сохранить при себе несколько польских и немецких книг по еврейскому Просвещению, которые однажды привели в неистовство начальника команды, усмотревшего в них крамолу. Судя по случайным обмолвкам рассказчика, военное начальство в городе Z. отнеслось к штрафному не без сочувствия. Во всяком случае, штрафной пользовался «некоторым родом свободы». Ему позволено жить на частной квартире. Судя по бархатной шапочке (ермолке), которую мгновенно заметил наблюдательный рассказчик еще до личного знакомства с главным героем, штрафной сохранил верность еврейской традиции. Работал он при казенном провиантском магазине, причем, судя по тому, что рассказчик ежедневно обнаруживал его сидящим у открытого окна за книгой, работой по военному ведомству его не перегружали (7). Рабинович, между прочим, упоминает, что штрафной общается с другими еврейскими солдатами. В финале «Штрафного» рассказчик застает умирающего главного героя в окружении ухаживающих за ним еврейских солдат – пойманников, которые и составили молельный кворум на похоронах штрафного (73–74). К слову, и здесь Рабинович верен своему замыслу: о ловле пойманников мы знаем несравненно больше, чем об их военной службе. По сути дела, этой информацией исчерпывается наше представление о пребывании штрафного в армии. Мы даже не можем более-менее точно определить, где именно происходит действие рассказа. Тем не менее очевидно, что для тех целей, которые преследует Осип Рабинович, местопребывание штрафного и в целом армейский контекст его судьбы играют совершенно второстепенную роль. Гораздо важнее круг идей, носителем и, скорее, защитником которых оказывается штрафной и которые сближают штрафного и самого автора.
«Наследственный подсвечник» (произведение неизмеримо более зрелое) – следующий шаг в развитии маскильской программы Осипа Рабиновича{1062}. Весь широкий спектр вопросов о еврейском бесправии, который затрагивался в «Штрафном», в «Наследственном подсвечнике» сведен к одному-единственному{1063}. Этим важнейшим, с точки зрения Рабиновича, вопросом, который является камнем преткновения любой программы культурного сближения еврейского общества с русским, является вопрос о самой черте оседлости, точнее – о запрете евреям жить за пределами черты. Теме жизни за чертой подчинена и структура повествования, и образная система, и сюжет, и конфликт, и основные мотивы, и темы разговоров, и символика, и, наконец, особый художественный язык. Все художественные средства «Наследственного подсвечника» подчинены единственной задаче: доказать, что евреи гораздо быстрее преодолевают свою обособленность, ярче обнаруживают свою полезность, интенсивнее ассимилируются с большой русской культурой, когда находятся за пределами черты. Наоборот, унизительный запрет пребывания за чертой возвращает евреев в нищету, фанатизм и обособленность. Трудно было найти лучший пример для решения этой задачи, чем пример солдата-еврея. Действительно, он проходит службу за пределами черты, он защищает все отечество, но имеет право жительства лишь в малой его части. Даже гибель за отечество не дает права семейству героя на повсеместное жительство. Для того чтобы продемонстрировать это бесправие, Осипу Рабиновичу самого солдата оказалось мало. Понадобилась еще и семья, на которой должно отразиться в случае гибели солдата еврейское социальное бесправие. Неудивительно поэтому, что Рабинович смещает акцент повествования, перенося его с мужских на женские образы.
Главные герои повести – старый матрос Арон Малкин, его сын, также матрос, Сендер, жена Арона Зельда, приемная дочь Малкиных, племянница Зельды и впоследствии жена Сендера Маша – живут по месту службы Малкиных в приморском городе N. (как полагают историки литературы – в Николаеве), где евреям постоянное жительство запрещено. В свое время Арон Малкин собирался обзавестись семьей и стать винокуром в одном из местечек Черниговской губернии, но его тесть разорился, Малкин был взят в армию по первому рекрутскому набору (т. е. в 1827 г.) и зачислен во флот. Он верой и правдой служил матросом на одном из черноморских фрегатов. Впоследствии матросом стал и его сын Сендер, родившийся в 1828 г. Как и в «Штрафном», в «Наследственном подсвечнике» Осип Рабинович обходит стороной особенности несения евреем воинской службы. Он лишь походя сообщает, что Арону порой приходилось испытывать на себе «ощутительные взыскания», после которых Зельда отмачивала ему спину водой (89). Мы также узнаем из обмолвок персонажей, что Малкин-младший, Сендер, служит на корабле, работает в доках, иногда несет службу в Адмиралтействе (78). Скупо, в одном-двух предложениях описывает Осип Рабинович уход Арона и Сендера Малкиных на войну, еще сдержанней он упоминает об их гибели. В Синопском сражении «одна бомба положила и отца и сына» (208). В то же время Рабинович подробно останавливается на семейном матросском быте. Семейство Малкиных он описывает как «полезных» евреев. В N. Арон Малкин выучился тачать сапоги. В свободное от службы время он подрабатывал сапожным ремеслом и благодаря этому мог кое-как содержать семью. Местное начальство позволило Малкиным использовать съемный дом, чтобы устроить для приезжих евреев постоялый двор. Зельда готовит для постояльцев и ухаживает за ними. Благодаря ее усердию и материнской заботе, постояльцы привязываются к матросскому семейству. Семейное чаепитие с гостями, центральное в традиции русского семейного быта, становится доброй традицией Малкиных и их постояльцев.
Почему Рабинович столь подробно описывает домашний быт Малкиных и не находит нужным рассказать о доблестной службе, подвигах, наконец – героической гибели Арона и Сендера? Ответ напрашивается сам собой: потому что военная тема как таковая его не интересует. С точки зрения Рабиновича, не армия с ее примитивной и насильной ассимиляцией доказывает «обрусение» Малкиных. Гораздо важнее продемонстрировать читателю, что Малкины сами, добровольно и осознанно, осваивают русский быт, русскую народную мудрость и русский язык{1064}. Солдатское семейство под пером Рабиновича оказывается выразителем маскильской утопии, реализацией парадигмы еврейского Просвещения – «будь евреем дома и человеком на улице». Его Малкин – еврей дома и русский в городском быту и военной службе. Уникальность «Наследственного подсвечника» в том, что Рабинович убеждает в этом читателя с помощью особого художественного языка, прежде всего – удивительного языка, на котором говорит семейство матроса-еврея{1065}.
Другое проявление успешной аккультурации Малкиных – их поразительно русская по своему духу, чуть ли не толстовская жизненная философия, возможно, восходящая к мировосприятию солдат из «Севастопольских рассказов» Толстого. В ее основе – идея терпения, непротивления злу насилием, смирения перед судьбой, стоицизм. В «Штрафном» эта тема была лишь намечена. На смертном одре штрафной солдат проповедовал: «…ропот – величайший грех… Это возмущение против создателя и признак неверия в его правосудие… Не ропщите и не губите души своей… Все имеет свою цель, и вам ее не изменить. Исполняйте честно земные законы. Принимайте все с любовью и любовью вам воздастся за это, любовью неземною» (72). В «Наследственном подсвечнике» эта жизненная философия получает всестороннее развитие. Мы сталкиваемся с ней на протяжении всего повествования в многочисленных рассуждениях матроса Малкина и его семейства{1066}. С особой силой эта тема снова звучит в финале, с ясно различимой отсылкой к исповеди штрафного солдата: «помни и не забудь, что у тебя были и отец и дед и что они пали в войне за отечество. <…> подумай с любовью и сожалением, но чтоб ни проклятия, ни ропот, ни негодование не смешивались с этой священной памятью» (220). Таким образом, семейство Малкиных усвоило главные ценности русской культуры в том своеобразном виде, в каком их понимает либерал и просветитель Осип Рабинович: гостеприимство с чаепитием, русский народный (матросско-солдатский) говор и русскую покорность судьбе.
Но это совсем не значит, что матросское семейство совершенно утратило свой еврейский характер! Напротив, Малкины не только «русские на улице», но и «евреи дома»{1067}. Они по традиционному обычаю благословляют детей (123), отмечают субботу (125–126; 205–206), составляют и подписывают еврейский брачный договор («тноим», 128–130), при обручении по обычаю бьют сосуд (131–133), молятся за ближних (206–207). В центре еврейского ритуала неизменно присутствует наследный подсвечник. Подсвечник Зельды неказистый, медный, старый, на три свечки, но именно он оказывается главным средоточием еврейской жизни{1068}. Подсвечник, как узнаем от Зельды, символизирует преемственность и неуничтожимость традиции, память о черте оседлости и о том, что было до черты: «Этот подсвечник переходит из рода в род в моем семействе. Еще моя прабабка спасла его во время пожара и грабежа в один из набегов Гонты: теперь и со мной случилось нечто подобное. Если б я изнемогала от голода, то и тогда скорее решилась бы просить подаяние, чем продать мое семейное сокровище» (216–217).
Черноморский фрегат и наследный подсвечник – два полюса жизни семейства Малкиных, между которыми в поле интенсивнейших русско-еврейских связей сосредоточены все их ценности. Когда гравитация одного из полюсов слабеет, остатки семейства жмутся к другому полюсу, противоположному, – к евреям черты. Насильственное возвращение Малкиных в черту – крах маскильской утопии Рабиновича. Парадоксально, что единственный эпизод, лежащий за пределами этой утопии, происходит в черте оседлости, куда возвращаются остатки семейства Малкиных. С возвращением их в черту конфликт между маскилами и традиционными евреями рассеивается как дым. Худо-бедно, с помощью доброжелателей-соотечественников уцелевшая женская половина семейства Малкиных устраивается на новом месте. Этот эпизод – единственно реальный эпизод рассказов Рабиновича – противоречит его же собственной маскильской концепции.
В трагической судьбе матросского семейства, как в зеркале, отражается трагическая судьба русской Хаскалы. По Рабиновичу, в условиях продолжающегося бесправия еврейское Просвещение обречено. Даже слившись с русской культурой, сделав ее частью своей судьбы, в буквальном смысле – своей жизни и смерти, обрусевший еврей все равно заперт в черте. Будь он хоть семи пядей во лбу, блестяще говорящим по-русски (как постоялец Малкиных Давид Захарьич), аккуратнейшим и честным служащим (как другой их постоялец Мамис) или добротным поставщиком (как их третий постоялец – кременчугский лесник), он всегда жертва бесправия. Над каждым русским передовым евреем, душой и телом рвущимся за черту, стоит свой Гаврыло Хведорович (персонаж рассказа, приобретающий метафорический смысл), наделенный властью полицейский чиновник, хам, с наслаждением самоутверждающийся за счет бесправного еврея. Малейший повод – и еврея водворяют обратно в черту, где его ожидает другой конфликт – на этот раз с укоренившимися в своем мракобесии евреями черты.
В той или иной форме все герои повести – жертвы ограничительных законов. Мамис, один из постояльцев Малкиных, рассказывает о жутких нравах хозяйки киевского Жидовского подворья, единственного места, где разрешают останавливаться приезжающим в город евреям; он же вспоминает, что страх перед аналогичным московским учреждением отбил у него охоту посмотреть Москву (136–137; 145–146). В Москве полиция отправила Давида Захарьича ночевать в тюрьму, когда он вернулся вечером из московского театра и дворник отказался пустить его на постоялый двор, единственный, где евреям дозволено останавливаться (137–145). Кременчугского лесника, когда он случайно оказался в расположении военного поселения, связали и унизительнейшим образом выдворили, поскольку на территорию военных поселений евреев допускать запрещено (147–151). Бабис рассказывает, как из города N., где происходит действие повести, изгоняют сотни еврейских семейств, когда поступает распоряжение изъять N. из списка мест, дозволенных для еврейского проживания (151–155). По малейшему поводу лишают места и выгоняют обратно в черту Мамиса, который на свое небольшое жалованье содержит в черте неимущих мать и сестру (169–172, 179–185).
Тема изгнания в черту заявлена в самом начале повествования, когда у Зельды с языка срывается злое пророчество о том, что, как только закончится служба Арона, их выгонят из N. («Вздор! это до выслуживших солдат касаться не может», – отвечает ей Арон Малкин, 79–80). Но заканчивается повесть душераздирающей сценой изгнания Зельды, ее невестки и внучки из города N., где еврейским вдовам погибших моряков жить не положено, обратно в черту оседлости (211–221). Таким образом, в «Наследственном подсвечнике» главное – не история еврейского солдата и его семейства, но анализ позитивного влияния на евреев жизни за чертой оседлости и негативного влияния на них жизни в пределах черты.
Как мы убедились, солдатскому быту и военной службе Рабинович отводит самое незначительное место. Наоборот, первостепенное внимание уделяется подробному изложению маскильской программы, как позитивной – в виде культурных приобретений, прежде всего пропаганды русского языка и культуры, так и негативной – критике еврейского неравноправия и отсталости. Штрафной солдат и матросское семейство Малкиных – переодетые маскилы, заброшенные в николаевскую эпоху из 1860-х годов. Как и штрафной солдат, Хаскала в России оказалась в двойственном положении: ей так и не удалось воплотить программу по преодолению отсталости евреев черты, поскольку львиную долю ее усилий отнял «плач о еврейском неравенстве» перед российскими властями. Осип Рабинович вряд ли метил так далеко, когда писал рассказ, но его «Штрафной», похоже, предвосхищает и взлет критической мысли еврейских маскилов, и их глубочайшее отчаяние, совпадающее по времени с закатом либеральных реформ. В известном смысле оба рассказа Рабиновича используют условные детали быта – скорее мирного, чем военного – как театральный задник, на фоне которого разыгрывается драма российской Хаскалы. Наконец, его евреи в армии и на флоте – это одетые в военную форму геронты еврейского Просвещения, у которых мало общего с реальным солдатом николаевской эпохи.








