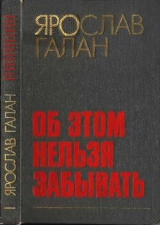
Текст книги "Об этом нельзя забывать:Рассказы, очерки, памфлеты, пьесы"
Автор книги: Ярослав Галан
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 32 страниц)
Гостиная Помыкевичей. Слева, из столовой доносится шум голосов и аплодисменты. Возле двери в столовую стоят Рыпця и Пыпця. Они подсматривают сквозь щель.
Рыпця. Уже? Но позвольте! (Заглядывает.) Правильно! Ага! Суп а-ля Жульен. Видите розовый пар? Он за двадцать шагов в ноздри бьет.
Пыпця. Неужели это наш борщ надднепрянский!..
Рыпця. Какой все-таки вы невежда! И по запаху не можете узнать европейского супа? Понюхайте только! Браво! Все на месте. Есть кольраби, петрушка, морковь, не говоря уже о зеленом горошке, цветной капусте, жареном луке! Только мясо – телятина! Вот испортили!
Пыпця. Эх, положили бы туда нашего кременецкого сала... Вот тогда бы был суп, так суп!..
Рыпця. У нас в главном штабе галицийской армии в суп обязательно еще и печеных раков добавляли, а мой приятель генерал Машкарек никогда не станет есть суп, если в нем нет индюшки.
Пыпця. Гм! Генерал, говорите?..
Рыпця. Наш друг и товарищ, бывало, идет спать – даже богу не помолится.
Пыпця. Кому говорите?
Рыпця. Богу...
Пыпця. Вот и выходит – вы тут «б» с большой буквы произносите. А ведь так нельзя. Дорогой товарищ и приятель! Подход у вас к богу сугубо оппортунистический. Не знаю, что с вами будет, дорогой товарищ и приятель!
Рыпця. Товарищ! Я же... У меня никогда и в мыслях не было «Бог» через большое «б» произносить. Вы послушайте еще раз.
Пыпця. А ну, попробуйте!
Рыпця. Б-б-богу...
Пыпця. И все-таки никак оно у вас не получается... Вот...
Рыпця. Б-б-б-б... Товарищ, а не думаете ли вы тем временем, что не дай б-б-б... суп остынет?
Пыпця. А мы посмотрим. Идет пар – значит, не остыл еще. Вот!
Выходит из столовой Помыкевичева.
Помыкевичева. Господа...
Рыпця. Мы считали нужным по идейным соображениям опоздать, милостивая пани.
Пыпця. Разумеется, только в знак протеста, как на акт явно контрреволюционный, дорогая приятельница и товарищ!
Помыкевичева. Жалею, что я не могла пойти по вашим следам. Каждая минута в таком обществе – это мука, это невыразимая мука!..
Рыпця. Мы их знаем, милостивая пани. Самые настоящие мещанские, филистерские души.
Пыпця. О! А еще протестуют!
Помыкевичева. Друзья детей! Словно бы мало во всем мире кричит этих существ... краснокожих... Брр!
Рыпця. Да где там им мечтать о прогрессе!
Пыпця. Логово, одним словом, оппортунистическое, сугубо романтическое.
Помыкевичева. Каждый из них как будто не знает, не предполагает, что у человека есть сердце, что оно страдает, мучается как бескрылая канарейка... Господин Рыпця! Когда войдете, попросите, будьте добры, Дзуня! Скажите – на несколько слов!
Рыпця. Скажу, хотя не знаю... Дзуня ведь сидит с Лесей, а как говорит Вейнингер в своем гениаль...
Помыкевичева. Господин Рыпця, попросите сюда Дзуня!
Пыпця. Вы слышали, кажется, дорогой товарищ и приятель?
Рыпця. Что, пана Дзуня? С большой радостью готов услужить милостивой пани. (Выходит.)
Пыпця. Он еще саботирует, такой невыдержанный...
Помыкевичева. Не способен даже понять, что тем временем остынет суп...
Пауза.
Пыпця. Да еще и Дзуня забыл позвать.(Бежит в столовую, в дверях встречается с Дзунем.)
Оба делают вид, что не замечают друг друга.
Дзуня. «Не питай, чого в мене заплакані очі. Вы меня звали, пани?
Помыкевичева. Да, я вас звала. А вы недовольны?
Дзуня. Потому ли, что я могу, наконец, побыть лишнюю минуту с глазу на глаз с моим единственным счастьем?
Помыкевичева. Господин Дзуня, сегодня я имела возможность убедиться в том, что нельзя измерять ваши чувства красотой ваших слов...
Дзуня. Как же я должен благодарить вас, пани, за такую' веру в безграничность моей к вам любви?
Помыкевичева. Пора вам сбросить маску!
Дзуня. Я должен вырвать и сердце!
Помыкевичева. Вместе с Лесей?..
Дзуня. Леся – девочка очень скромная, чтобы могла мечтать занять когда-нибудь ваше место, пани.
Помыкевичева. В вашем обществе она, пожалуй, быстро перестанет скромничать.
Дзуня. Если бы, находясь со мною, она знала мои мысли, то, наверное, от жалости заплакала бы над моей несчастной любовью. А вы эту любовь ежедневно топчете, пани...
Помыкевичева. Сегодня за столом она не только не плакала, но и чувствовала себя словно на седьмом небе...
Дзуня. Это главным образом благодаря всечестнейшему, пани.
Помыкевичева. И этот старый тюфяк должен стать вашим соперником?
Дзуня. К сожалению. Я ведь, сами понимаете, не могу проявить такого величия души и христианского милосердия, как отец Румега.
Помыкевичева. Вы что? Разыгрываете из себя апостола?
Дзуня. Нет, пани. Я хочу совсем немного, я хочу хотя бы один раз в жизни сделать добрый поступок. Словно одержимые мы бросаемся в водоворот жизни, и нашим знаменем стало: «Слава и богатство!» Видя перед собой наши каждодневные земные заботы, мы все дальше убегаем от идеала человека, а когда наступит старость, мы уже не в состоянии даже воскликнуть: «Господи! Я жив!» И потому,– потому я решил помочь в счастье хотя бы одному-единственному человеку, иначе не будет покоя моей душе.
Пауза.
Помыкевичева. Извини, Дзуня... Это очень благородно и необычно!..
Дзуня. Нет, Милли, это только обязанность каждого сознательного человека, украинца, в ком еще не погасло то человеческое, прекрасное, таинственное и непонятное...
Помыкевичева. Извини, Дзуня... Сегодня так легко ошибиться в человеке.
Дзуня. Может быть, вы и во мне разочаруетесь, дорогая моя Милли...
Помыкевичева. Никогда, Дзуня, потому что тогда мне оставалось бы одно – покинуть этот мир...
Дзуня. Тогда и я полетел бы по твоим следам, Милли!..
Помыкевичева. Да? В таком случае теперь я на все готова. (Целует его.)
Дзуня. Милли, кто-нибудь войдет. Это неосторожно, Милли.
Помыкевичева. Для тебя я на все готова. (Целует его.)
Дзуня. Когда-нибудь я напомню тебе твои слова, а теперь, теперь, Милли, нужно кончить начатое дело.
Помыкевичева. Дзуня. Ты видишь? Мне стыдно...
Дзуня. И мне стыдно смотреть в твои чистые, невинные глаза и потому иду заканчивать дело, после чего буду иметь право смелее смотреть тебе в глаза...
Помыкевичева. Могу ли я знать, что именно ты задумал?
Дзуня. Ты должна знать, Милли. Отец Румега может одним росчерком пера поднять человека со дна на недосягаемую высоту. Как бездетному, ему остается лишь одно – помочь какому-нибудь несчастному при случае...
Помыкевичева. Это кому, Дзуня?
Дзуня. Нашей скромной секретарше.
Помыкевичева. Лесе?
Дзуня. Потому что она сиротка, а в глазах людей худшая из худших, потому что у нее туфли и платье в заплатах...
Помыкевичева. Делай, как знаешь, Дзуня. Я верю глубоко в святость и необычность твоих чувств...
Входит Леся.
хотя и беспокоит меня это белье... (Лесе.) Панна Леся, если вы способны постигнуть всю красоту и величие человеческой души, то вы должны молиться на этого человека.
Леся. Я молюсь, милостивая пани. Я давно уже, очень давно молюсь – так горячо, как никто другой...
Помыкевичева. Вы немного самоуверенны, детка. (Выходит в столовую.)
Леся падает на колени перед Дзунем.
Дзуня. Ну, что это, Леся?
Леся. Это молитва...
Дзуня. А ты забыла, что кто-нибудь может войти... Леся, могут войти!..
Леся. Войти?.. Этого, этого никто не должен видеть. (Встает.)
Дзуня целует ее руку.
За что это? За что это, пане Дзуня?
Дзуня. За красоту твою, за любовь...
Леся. За любовь...
Дзуня. За красоту твоей любви...
Леся. Пане Дзуня, мне хочется уйти отсюда. Я пойду, пожалуй, домой!
Дзуня. Вас кто-нибудь оскорбил?
Леся. Нет, нет, я хочу уйти, потому что вот здесь в груди полно счастья, я хочу его сохранить, чтобы оно было только со мной, чтобы не затерялось где-нибудь по углам, а здесь по углам я видела паутину —: густая страшная паутина... Я уйду Отсюда сейчас...
Дзуня. Иди, Леся, оставь меня здесь и спи спокойно, все равно ты не услышишь, как плачет мое сердце...
Пауза.
Леся. Я останусь. Это ведь была только прихоть, обычная прихоть. Не правда ли, пане Дзуня?
Дзуня. Как я люблю тебя, мое дитятко родное...
Леся. Я остаюсь, я не растеряю своей радости, при вас я не буду бояться.
Дзуня. Неужели ты боишься чего-нибудь, Леся?
Леся. Нет, только отец Румега что-то... Пане Дзуня, чего он хочет от меня?
Дзуня. Доброго слова... и сердца, Леся.
Леся. И больше ничего?
Дзуня. Я ведь сказал – доброго сердца... А разве этого ему недостаточно?
Леся. Пане Дзуня, мне меценат говорил, будто бы отец Румега хочет...
Дзуня. У него самые лучшие намерения, Лесичка. И... Я горячо желал бы, чтобы и ты была с ним любезна...
Пауза.
Леся. Если так, то пусть же отец Румега станет моим отцом...
Из столовой доносятся аплодисменты и крики «браво».
Дзуня. Скажи, Лесичка, дорогая, нашим, нашим отцом!
Входит отец Румега с бутылкой и двумя бокалами.
Румега. Ну, что же ты, доченька моя, убежала от меня?
Дзуня. Панна Леся, отче, хотела только поверить мне одну тайну.
Румега. Вот интересно, какую это тайну хотела вам Лесичка поведать.
Дзуня. Что уважаемый сосед по столу очаровал ее; да она еще ребенком мечтала иметь такого отца.
Румега. И будет, непременно будет его иметь, пусть только доченька выпьет со мной за свое здоровье!
Дзуня. Такая трогательная, почти семейная сцена, где третий свидетель – лишний. Извините, господа! (Уходит.)
Леся. Пане Дзу...
Румега. Пускай себе идет, ну, зачем он нам. Мы сами по себе. Выпьем, Леся. (Наливает.) За твое здоровье, миленькая!
Леся. За ваше здоровье, отче.
Румега. Не отче, Леся, а – папенька.
Пауза.
Леся. Папенька... (Пьет.)
Из столовой слышен громкий, взволнованный голос: «Позвольте мне в этот час поднять тост во славу родной интеллигенции, самых верных и наилучших сынов народа, которые, подобно античным героям, с глубоким патриотизмом и самопожертвованием мучеников святой католической церкви отдают всю свою жизнь Украине, а если понадобится, то за нее пойдут и деды и внуки на смерть и на муки!» Аплодисменты, браво, да здравствует и т. д.
Входит Помыкевич.
Помыкевич. Ч-ч-черт!
Румега. Вы, меценат...
Помыкевич. Я говорю, что мрач-ч-чная судьба ждет теперь тех, кто станет нам поперек дороги.
Румега, Меценат! Вы... вы... неужели вы думаете, что больной человек, к тому же священник, депутат...
Помыкевич. Я, отче, имел в виду наших врагов.
Румега. А вы в другой раз лучше сразу говорите, кого имеете в виду.
Помыкевич. Неужели, отче, у вас есть какие-либо основания быть сегодня в плохом настроении. Не правда ли, панна Леся?
Леся. Отец депутат весьма любезен.
Румега. Несмотря на то, что мне на каждом шагу мешают быть весьма любезным.
Помыкевич. Поражаюсь, отче, вашей скромности, вы прячете перед людским взором ваши добродетели христианские, но я смею уверить вас в том, что...
Входит Дзуня.
Если хочешь многое сделать, надо многое не делать!.. Не правда ли, пане Дзуня?
Дзуня. Святая правда, господин меценат, хотя это совсем не относится к панне Лесе, которая до сих пор ничего не ела. Полагаю, отче, вы обратили на это внимание?..
Румега. Да, да, Леся. Почему ты до сих пор так мало ела?
Леся. Я не голодна, господа!
Дзуня. Я тоже не голоден, панна Леся...(Подает ей руку и вместе уходят в столовую.)
Помыкевич. Осмелюсь спросить, отче, как ваше здоровье?
Румега. Вы об этом, кажется, хорошо знаете. А что... может, вы заметили перемену в худшую сторону?
Помыкевич. Если вы о здоровье, нет... Наоборот, отче депутат, я не могу не надивиться, глядя на ваши блестящие глаза и румяные щеки.
Румега. Вы полагаете?.. А-а зеленых пятен вы того... уже не замечаете?
Помыкевич (всматривается). Наклонитесь, отче, вот так... Маленькие следы только и остались... Хотя нет, отче, даже малейших следов не осталось...
Румега. А вы хорошо присмотрелись?
Помыкевич. Очень хорошо присмотрелся, отче. Никакого следа, даже маленького.
Румега. Я, знаете, и сам удивляюсь. Прихожу к вам сегодня, ступаю левой ногой (ступает левой ногой), ничего не плещется, ступаю правой ногой (ступает правой ногой), под кожей от бедра словно кто мак посеял – словно бы издохла муха огромная...
Помыкевич. А не задумывались ли вы, отче, над тем, почему именно сегодня издохла та муха огромная?..
Пауза.
Румега. Хе-хе-хе! Вы, однако, меценат, любите выслушивать исповеди. Я действительно давно уже не чувствовал себя таким бодрым. Только подумать, что даже христианско-отцовская любовь может так нас обновить, так, ну знаете, душевно и телесно возродить!..
Помыкевич. А не приходило ли вам, отч-че, в голову, что даже христианско-отцовская любовь иногда возлагает на нас свои обязанности!..
Румега. Я... Я очень хорошо помню об этом, меценат.
Помыкевич. А не считаете ли вы, отче, резонным не перегружать зря своей памяти и оставить на бумаге наследникам доказательство величия вашего христианского сердца?
Румега. Да неужели, меценат, вы полагаете, что за какую-нибудь неделю эта любовь остынет?
Помыкевич. Будьте покойны, отче, мы в интересах сироты и ваших личных интересах позаботимся о том, чтобы она не остыла так быстро.
Пауза.
Румега. Признаюсь, я не понимаю вашего холодного отношения ко мне. Вы не должны особенно удивляться тому, что ваш будущий отец хочет лучше узнать все моральные и физические качества своего будущего ребенка! Неужели вы не считаете, что тут необходимо наладить с ним тесные, хотя бы духовные связи?.. Почему вы молчите, меценат?
Помыкевич. Извините, отч-ч-че, если найдете во мне, как в светском человеке, не такую уж глубокую веру в человеческие добродетели...
Румега. Вы забыли, кажется, что имеете дело со служителем христовым и представителем украинского народа в одном лице, дорогой меценат!
Помыкевич. Извините, ничего плохого у меня и в мыслях не было. Я же определенно сказал: в человеческие добродетели, а вы, как известно, не человеческая, то есть не светская, я хотел сказать, а наполовину божеская особа.
Румега. Только раб и служитель христовый;
Помыкевич. Верно, служитель христовый, так сказать. И как представителя народа я вас хотел спросить, случайно ли ваше представительство, если учесть при этом ваше здоровье. Ну, вы понимаете...
Румега. Господин меценат, может, вы ставите под сомнение мои заслуги перед родным народом?
Помыкевич. Оч-чем это вы, отче? Неужели я не желаю добра своему народу, я только спрашиваю, не вредит ли вам случайно это депутатство? Это же не только положение в высшей степени ответственное, но это, полагаю, труд, который требует, так сказать, железного здоровья.
Румега. Не щадил его я до сих пор, не пожалею и в дальнейшем– Нельзя нам, меценат, бросать поле боя, когда печальная наша отчизна простирает к нам, сынам своим, в отчаянии руки. Нам, меценат, до самой смерти, до последней капли крови – быть рыцарями!
Помыкевич. А не считаете ли вы, что отчизна протягивает руки рыцарям молодым, здоровым, именно тем, которые могут пригодиться, послужить, именно тем, кто с аппетитом!
( Румега. Я, дорогой меценат, слава богу, тоже имею аппетит, даже очень большой аппетит и потому извините, меценат1 (Выходит в столовую).
Помыкевич. Ч-ч-черт!(Нервозно ходит по комнате.)
Через минуту входит Дзуня.
Дзуня. «Не питай, чого в мене заплакані оч i ...»
Помыкевич. К черту!
Дзуня. Что случилось?
Помыкевич. Меня удивляет, что вы даже в таком, ну, грубом деле не умеете держаться с достоинством и всюду лезете с этими «заплаканными очима». Боюсь, чтобы вы себе не напророчили.
Дзуня. Не узнаю своего мецената. Неужели вы никогда не станете сдержанным. Это ведь так нужно для адвоката и будущего депутата...
Помыкевич. Национального депутата?.. Вы думаете, что ослы, которые принимают, главным образом, глупые ребячьи планы, могут когда-нибудь выступать с парламентской трибуны и получать депутатское жалованье...
Дзуня. Уверяю вас, меценат, что вы будете среди этих ослов исключением.
Помыкевич. Разве только тогда, пане, когда у меня вот здесь (указывает на ладонь) вырастут волосы.
Дзуня. При доброй воле у вас и там вырастут волосы. А воли, воли у вас совсем не хватает, вы – старое замшелое поколение. Вы не понимаете одной-единственной истины, без которой вы сляжете в могилу. Когда головой вам не удается разбить стену, ройте носом под ней, а коли голова не лезет, просуньте одну ногу, потом другую – может быть, пролезете... Пусть и недолгая жизнь перед нами, но пока мы живем, мы хотим иметь тело ужа и носы из стали. Вот какие мы, меценат, ваши дети, ваша надежда!
Помыкевич. Вы бы, вместо того чтобы декламировать, лучше бы провели в жизнь ваши нормативы. Мне кажется, я уверен, что с делом за номером...
Дзуня. Без номера!
Помыкевич. Что из него ничего не выйдет.
Дзуня. Выйдет, когда вы депутатом станете, меценат.
Пауза.
А что разве не идет на удочку рыбка?
Помыкевич. Какая там рыбка! Просто старая жаба!..
Дзуня. Вы говорили о чем-то?..
Помыкевич. Сделал оч-ч-чередную глупость.
Дзуня. Это вас, полагаю, не должно выводить из равновесия. Что же он думает?
Помыкевич. Он совсем не думает, он даже говорить об этом не хочет!.. Говорит, я сам имею аппетит, даже очень большой аппетит.
Дзуня. Вы о мандате, наверное?
Помыкевич. О мандате депутатском.
Дзуня. А о завещании?
Помыкевич. Подождите, говорит. Прежде я должен ее узнать, ближе познакомиться. Ишь кикимора!.. И за это я должен жертвовать своим сердцем!..
Дзуня. Господин меценат, отец Румега в ближайшее время затанцует, как медведь на веревке.
Помыкевич (с иронией). Вы неоценимый человек...
Дзуня. Полголовы отца Румеги уже в нашей пасти...
Помыкевич. Вы чудесный парень!..
Дзуня. А через неделю-две, через месяц мы взаимно друг друга поздравим.
Помыкевич. Я и теперь готов уже поздравить вас за вашу несравненную предприимчивость.
Дзуня. Меценат! Мы дадим ему возможность ближе познакомиться с Лесей!
Помыкевич. Это... это было бы опасно, это было бы ужасно! Но самое худшее, если из всей этой затеи выйдет один пшик!.. Пане товарищ, это было бы ужасно!
Дзуня. Отец Румега останавливается в отеле «Под Трезубом»?
Помыкевич. Ну так что из этого?
Дзуня. Меценат, ваше ухо!(Шепчет ему что-то на ухо.)
Помыкевич. Мысль, несомненно, интересная. Такого еще в моей адвокатской практике не было. Это действительно интересная мысль. А кто же, по-вашему, мог бы того...
Дзуня. Думаю, Пыпця и Рыпця.
Помыкевич. Хотите руками врагов...
Дзуня. Вы о Рыпце и Пыпце?
Помыкевич. Ну, о ком же? О них... врагах нации.
Дзуня. О них, о славных мародерчиках! А как вы полагаете, если бы они в лагере красных чувствовали себя как дома, они обивали бы наши пороги? Вы думаете, они другой породы? Нет, меценат, они такие же, только сознательно заблудшие овцы, милые болтуны!
Помыкевич. А не выдадут ли они?
Дзуня. Об этом я... то есть мы сообща позаботимся." Ваш фотоаппарат в канцелярии?
Помыкевич. Да, конечно, а пленка в шкафу.
Дзуня подходит к двери столовой.
Пане товарищ!.. А если все это напрасно?
Дзуня. Вы опять?..
Помыкевич. Вы... вы меня поймите!.. Если отец, отец Румега заупрямится и не помрет?
Дзуня. Тогда – удочерит ее. Но прежде всего не забывайте, меценат, о том, что надо оформить дело как следует! (Через открытые двери вызывает кого-то из столовой.)
П о м ы к е в и ч. Ясное дело, не забуду. Но не считаете ли вы, что было бы очень хорошо, если бы отец Румега умер добровольно...
Дзуня. Что такое?..
Помыкевич. Э... э... я хотел сказать, что отец Румега, наверное, добровольно умрет...
Входит Рыпця, за ним Пыпця, оба вытирают платочком губы.
Рыпця. Вы, господин доктор, меня звали?
Пыпця. Как же вам не стыдно? Разве вы не видите, что только одного меня?
Помыкевич выходит.
Дзуня. Я пригласил вас, господа, и хочу прежде всего спросить: умеете ли вы молчать?
Рыпця. Будьте покойны, господин доктор. Что касается меня, то могу вам только сказать, что мой покойный учитель Рычай, тот самый, что носил парик и жил с вдовой своего покойного брата, нотариуса из Тернополя, когда, бывало, вспоминает меня...
Пыпця. А вот я, когда в качестве политзаключенного сидел в тюрьме четыре года, так, бывало, сам прокурор подойдет ко мне, похлопает по плечу, дернет вот так за ухо и говорит мне: «Вы, товарищ Пыпця, выдержанный человек, вы как герой умеете молчать».
Дзуня. Именно этого я ждал от вас тем паче, что дам вам возможность убедиться в том, что молчание, если и не настоящее золото, то по крайней мере польские злотые. Кто-нибудь из вас умеет фотографировать?
Рыпця. Почему бы и нет? Неужели вы, господин доктор, не можете припомнить...
Дзуня. При электрическом свете.
Пыпця. Ого! Бывало, попросят меня политзаключенные: «Сними нас, товарищ Пыпця, так же и при вечернем свете!..»
Дзуня. Так вот прошу, господа, на несколько минут в канцелярию. (Уходит в канцелярию.)
Рыпця (тихо). Товарищ, вы уверены в себе? Не считаете ли вы, что мы предаем революционно-национальную линию?
Пыпця. Мы ее выдержим, дорогой товарищ и приятель!
Оба уходят в канцелярию мецената. Меценат выглядывает из столовой, потом открывает двери.
Помыкевич. Прошу, прошу, господа, если в столовой душно. Сейчас подадут чай. Скоро придут и музыканты!
Входят ди ректриса и редактор.
Директриса. Поверьте, господин меценат, что приподнятое настроение сегодняшнего собрания не нуждается в музыке. Мы просто очарованы приемом.
Помыкевич. Позвольте, госпожа директриса, выразить вам свою радость по поводу вашей не заслуженной нами похвалы!
Редактор. Смею уверить вас, господин меценат, что вся наша пресса не забудет о своем национальном долге и подчеркнет этот исключительный случай, за который вас когда– нибудь очень откровенно отблагодарит украинский народ.
Помыкевич. Разве если останется ценное место, иначе совесть моя была бы неспокойна...
Директриса. Как я вижу, вы никогда не забываете, меценат, что скромность является лучшим качеством человека-гражданина.
Помыкевич. Но она совсем не нужна такой во всех отношениях прекрасной женщине, как вы, пани директриса.
Директриса (с приятной улыбкой). Вы любите шутки, господин меценат...
Помыкевич низко кланяется и уходит.
Неужели у каждого дурака должны быть такие же, как у него, бараньи глаза?
Редактор. У меня, знаете ли, есть книга: «Хиромантия, или как отгадать характер человека по рукам, ушам и глазам». Если бы она была под рукой, мы сразу разоблачили бы мецената.
Директриса. Хорошо еще, что он хоть, как говорят, патриот, а то ведь со своей супругой даже приличного меню сделать не в состоянии.
Р е д а к т о р. Я думал уже о том, чтобы усилить в нашей газете кулинарную страничку. Факт, что даже наша кухня утрачивает украинские традиции. Это совсем не то, что в Вене, как рассказывал мне председатель нашей партии, мой дорогой Дмитруня. Там, говорят, после обеда, вам...
Директриса. Простите, не его ли это отлупили за мошенничество в картах?
Редактор. Ах, это ведь было, милостивая пани, еще тогда, когда не было единого национального фронта и над руководителями города тяготела еще такая ответственность. К тому же, по-моему, можно быть хорошим шулером и не менее хорошим патриотом.
Директриса (с очаровательной улыбкой). Вы, как всегда, дорогой редактор, совершенно правы...
Редактор. Именно такой отзыв дал мне один священник, когда прочитал мою статью о влиянии солнечных пятен на международные отношения. Ибо верно, если примем во внимание постановление Совета послов от марта тысяча девятьсот двадцать третьего года...
Директриса. Это очень интересно, милый редактор, и вы постараетесь, я полагаю, развить ваши мысли завтра у меня?
Редактор. Препятствий не будет?
Директриса. По воле моего мужа, я буду сидеть завтра, как и в прошлый раз, дома сиротой...
Входят писатель и критик.
Критик. Прежде всего вам, молодой человек, нужно понять, что такое красота. Без этого понимания красоты ничего не сделаете! Никогда!
Писатель. Мой герой и дает ответ на этот вопрос, господин доктор...
Критик. Который это, не тот ли, что застрелился в конце концов?
Писатель. Нет в моей повести такого, господин доктор!.. Мой герой совсем не стреляет в себя, а становится сотником и под конец женится.
Критик. Черт с ним! Не стану же я плакать лишь оттого, что у меня нет подозрительных знакомств. А вам бы следовало прежде всего знать, что такое красота, что такое искусство, молодой человек! Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что такое искусство?
Писатель. Господин доктор! Ведь и на этот вопрос дает ответ моя героиня, когда подает раненому стрельцу кофе с пасхальным куличом, а девушки вокруг играют в верболаз и старенький священник со слезами на глазах благословляет...
Критик. Не пугайте вы меня своими героинями, молодой человек, а лучше скажите, знаете ли вы, что такое красота, настоящая, художественная красота'? Знаете ли вы, что такое жемчужина? Как возникает жемчужина?
Писатель. А как же, знаю...
Критик. Вот и вижу, что не знаете... Да, да, не знаете. Из разнообразных минералов возникают жемчужины!
Писатель. Господин доктор, я помню, изучал, что ее с моря, со дна морского...
Критик. Говорите, со дна мор... Вы... вы не знаете, я вижу, даже, что такое поэзия, молодой человек! Рекомендую вам получиться немного, потом – побеседуем еще! (Оскорбленный, отходит.)
Входят молодой человек и молодая девушка.
Молодая девушка. Вы не имеете понятия, господин Левко, как меня это угнетает. Неужели наш несчастный народ век будет терпеть эти издевательства? Когда же мы, господин Левко, из московско-большевистских детей будем делать мыло?..
Молодой человек (тихо). Гораздо раньше, чем вы думаете, панна Кики. Наша организация именно этой ночью получила шифрованную телеграмму из Америки.
Молодая девушка. Что вы, господин Левко, из Америки?
Молодой человек. Из самого Вашингтона, панна Кики. Нам сообщают, что высылают двести тысяч сенегальских стрелков и столько же долларов. Все уже запаковано и ждет нашего сигнала.
Молодая девушка (тихо). Так вы, пане Левко, тоже инспиратор?
Молодой человек (вытаскивает из кармана револьвер). Вы видите, панна Кики?
Молодая девушка. Пане Левко, вы мне импонируете: я так часто мечтала о том, чтобы мы имели своего Вильгельма Телля или Гарри Пиля...
Молодой человек (доверчиво). А вы бы, панна Кики, не имели желания стать старогреческой ме... Мелясиной и самоотверженно идти вместе с нами к высшей цели?
Молодая девушка. Пане Левко! Неужели вы можете сомневаться в этом?
Молодой человек. И так, я приду к вам завтра, панна Кики, чтобы принять от вас присягу на револьвер. Я захвачу с собой танго, которое вы у меня просили. Я уже научился играть на мандолине.
Молодая девушка. Пане Левко, принесите с собой и мандолину...
Входят полити к и директор банка.
Политик (вытирая пот на лбу). Никто нас не подслушивает?
Директор банка (оглядываясь). Решительно никто...
Политик. А тот молодчик? Чего это он, вы думаете, уши развесил?
Директор банка. Это у него такие природные от господа нашего. Что же было дальше?
Политик. Погодите! Был я вчера в Варшаве.
Директор банка. Да, да... вчера было первое.
Политик (все время оглядываясь). Я ходил... у меня была возможность встретиться.
Директор банка. С министром внутренних...
Политик. Не кричите так, побойтесь бога! Вы не видите, сколько здесь публики?
Директор банка. Я уже онемел! Ну, что, что было дальше?
Политик. Я обсуждал с ним разные дела, говорил также о нуждах нашего банка, и он обещал...
Входят эмигрант и купчиха.
Этот тип мне кажется подозрительным. Наверняка большевистский агент! (Убегает в другой угол.)
Директор банка. Это наш депутат! Ну, что же он, говорите ради бога, обещал?..
Дальше их разговор становится неслышным. Директор банка бегает за политиком из угла в угол.
Купчиха. И до каких пор, скажите, господин полковник, всевышний и воинство наше будут терпеть это антихристово царство?
Эмигрант. Ничего... дождутся, сукины дети!.. Как только вернемся, то зададим им такое, что ну-ну!
Купчиха. В прошлом месяце к моему дяде приехал его шурин инженер, господин Бичейко, так он рассказывает, боже ты мой!.. Сам он вынужден был бежать, так как жить ему не давали. И почему, подумайте только? Потому, что имя у него Николай, а кто там посмеет Николаем называться, так ему жизни и никакой нет. Так возненавидели они имя царя христианского.
Эмигрант. Вот чертовы сыны!
Купчиха. А священникам, говорит, так всем бороды отрезают и матрацы ими набивают, для потехи, от распущенности своей диавольской.
Эми грант. Вот сукины дети! Почему же они до сих пор чаю не подали...(Вытаскивает из кармана одни часы, затем другие, третьи и четвертые.)
Купчиха. Господин полковник! Неужели вы часовым ремеслом занимаетесь?
Эмигрант. Какое там!.. Это же мои военные трофеи. Знаете ли вы, что такое трофеи?.. Так вот, когда я в Проскурове, Бердичеве и Литине большевиков усмирял, то добыл трофеи: часов штук каких-нибудь четыреста.
Купчиха. Штук четыреста?..
Эмигрант. Ну да! Еще и теперь около двухсот осталось. Так я в матрац их и сплю себе словно царь какой, ни одна блошка не укусит, все от часов моих наутек, а прежде, бывало, Душ пятьдесят за одну ночь убивал.
Купчиха. А вам они дают спать?
Эмигрант. Кто, блохи? Я ведь сказал...
Купчиха. Я о часах... Это очень интересно – двести часов в матраце...
Эмигрант. Ну что же, заходите когда-нибудь, увидите. Моя квартира на улице Трех Криминалов, номер двадцатый, а сторожа спросите о господине из полиц... то есть... господина полковника!
Купчиха. Вы настолько любезны... Зайду. Эмигрант. Ну вот... А чаю, чертовы сыны, так и не подают!
Входят Румега и Леся, за ними меценат.
Помыкевич. Прошу, господа, чай на столе!
Эмигрант с купчихой выходят в столовую.
Кому вреден чай, тому можем предложить вино. Чем богаты... Прошу, господа!
Теперь уходят все, кроме отца Румеги и Леси.
Румега. А доченьке, чего доброго, уже хочется бай-бай. Леся. Нет, отче, мне сегодня почему-то совсем не хочется спать.
Румега. Да папенька сам видит, что доченьке хочется бай– бай.
Пауза.
Неужели, доченька, ты бы не хотела? Леся. Да, я очень... Я очень хочу... Румега. Чего тебе, доченька, хочется такого?
Пауза.
Леся. Бай-бай.
Румега. А что? Не угадал я? Видишь, доченька, угадал! Я (тихо) не только это угадал, я угадал также, что доченька спать будет не у дяди, а у папеньки, у своего любимого папеньки... Скажи-и-и, Леся: у любимого папеньки... Леся. У любимого папеньки...
Румега. Так вот – пошли, моя доченька, пошли! Тебе уже очень спатки хочется... Пошли к любимому папеньке!.
Из столовой входит Помыкевич.
Помыкевич. Милостивый отч-ч-че!
Румега. К сожалению, нет времени. Вы же видите, как моя доченька бай-бай хочет!
Помыкевич. Я пока ч-что нич-ч-чего не вижу, отч-че. Румега. Вы очень даже любезны, меценат. За это мы очень будем вам благодарны. Правда, доченька? Леся. Господин меценат...
Помыкевич. Да, это правда, Леся. Вы будете иметь очень солидную опеку. Отец Румега не забудет нас всех никогда...
Отец Румега шепчет что-то Лесе на ухо.
Леся. Господин меценат... Помыкевич. Леся, ч-ч -честное слово...








