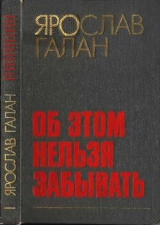
Текст книги "Об этом нельзя забывать:Рассказы, очерки, памфлеты, пьесы"
Автор книги: Ярослав Галан
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 32 страниц)
С момента захвата Украины немцами лексикон желтоблакитных литераторов обеднел вдруг на одно слово, которым они раньше жонглировали с ловкостью старых ярмарочных плутов. Имею в виду слово «Украина». Немецкий запрет? Разумеется, и это нас ничуть не удивляет, как не удивляет нас и то, что они с такой готовностью подчинились этому запрету. Украина – это ведь не только Днепр «седобородый» и поэтические хатки с подсолнухами перед окнами и добродушный, премудрый пасечник со столетним стажем. Это прежде всего люди – настоящие живые люди Украины.
Украинские рабочие? Их мамелюки ненавидели всей душой, и если приходилось когда-нибудь мамелюкам вспоминать о них, то с их перьев вместо чернил стекала только желчь.
Украинские крестьяне? Мамелюки видели только кулака и его воспевали, как могли. Крестьяне извечно думали, мечтали о земле, мамелюки же не посвятили этим думам ни строчки, даже тогда, когда за это никто бы их не посадил за решетку. Напротив, каждая смелая мысль о земле для крестьян вызывала у мамелюков пароксизм гнева, неважно, что земля была большей частью в руках феодалов польской национальности...
Украинская интеллигенция? И подавно, однако, в особенном, усеченном представлении. Героями их книжек были либо бывшие офицеры УСС, точнее говоря, те из них, которые на своей «славе» сумели сколотить потом звонкий капитал, либо оруженосцы этих рыцарей коммерции и политической проституции – буневские сопляки, эти долголетние тренеры нынешних бандеровских головорезов.
Конечно, мамелюки пера «не признавали» общественных проблем. Классовая борьба. По мысли этих интеллектуальных парвеню она просто не существовала, это была, дескать, выдумка коммунистов, масонов и евреев. И тут разногласий у них не было, они расходились только по одному вопросу: в то время, как одни констатировали безбуржуазность украинской нации, другие – из донцовского инкубатора – голосовали за... всебуржуазность украинской нации. Все это нисколько не мешало ни одним, ни другим служить не за страх, а за совесть буржуазии, и бороться не на жизнь, а на смерть е.... украинской нацией.
Они ненавидели и ненавидят русский народ, русскую культуру. За что? За прогрессивность русского народа и его культуры.
Одичавший от долголетнего культурного поста обыватель с душой взбешенного от бессильной злобы живоглота понял, что при неминуемом столкновении двух миров: молодого прогрессивного с темными, наиболее темными силами реакции, последние найдут свою опору в солдафонской, по-волчьему захватнической Германии, и потому он навсегда связал свою судьбу с судьбой разбойничьего Берлина.
Он не виноват, что в этой игре поставил на дохлого коня: он так же, как и его берлинский хозяин, верил в чудеса и в их симметрию.
Спорить о том, кто из этих партнеров глупее, было бы напрасной тратой времени. Что ехало, то и встретилось.
* * *
Пришло время, и окончились «счастливые деньки»,– вот уже проходит год, как мамелюки потянулись в хвосте битой гитлеровской армии. Это уже не эмиграция. Кто же в освобожденной Европе даст пристанище этим верным слугам-друзьям немецкого разбойника! Нет, это что-то несравненно более горькое: беспрерывное шаганье из угла в угол, из-под окна одного дома под окно другого, и так – до смерти под чьим-то порогом.
Морально они давно уже умерли. Еще год тому назад мамелюки сновали по Львову, посюсюкивали, похихикивали, болтали, декларировали и писали – писали без конца и меры, а сегодня никто, буквально никто не вспомнит о них теплым словом. Забыли их, забыли их писанину. Из бандеровского живодера не выйдет героя, из вилки лиры не сделаешь.
Нет, не писателями были курпиты, цуровские и мельники, и не литературой их книжонки. Это только мамелюки пера, добровольные штабные писаря одного из прусских полков,– полков, которым уже раз и навсегда пришел конец и вместе с их живым инвентарем, желтоблакитными мамелюками.
Три года ужасов немецкой оккупации оставили глубокие следы в человеческой памяти. В воробьиную ночь, в болезненном видении, когда на сердце ложится тяжелый, как скала, камень, людям мерещатся горящие города, всплывающие в крови дети, они одновременно видят самодовольные эсэсовские морды и людей – гиен, которые шарят среди трупов и пожарищ. Среди них они опознают мамелюков пера – по каиновой печати на их лбах. И тогда люди шепчут слова проклятья.
Наитягчайшего из наитягчайших.
1945
КАРЬЕРА НА ЭКРАНЕ
Надо сказать, что Геббельс и его приспешники изрядно потрудились, чтобы доставить Международному Военному трибуналу достаточное количество доказательного материала против нацизма и нацистов. Один из таких документов невольного самообвинения мы рассматривали сегодня в течение целых четырех часов. Это был монтаж из отрывков гитлеровской кинохроники, которая рисует зарождение, годы «расцвета» и месяцы гибели немецкого фашизма. Конечно, авторы фильма, среди которых была одна из любовниц Гитлера Ленни Рифенсталь, не думали и не гадали, что их детище будет со временем свидетельствовать против своих родителей, как не подозревал и Розенберг, что редактировавшийся им «Фелькишер беобахтер» станет одним из главных свидетелей обвинения на Нюрнбергском процессе.
Первые шаги Гитлера – мюнхенский путч. Люди в панике бегут по улицам, падают на мостовую, убитые или раненные фашистскими пулями. Это первые из будущих миллионов жертв самой кровавой реакции в истории человечества.
После водевильного заключения в тюрьме крикливый Адольф Гитлер с усиками шотландского терьера снова на свободе. Крупп фон Болен не дает и не даст ему пропасть: мы снова видим Гитлера на трибуне, снова слышим его истерический лай. Перед нами с каждым разом все чаще мелькают фигуры его прислужников. Их с каждым разом все больше сравнительно с крохотной мюнхенской шайкой.
Мечты фашистских авантюристов перестают быть мечтами. Гитлер выходит из дворца президента Гинденбурга с назначением на пост рейхсканцлера в кармане. Геринг развалился в кресле председателя рейхстага. Мюнхенское сборище бандитов пришло в Германии к власти.
По улицам Берлина снуют автомашины со штурмовиками. С утра до вечера не утихает вой распоясавшихся погромщиков. В центре Берлина горят книги, горит разум и совесть Германии.
На экране передвигаются длинные колонны нацистских головорезов. В каждом кадре фильма назойливо лезет в глаза фашистская свастика. Бесконечные марши и демонстрации фашистских бандитов по разным поводам, в тысячах вариантов. Основным местом этих театрализованных зрелищ становится Нюрнберг, стены которого, покрытые средневековой плесенью, казались гитлеровцам наилучшим инкубатором «нового порядка» в Европе. На огромнейшем стадионе Гитлер ежегодно принимает парад своей орды. Постепенно штурмовики и лопатники из «организации Тодта» преобразуются в прусских гренадеров, а первое место, рядом с трибуной фюрера, занимают генералы. Ораторские судороги Гитлера с каждым разом больше и больше напоминают военный танец краснокожих. Теперь уже ни у кого не может быть сомнения, что этот шут готовит мировую войну.
Начинается игра с открытыми картами. Немецкие войска входят в Рейнскую область. Их гусиным шагом любуются нагитлеризованные жители Дюссельдорфа. На последующих кадрах усатые фельдфебели ломают шлагбаум на австрийской границе. Гитлеровские самолеты гудят над кружевом венской ратуши.
Мюнхен. Гитлер решительным движением перекраивает карту Чехословакии, а Геринг радостно потирает руки. Март 1938 года. Подлый фашистский наймит Гаха проходит вдоль выстроенного Гитлером почетного караула. Через несколько часов после этого немецкие танки мчатся по улицам онемевшей от неожиданности Праги. Теперь очередь за Клайпедой. Еще один пограничный шлагбаум трещит под руками обмундированных колбасников.
На очереди – Польша. Теперь уже получили слово немецкие пушки. Эскадрильи бомбардировщиков Геринга собирают богатую жатву смерти и развалин.
Адольф Гитлер принимает парад немецких «добровольцев», возвратившихся из Испании,– вот яркий документ гитлеровского «нейтралитета» в испанском вопросе. Эти основатели франкистской Испании вскоре ему понадобятся.
Весна 1940 года. Войска Гитлера неожиданно врываются в Норвегию и Данию. Через два месяца после этого от града бомб горит Роттердам. Капитуляция петеновской Франции в Компьенском лесу. Гитлер на радостях чуть ли не танцует.
Дальше развертывается безумная программа «завоевания мира». Немецкие войска ворвались в Югославию и Грецию. В антрактах между одной и другой победой Берлин до хрипоты кричит: «Хайль!»
Наконец, последняя фаза кровавой забавы. «Народ господ» марширует на Восток. К микрофону берлинской радиостанции подходит Геббельс. В одну минуту его крикливый голос поднимает немцев с постелей. «Фюрер еще раз вручил судьбу Германии в руки немецкого солдата»,– кричит Геббельс. В эту минуту немецкий солдат поджигал первые советские села, а воздушные пираты Геринга уже возвращались на свои базы после первых налетов на наши города.
Новые кадры. Гиммлер в искалеченной, разоренной столице Советской Белоруссии. Он самодовольно, с садистской усмешкой проходит вдоль колючей проволоки, за которой умирают от голода и жажды советские военнопленные.
Быстрыми шагами приближается последний час гитлеровской Германии. Стихли крики «Хайль!». Позабыты крикливые нацистские съезды в Нюрнберге. Гитлер еще корчит перед объективом веселые гримасы, но причин для хорошего настроения у него с каждым разом все меньше. Миновало время, когда он музыкой и парадами встречал своего итальянского союзника Бенито Муссолини. Теперь мы видим совсем иную картину встречи этих друзей по разбою: освобожденный эсэсовцами из-за решетки Муссолини скромно, словно побитая собака, кланяется на берлинском аэродроме своему освободителю, который на сей раз не собрался даже выставить в честь «дуче» почетный караул...
Шайка гангстеров, сйДйщих сейчас на скамье подсудимых перед трибуналом народов, вместе со всеми присутствующими в зале смотрела фильм, который так пространно рассказывает об их преступной «карьере». Впрочем, сомневаемся, что от этого улучшилось настроение подсудимых. Кто же из них еще верит сегодня, что он будет иметь физическую возможность видеть на экране конец своей карьеры? Вероятно никто.
1945
В НЮРНБЕРГЕ ИДЕТ ДОЖДЬ...
Трудно завидовать жителям города, где осень, зиму и весну можно измерять только продолжительностью дня. С октября по сегодняшний день над Нюрнбергом висит, кажется, все одна и та же туча, мутная смесь пепла и сажи. Иногда утром северный ветер внезапно будит ее от летаргического сна. Тогда туча лениво колеблется над городом и только под вечер отползает к франконским горам, чтобы к рассвету снова осесть на искалеченных башнях собора святого Лоренца.
Новый день, как и вчера, рождается в тех самых потоках воды, что напрасно пытаются найти выход из лабиринта заваленных руинами улиц.
Автомашина с трудом пробивается сквозь море застывшей мглы, и только мрачные тени сосен вдоль дороги говорят о том, что город остался позади нас. Асфальт становится ровнее, с него постепенно исчезают мутные лужи. Один за другим мелькают мимо нас франконские поселки.
В одном из таких поселков машина сворачивает в боковую улицу. Шофер выключает мотор перед зданием редакции немецкой газеты.
Поднимаюсь на второй этаж. В коридоре могильная тишина, словно тут не редакция, а картинная галерея в час, когда нет посетителей. Открываю первую дверь. Молодой человек в роговых очках встает из-за стола и, услышав слово «редактору ведет меня в другой конец коридора.
Мои ноги тонут в пушистом ковре. Я в кабинете шефа редакции. Худощавый человек с морщинистым желтым лицом высоко поднимает брови, и в его глазах искра удивления и тень страха. Редактор нерешительно подает мне руку. Увидев советский паспорт, он протягивает ее вторично. Тень в его глазах исчезла. Он предлагает мне сесть.
Я прошу его дать мне просмотреть несколько последних номеров газеты, так как из-за малого тиража их нельзя было достать в городе.
Редактор торопливо кивает головой.
– Фрейлейн Эдда!..
В дверях соседней комнаты появляется белокурая девушка, лет двадцати. На ней темно-синее платье, на груди кокетливо поблескивает миниатюрное золотое распятие. Едва слышными шагами она направляется к шкафу и через минуту кладет на стол подшивки газет. Не поднимая головы, девушка уходит в свою комнату.
...Пора бы и попрощаться, однако редактор просит меня побыть еще немного. Я благодарен ему за это. Мне неудобно сказать этому человеку, что меня не так интересует его газета, как ее читатели.
Он рассказывает о долгих годах, проведенных им в Дахау. Говорит больше о других, чем о себе. Потом сразу замолкает и, словно вспомнив о чем-то, подходит к окну. Его подвижные и беспокойные глаза ищут кого-то на улице.
– Вы кого-то ждете? – решаюсь спросить его.
Редактор быстрым шагом возвращается на свое место. На его щеках красные пятна, он явно взволнован. Дрожащей рукой он зажигает спичку, и лицо его прячется на миг в облаке папиросного дыма.
– Нет, я никого не жду. Несколько первых недель ждал, а потом махнул рукой – что я им могу сказать: кроме нескольких туманных фраз о туманной демократии.
– Они...
– Они, как все живые люди, хотят знать, каким будет их завтрашний день, и хотят лепить этот день собственными руками.
Редактор вытирает платком вспотевший лоб.
В мои руки иногда попадают газеты вашей зоны. Жители Дрездена с утра до ночи восстанавливают свой город, и я знаю своих земляков: через несколько лет Дрезден опять станет Дрезденом. Мне рассказывали о дыме над заводами Восточной Германии. А что вы увидите у нас, кроме деревянных пуговиц да грошовых самоучителей английского языка? Библию? Ее популяризировал покойный Мартин Лютер. С каким эффектом – сами знаете. Сегодня – история повторяется. Фрейлен Эдда!
Стук машинки стихает, я услышал деловитые шаги секретарши.
– Дайте нам, пожалуйста, синюю папку.
Не прошло и полминуты, как маленькие, услужливые руки в кружевных манжетах положили перед нами синюю папку.
Я заметил, что она была такого же цвета, как и платье фрейлен Эдды.
Редактор встал.
– Читайте, я вам не буду мешать.
Я перелистал несколько страниц. Это была коллекция анонимных писем. Читаем в первом из них:
«Почему сегодня каждый немец,– горько жалуется автор анонимного письма,– не имеет права сказать правду?»
Через несколько строк мы узнаем, о какой «правде» пишет автор письма.
«Почему сегодня никто не имеет права рассказать миру обо всех благодеяниях, которые принесли немецкие солдаты жителям оккупированных областей?»
Все это написано совершенно серьезно и даже с пафосом.
Еще одно письмо, под ним подпись: «Студенты Эрлангенского университета».
«Господин редактор! Вам не нравится наша демонстрация против вашего единомышленника Нимеллера? Ну что ж, продолжайте писать так. Скоро вы убедитесь, что ваши деревья не растут до небес. Вы уже однажды сидели, но вам, видно, придется еще раз сесть, если не перестанете писать возмутительные сказки о концентрационных лагерях, если не перестанете оплевывать наших великих патриотов, которых враги судят теперь, как «военных преступников». Предупреждаем вас!»
А вот передо мной целое послание – девять печатных страниц без интервалов. Автор его, как можно догадаться по стилю, является представителем нынешнего поколения немецких «интеллектуалистов». В самом начале он предупреждает, что с нацистами не имел и не имеет ничего общего. Между тем это нисколько не мешает ему писать такое:
«Нюрнбергский процесс – это затея, подобная рабочим забастовкам до прихода Гитлера к власти. Вы посадили немецкого медведя в клетку. Но этот медведь еще покажет свои когти и тогда трепещите, враги!»
Из аккуратно сложенных и приколотых заботливыми руками фрейлен Эдды писем я вынимаю зеленый конверт, который очутился здесь, наверное, на правах гостя для пополнения коллекции. На нем адрес редакции «Люнебургер пост» и штамп города Куксгафен (английская зона оккупации Германии), Автор отважился поставить в начале письма инициалы, желая, наверное, подчеркнуть таким образом свою непричастность к «вервольфу». Он, кажется, довольно искренно озабочен ростом нацистских влияний:
«...Несколько дней тому назад я ехал поездом Лангведель– Бремен. В вагоне завязалась беседа, в которой скоро приняли участие все пассажиры. Речь шла о снижении продовольственных норм, о безработице, о том, что никто не знает, к чему все клонится. Кто-то из присутствующих заявил, что если бы Гитлер срубил вдвое больше голов, не было бы этого горя. Он не успел сделать это. Я не выдержал и напомнил людям о миллионах замученных нацистами людей, назвав при этом наши концлагери позором двадцатого века. Мои слова вызвали среди присутствующих такое возмущение, что я мог ожидать самого худшего. Какой-то прилично одетый человек сказал мне: «Еще одно ваше слово, и мы вышвырнем вас из вагона».
Растерянный автор письма заканчивает его такими словами: «Я не вижу выхода из этого тупика. Все это прежде всего является результатом двусмысленных и лицемерных методов английских властей, которые карают тюрьмой крестьянина за то, что он самовольно продал свинью... в феврале 1945 года, когда нами еще правил Гитлер, а между тем кормят целые дивизии матерых гитлеровцев. Вот почему в английской зоне немцы ругают томми. Этот факт не опровергается тем, что те или иные проститутки ходят сейчас с томми под ручку».
Я поднял голову. Мимо меня прошелестело прорезиненное пальто фрейлен Эдды:
– Грюс ди готт [23]23
С богом (нем).
[Закрыть],– бросила она, закрывая за собой дверь.
– Интересный материал? – любезно спросил меня редактор и, не ожидая ответа, добавил: – У меня есть еще один документ, который не в меньшей мере вас заинтересует...
Он достает из кармана листок бумаги, но, прежде чем показать его мне, подошел к двери и заглянул в коридор.
– Прочитайте.
Это было одно из анонимных писем такого содержания: «Осужденных на бельзенском процессе лучших немецких людей повесили. Но немецкая молодежь отомстит за это. Жаль только, что перед приходом англичан не задушили газом всех этих заключенных. Мы проиграли войну из-за предателей. Теперь эти преступники ходят по белу свету и пишут в газетах. Но дрожите – вервольф не спит!»
Я был немного удивлен таинственным поведением редактора, потому что это письмо ничем не отличалось от предыдущих.
– Обратите внимание на букву «К». Она слегка наклонена вправо. Видите? Еще одна деталь: под восклицательным знаком только полточки. А теперь попрошу вас пройти за мной в ту комнату.
Редактор заложил в машинку лист чистой бумаги и выбил на нем букву «К», потом восклицательный знак. Точка под восклицательным знаком была сломана под таким же углом, что и в анонимном письме.
– Теперь вы понимаете, почему мои нервы не всегда в порядке?
Я смотрел на клавиши машинки, по которым несколько минут назад бегали пальчики фрейлен Эдды.
– Я думаю, что вы сами усложняете дело...
Редактор вытащил из машинки лист и разорвал его на мелкие части.
– А кто даст мне гарантию, что вместо нее не придет худшая? Эта хоть старательно выполняет свои обязанности...
...Мы попрощались.
В нескольких километрах от города в моторе что-то подозрительно зашуршало. Шофер остановил машину. Возле нас плакучая верба роняла обильные слезы. Я взглянул вверх: на ее ветвях, покрытых едва заметным в этой проклятой мгле кружевом зелени, я впервые в этом году увидел весну.
И меня с невиданной силой потянуло домой, на Родину.
1946
ГЕРИНГ
Герман Геринг на первый взгляд – не Геринг, а баба, толстая, пятидесятилетняя баба-торговка.
И эта баба, баба с подстриженными волосами, сидит перед вами; ноги ее укутаны в одеяло, а держится она так, словно и впрямь на базаре. От ее внимания не ускользает ни одно слово. Во время перерыва она развешивает уши то влево, то вправо, злыми, заплывшими салом глазами водит по всему залу и с любопытством пристально присматривается к каждому новому лицу. Когда в руках защитника появляется газета, баба вытягивает шею из складок красного платка и бегает глазами по сторонам, ища своей фамилии. А когда фамилия находится, улыбка удовлетворенного честолюбия растягивает ее тонкие губы до ушей.
Так непринужденно продолжает Геринг вести себя и во время заседания суда. Он живо, чересчур живо реагирует на все, о чем говорят вокруг: водит головой то сверху вниз, то слева направо. Улыбается – если в сторону трибунала, то льстиво, если в сторону обвинителей, то с провоцирующим сарказмом.
Особенно недоброжелательно относится Геринг к свидетелям обвинения. Сначала смотрит на такого свидетеля взглядом разжиревшей гадюки, словно желая его загипнотизировать, а когда это не помогает, торговка начинает жевать проклятья, сжимает руки в кулаки и кладет их перед собой, как две ручные гранаты.
Чрезвычайно раздражают бабу-Геринга свидетели обвинения из прежних ее подчиненных. Тут уж темперамент этой ведьмы не знает удержу. Когда палач Украины и Польши, генерал СС Бах-Целевский сказал и о Геринге несколько слов правды, тот не выдержал и зашипел по адресу генерала: «Шелудивый пес...»
...Но вот баба вынырнула из шалей и платков и взгромоздилась на свое место за пультом для свидетелей.
Уже первое впечатление от ее слов подтверждает общепринятое мнение о ней: эта баба честолюбива до крайности, до безумия.
Так и слышишь все время: «Моя авиация», «моя промышленность», «моя политика». «Такой риск, как гнев Гитлера, мог только я взять на себя». «Только я, как пламенный патриот...»
Когда свидетель защиты Мильх, желая спасти Геринга, говорит об его отсутствии на одном из совещаний, тот с возмущением восклицает:
– Не может быть, чтобы таких-то господ фюрер пригласил, а меня нет...
Пьяный от самовлюбленности Геринг порой сам лезет на рожон. Вот его слова на одном из заседаний: слова, тщательно застенографированные и старательно записанные на пленку, как и все сказанное на процессе:
– Я приказал работать над самолетами, которые могли бы достигать США и возвращаться на свои базы... Я приказал также работать над улучшением типа снарядов «Фау- I » против Англии и очень сожалею, что у меня таких «Фау» было так мало...
Геринг не лишен также и чувства юмора:
– По примеру США, мы с фюрером порешили объединить власть премьера и власть президента...
На вопрос обвинителя, остается ли он сторонником теории «народа господ», Геринг с усмешкой отвечает:
– Нет, я ее никогда не признавал. Если кто-нибудь и в самом деле является господином, то ему никогда не следует это подчеркивать...
В своих показаниях Геринг очень охотно рассказывает о черных делах Гитлера. Когда речь идет о самых тяжких преступлениях, он, как правило, перекладывает ответственность за них на Гитлера (или Гиммлера). При этом Геринг дискредитирует своего фюрера утонченно, по-своему, словно мимоходом, нечаянно истины ради.
Геринг – правда, скупыми красками – рисует портрет Адольфа Гитлера: кровавого комедианта-параноика и обыкновенного мазурика с шарлатанским амплуа. Он со злопыхательским скрежетом в зубах рассказывает о том, как нахально «фюрер Великогермании» крал украденные им, Герингом, картины. Он, чуть ли не причмокивая от удовольствия, рассказывает нам истории,– срывает один за другим лавровые листики, которыми так добросердечно венчали голову Гитлера Геббельс и геббельсята.
В 1943 году, в день разгрома немцев на Кавказе, Гитлер укорял Йодля в том, что тот повел войска через Эльбрус. Йодль вспылил:
– Мой фюрер! Ведь вы сами приказали мне это сделать...
Услыхав об этом, Гитлер отвернулся и вышел, не простившись
со своим фельдмаршалом. «Он даже имел намерение сместить Йодля, а на его место поставить окруженного тогда в Сталинграде фон Паулюса, фон Паулюса,– добавил Геринг, смакуя,– к которому Гитлер имел особенно большое доверие...»
Говоря об украинских (и не только украинских) националистических телохранителях нацизма, Геринг с подчеркнутым презрением кривит губы:
– Я их глубоко презираю, но ведь во время войны берут то, что есть под рукой.
И Геринг действительно брал все, что у него было «под рукой». А «под рукой» у него было в то время немало всякой всячины, не только квислингов и квислинжат. Одних лишь художественных ценностей он «собрал» у себя на сумму пятьдесят миллионов марок золотом. Набрал он со всех концов Европы, не забыл и об эскизах Альбрехта Дюрера из львовских музеев.
Герман Геринг начал свои показания с краткой, удивительно краткой автобиографии. Он не без гордости информировал своих судей о том, что его отец был в свое время губернатором немецких колоний в Восточной Африке. К сожалению, он не добавил при этом, что его высокочтимый папаша поголовно уничтожил многотысячное туземное племя гереро. Причина – пассивное сопротивление колонизаторам. Методы его убийства были, наверное, источником вдохновения для Германа в его будущих делах. Все племя, вместе с грудными детьми, было изгнано Герингом-отцом из своих жилищ в пустыню, где за несколько недель погибло от жажды и голода.
Один из свидетелей рассказывает о концлагере в Маутхаузене. Геринг слушает внимательно, но, как всегда в таких случаях, лицо его неподвижно и застыло в напряженном ожидании. У вас создается впечатление, что перед вами не Герман Геринг – изобретатель и организатор Маутхаузенов, а беспристрастный эксперт, которого лишь на несколько дней пригласили в суд.
«Комендант Маутхаузенского концлагеря обратил внимание на исключительно красивые зубы двух молодых евреев, привезенных сюда из Голландии. Несчастным вырезали желудки и по одной почке, потом впрыснули им в сердце бензин, головы отрубили, а после соответствующего препарирования этих голов комендант лагеря поставил их у себя на письменном столе».
Геринг слушает и глазом не моргнет. У него за пазухой готов уже «контраргумент»: рассказ о еврейской семье Баллин из Мюнхена. Этот рассказ немного погодя вытащит из-за пазухи защитник Штаммер, который вложит его в уста свидетеля генерала Баденщаца. О том, как Геринг спас эту семью от своих же рук, своевременно выслав ее как будто за границу.
Почему именно семью Баллин и почему только ее? Потому что семья Баллин во время мюнхенского путча спасла Герингу жизнь. За эту свою фатальную ошибку семья Баллина двадцать лет спустя удостоилась награды: она стала единственной из миллионов еврейских семей, которой Геринг любезно разрешил жить. Разрешил этой семье жить для того, чтобы она сегодня его вторично спасла, на сей раз от виселицы. Так выглядит двойная бухгалтерия арийской морали, осуществленная рукой примерного арийца.
Свидетель, статс-секретарь Пауль Кернер, одна из живых карикатур Гросса, ближайший клеврет и наушник «рейхсмаршала», типичный гомункул из реторты Адольфа Гитлера, во время допроса назвал Геринга «человеком Возрождения». Что или, точнее говоря, кого подразумевает Пауль Кернер под словом «Возрождение», не трудно догадаться. Возрождение – это для него не Петрарка, не Леонардо да Винчи и не Микеланджело; это прежде всего и исключительно кровавый тиран Людовик Сфорца, безгранично распутный Цезарь Борджиа и достойный своего сына папа римский Александр VI, прозванный своими современниками воплощением антихриста.
– В 1922 году я получил в СА наивысший командный пост, какой только можно было получить,– хвалится на процессе Герман Геринг. О том, почему именно он, Герман Геринг, получил этот «пост», говорит нам история первых лет нацистской партии: не было тогда почти ни одного «мокрого дела», следы которого не вели бы к кабинету Геринга.
Опыт создает мастера. Когда в голове Геббельса зародилась идея поджога рейхстага, он знал, что ее лучше всех может выполнить Геринг. Сегодня «человек Возрождения» удивленно пожимает плечами, когда ему напоминают об этой истории. Он как будто забыл даже фамилию главного участника поджога СА – фюрера Эрнста, который, предчувствуя смерть от руки Геринга, оставил нам письменное свидетельство, в котором описывает не только роль Геринга в поджоге, но и технические подробности этого предприятия. Эрнст? Живот Геринга трясется от смеха. Да, хорошая идея была с этим Эрнстом! Под шумок 30 июля не трудно было перенести своего пособника в лоно Авраама. Иначе за этим проклятым пультом появился бы еще один лишний свидетель и была бы еще одна лишняя неприятность...
Ему читают показания генерала Гальдера.
«Как-то в небольшом кругу завязался разговор о рейхстаге. Геринг сказал тогда: «Единственный человек, который знает как следует рейхстаг, это я. Потому что я его поджег».
В ответ Геринг легкомысленно машет рукой. Глупости, мол, обыкновенные сплетни. Да неужто рейхстаг стоил того, чтобы его поджигать? Другое дело, если бы речь шла, например, об оперном театре. И тут же этот бессменный глава нацистского рейхстага добавляет:
– Опера всегда была для меня чем-то более важным, чем рейхстаг...
Есть ситуации, когда даже на скамье подсудимых Геринг возвращается к роли первого шефа гестапо, несмотря на то, что в этом случае весь аппарат Геринга состоит лишь из одного человека: его адвоката. Да, как выясняется, для шатнажа и этого аппарата достаточно. Не лучше ли всего продемонстрировал это случай со свидетелем Шахта, известным уже сегодня Гизевиусом, человеком 2 июня... и американской разведки и автором неприятной для Геринга книги о «третьем рейхе». Накануне выступления свидетеля к нему пришел адвокат Штаммер и, не церемонясь, сказал:
– Мой клиент предупреждает вас, чтобы вы были осторожны в своих показаниях, иначе... гм!..
Но, на беду Геринга, случилось так, что Гизевиус не испугался этого «гм» и рассказал столько новых подробностей из биографии рейхсмаршала, что даже доктор Штаммер схватился за голову...
Однако еще «более яркий» материал дают фрагменты стенографического отчета совещания Геринга с рейхскомиссарами оккупированных областей и представителями военного командования о продовольственном положении. Совещание происходило в четверг 6 сентября 1942 года в «зале Германа Геринга» в министерстве авиации.
Геринг: «... Я вижу, что люди в любой оккупированной области жрут до отвала... Боже мой, ведь вы посланы туда не для того, чтобы работать для благополучия порученных вам народов, а для того, чтобы выкачать оттуда все возможное, для того, чтобы мог жить немецкий народ. Этого я жду от вас. Нужно наконец прекратить эту вечную заботу об иностранцах...»
«Неподалеку от границ Рурской области находится богатая Голландия. Она могла бы послать сейчас в эту изнуренную область значительно больше овощей, нежели это делалось раньше.
Что об этом думают господа голландцы, мне совершенно безразлично. Вообще в оккупированных областях меня интересуют лишь те люди, которые работают на вооружение и обеспечение продовольствием. Они должны получать столько, чтобы как раз могли выполнять свою работу. Являются ли господа голландцы германцами, или нет, мне совершенно безразлично, потому что если они действительно германцы, то тем более они дураки, а что надо делать с глупыми немцами, уже показали в прошлом выдающиеся личности...»








