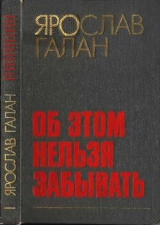
Текст книги "Об этом нельзя забывать:Рассказы, очерки, памфлеты, пьесы"
Автор книги: Ярослав Галан
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 32 страниц)
Писатель обладал удивительной работоспособностью. Был чрезвычайно требователен к себе. Прежде чем приступить к работе над произведением, он тщательно изучал материал, анализировал факты, события и только после этого садился за чистый лист бумаги. Писал не спеша, вдумчиво, работал над каждым словом, образом, эпитетом, о чем он рассказал в заметках «Моя работа в Нюрнберге». Был нетерпим к штампам, шаблонам, разного рода «стилистическим цветочкам» и «энциклопедической эрудиции». Считал, что писатель должен писать «правду и только правду в большом и малом». С исключительным доверием относился к читателю. Главное – «заставить самого читателя мыслить».
Был он человеком неспокойным и любознательным. С юношеских лет очень любил путешествовать. Незадолго до трагической смерти, после очередной поездки по Закарпатской земле, он, шутя, сказал, что вот, когда он постареет и не будет сил путешествовать, тогда сядет за свой письменный стол и напишет самую главную книгу обо всем виденном, пережитом, передуманном. Есть что-то неумолимо жестокое и непоправимое в том, что не стало человека, который так доверительно признавался, что «до боли страстно хочется жить». В расцвете творческих сил, больших замыслов он погиб, как солдат в бою. 24 октября 1949 года под видом «просителей» враги пришли на квартиру писателя с топором и за письменным столом злодейски зарубили его.
Уже сразу после войны Я. Галан призывал советских людей к бдительности, ибо, как дальновидно писал он в памфлете «Их лица», «отродье фашистского сатаны» еще не исчезло «с лица земли». Темные силы, те силы, которые породили Муссолини и Гитлера, «еще живут и действуют», а это накладывает на каждого из нас обязанность последовательно и беспощадно бороться с реакцией «во всех ее проявлениях». В статьях, памфлетах писатель предупреждал «не играть с огнем», высказывал твердуюубежденность, что окрепшие рукитрудового народа «под знаменем СССР сумеют осадить бешеных лошадей войны».И в этой борьбе против реакции, задело прогресса и мира на вооруженииу советского народа пламенноеслово писателя-коммуниста, гражданина-патриота Ярослава Галана.
Таким непримиримым патриотом-художникомон вошел в историю нашей многонациональной литературы. И в том, что сегодня украинская советская литература стала явлением нетолько всесоюзным, а и международным,– большая заслуга и Ярослава Галана.
Борис Буряк
Рассказы
КАЗНЬ
I
Когда его ввели в зал суда, там еще никого не было. За окнами уже третий день бесновалась метель, и сквозь облепленные снегом стекла в зал заползали сумерки. Он сидел между двумя хмурыми конвоирами и робко покашливал хриплым, глубоким кашлем. Ему было неловко нарушать своим кашлем тишину и сидеть на самой середине огромного зала, куда его привели и усадили так, чтобы все могли осматривать его невзрачное крестьянское лицо, его старую, потертую куртку и военные, еще русские, сапоги со смешно загнутыми носами. Он знал, что его опять будут допрашивать об этой неинтересной, осточертевшей ему истории, и хоть не станут больше остервенело бить в зубы и под бороду, все же придется снова, в четвертый или пятый уже раз, рассказывать про эту гниду – осадника Миколайчика, про собачью его душу, про неудачное нападение на него и глупое бегство с девчонкой на руках.
Нет, ни за что не надо было брать Гапку с собой, да еще в такую стужу. Гапка могла спокойно остаться у тети Пелагеи (только теперь вспомнилась тетя Пелагея), там бы и росла, а довелось бы ему вернуться, и отца вспомнила бы. Матери вот и не видела толком, а не забыла, шестой год уже, а не забыла, вспоминает. Вспоминала бы и его. Нет! Гапка вспомнила бы... «Она моя»,– прошептал он, и от этого у него под сердцем что-то екнуло, и так остро, так остро захотелось ему увидеть Гапку! Он окинул взглядом зал и никого не увидел. Тогда ему захотелось выглянуть за двери, в коридор: там темно, может, он и не заметил ее, стоявшую где-нибудь в уголке. Он уже собрался было броситься к дверям, выбежать в коридор и позвать ее во весь голос, но в этот самый миг дверь отворилась и в зал вошел пристав. Он почистил тряпочкой медное распятие, стоявшее на столе, и как раз вовремя положил около свечей спички: в тот же момент в боковых дверях появился председатель трибунала, пухлый старикашка с заспанным лицом, которое он никогда не брил, скрывая огромную бородавку на левой щеке. Но вместо бороды росла седая щетина, нисколько не прикрывавшая безобразной бородавки, и, должно быть, поэтому судья уже двадцать лет лечился от камней в печени. Он исподлобья поглядел на подсудимого и недовольно покосился на пустующее место секретаря. Затем повернулся, подобрал тогу и вышел. У подсудимого беспокойно забилось сердце. Ему почему-то казалось, что взгляд судьи, его гримаса и то, что он вышел, хлопнув дверью,– все это вместе предвещало дурное.
Через минуту что-то заскрипело и вошел офицер военной жандармерии, стройный человек с прилизанными русыми волосами, с напудренным лицом, перетянутый скрипучими ремнями, между которыми болтались на пестрых лентах бесчисленные кресты и медали. Не взглянув на подсудимого, офицер сел за столик у окна и принялся рыться в портфеле. Вслед за ним вошел прокурор. Он молча поклонился офицеру и, потирая руки, направился на свое место – справа от судей. Разложив перед собой бумаги, он удобно расположился в кресле, привычным движением приклеил к глазу монокль, зевнул слегка и уставился на Гната. Но, вероятно, разочаровался, потому что зевнул пошире, снял монокль, откинул голову на спинку кресла, повернувшись к залу благородным профилем лорда, и прищурился.
Члены трибунала заняли свои места в десять часов. Посредине, под огромным изображением белой женщины с завязанными глазами, державшей в одной руке весы, сел пухлый председатель. Слева от него занял свое место другой судья, худой, черный, с пылающим, словно горячечным взглядом. Обыватели городка знали его как непримиримого врага прокурора, но об этом больше всех могла бы рассказать жена судьи, которая была на двадцать лет моложе мужа и смертельно скучала в глухой провинции, где один только прокурор «понимал ее небудничную, погибшую душу».
У другого члена трибунала была черная козлиная бородка, хитрые глазки и такая же натура. Перед известным маем [1]1
Имеется в виду переворот в мае 1926 г., после которого в Польше пришел к власти Пилсудский.
[Закрыть]он был стопроцентным эндеком [2]2
Эндек – национал-демократ, член реакционной буржуазно-помещичьей партии 20—30-х гг.
[Закрыть]: читал только «Варшавскую», признавал только Галлера [3]3
Галлер – польский генерал, пособник Пилсудского.
[Закрыть]и яро, до потери сознания ненавидел все, что «пахло Востоком». После мая он даже скорее, чем прокурор, сориентировался: выбросил из канцелярии портрет Галлера, первый подписался на «Глос правды» и так же яро, до потери сознания ненавидел все, что «пахло Востоком».
Рядом с ним сидел молоденький напомаженный секретарь. Он тоже скучал в провинции и мастерски выслуживался перед начальством, лелея одну мечту – попасть когда-нибудь в Варшаву и ходить хоть раз в неделю на дансинг в «Адрию». Как раз в тот момент, когда мечтатель-секретарь достал новое блестящее перо, его подозвал к себе председатель трибунала и шепотом сказал ему что-то на ухо. Секретарь подошел к подсудимому и вежливо уведомил его, что ему дали защитника. И в тот же миг адвокат явился. Он покраснел от холода или оттого, что чувствовал себя неловко, заставив суд ждать, поклонился трибуналу и, даже не посмотрев на своего клиента, побежал к столику и дрожащими руками стал листать дело. Он был молод, занимался адвокатурой первый год и, будучи сыном бедного портного из Белостока, не мог как следует разрекламировать свою контору и приобрести клиентуру. Сегодняшний процесс был первым серьезным делом, порученным ему. И хотя приходилось защищать за собачьи гроши из кассы суда (клиент был несостоятельный), он с радостью взялся за это дело и всю последнюю ночь просидел над актами, которым предстояло решить судьбу двоих – его, как адвоката, и Гната Орестюка, как обвиняемого. Ему было известно, что чрезвычайный суд – дело серьезное, что по всей стране скрипят виселицы. Кроме того, он за год имел возможность изучить судей, ведущих этот процесс, и знал, что его еврейское происхождение и фамилия Любомирский также сыграют свою роль. Поэтому руки его, раскладывая акты, дрожали.
Зато не дрожали они у Гната. Когда вошли судьи, в нем что-то заныло и он почувствовал себя одиноким, затравленным зайцем среди собак. В редких взглядах, которые иногда бросали в его у сторону судьи, прокурор и жандарм, он видел столько презрения, равнодушия, что, казалось ему, предложи кто-нибудь дать Орестюку пять лет тюрьмы, никто из этих господ не возразил бы ни слова: таким мелким и ненужным видел себя Гнат в глазах судей. Когда вошел адвокат, Гнату стало легче на душе и он повеселел. Хотя он и видел, что этот молодой низенький адвокат не ровня самоуверенным, суровым судьям, но все-таки обрадовался, потому что не был уже так одинок и беспомощен,– рядом с ним сидел кто-то, кто яснее мог сказать судьям, что не стоит им утруждать себя из-за такого подлюги, как Миколайчик.
Гнат успокоился. Он был спокоен и тогда, когда председатель назвал его фамилию, даже повеселел, подумав, что вот уже началось и что через час, через два эти суровые господа пойдут себе обедать, а он тем временем бросится искать по городу Гапку. Четыре дня! Нет, за четыре дня она не могла пропасть! Гнат успокоился совсем.
II
Допрашивали председатель суда и его сосед справа. Сидевший слева молчал, как всегда, если обвинял прокурор с моноклем. Спрашивали то же, что и в полиции, то же, что и следователь. И потому, что впервые за эту неделю на душе у Гната было легче, он охотно рассказывал и о селе, и о прохвосте Миколайчике, у которого, почитай, полсела было вдолгах. Он высчитывал на своих грязных пальцах, сколько хозяев в селе разорил Миколайчик, сколько народу своими доносами в тюрьму засадил, и не хватало ему пальцев.
Гнат разошелся. Он в лицо судьям обвинял Миколайчика и помещика из соседнего села, платившего Миколайчику за то, что тот привозил на господские поля штрейкбрехеров.
Председатель непрестанно кривился, правый сосед что-то возмущенно говорил ему на ухо, прокурор устремил мечтательный взор в окно.
Гнат рассказывал и о том, как село ненавидело Миколайчика и жаждало от него избавиться. Но Миколайчик в ответ на это только улыбался и каждый вечер ходил с комендантом в шинок. И случилось в этот вечер так (это было на следующий день после того, как десятерых вывезли из села в Новогрудки), что Миколайчик один возвращался домой. Кое-кто это заметил, узнал об этом и Гнат. Тогда они вдесятером пошли за Миколайчиком и нагнали его, когда он входил уже в свою хату. Но это их не остановило. Гната поставили с дубиной позади хаты, чтобы Миколайчик не ускользнул, а потом выбили стекла. Гнату недолго пришлось ждать. Миколайчик наскочил прямо на него и бежал так быстро, что Гнат не успел и дубиной замахнуться, как тот исчез в лозняке и оттуда выстрелил в Гната, но пуля только над ухом просвистела. В полночь приехал из города на машине большой отряд полицейских, и всем десятерым стало ясно, что добра от этого не будет. Когда разбудили Гната, он сначала упирался, но, вспомнив про Гапку и подумав, что станется с нею, если его посадят под следствие на полгода, закутал ее в кожух, взял на руки, запер хату на ключ и побрел с девятью товарищами через белые поля к границе.
Идти надо было четыре мили, и, когда подходили лесом к границе, уже рассвело. Увидели полосатый столб и повернули направо, чтобы обойти его незаметно. Вышли на большую поляну и заметили по ту сторону красноармейца с винтовкой. Подумали тогда – конец путешествию и высыпали на поляну, толпой спеша к красноармейцу. Но тут по лесу прокатилось громкое «Стой!». И кто-то выстрелил. Те девять побежали и через минуту были уже на той стороне. Остался только Гнат, не было сил нести Гапку под пули.
«Пусть,– подумал он,– лучше уж полгода отсижу, а Гапка у добрых людей авось не пропадет».
И пошел Гнат назад, только уже не в село, а прямо в город. И это хуже всего,– пропадет Гапка в городе, ей же только шесть лет.
Гнат кончил и посмотрел вокруг. Он думал, что все сочувствуют шестилетней Гапке, которая бродит сейчас где-то на холоду, голодная, в чужом городе. Но лица судей, прокурора и жандармов были такими же, как и прежде. Только адвокат еще глубже зарылся в бумаги. Гнат опустил голову.
III
Второй час уже допрашивали Гната, и когда председатель устал, его сменил сосед с бородкой. Он задавал вопросы и скалил большие желтые зубы, точно хотел схватить каждый ответ подсудимого, разжевать и выплюнуть на стол трибунала, как готовый параграф. Он впервые в жизни видел Гната, ему было совершенно безразлично, в чем обвиняют этого человека, но он ненавидел подсудимого всей душой – и за то, что тот говорил на языке, ненавистном судье, и за то, что он так прямо смотрел ему в глаза, и за то, что в нем была сила, которая, если освободить ее на миг от цепей, оставит судью без тоги, под голым небом, сиротой в чистом поле, где нет ни дорог, ни устланных коврами тропок, а только пустота и ноги, которым некуда двинуться.
Прокурор все время молчал, и когда судья с бородкой, перестав скалить зубы, удовлетворенно откинулся в кресле, он вопросительно посмотрел на брюнета и для эффекта выждал минуту. Но тот не заговорил, и тогда прокурор вздохнул легонько и будто невзначай задал подсудимому вопрос:
– Вас лично Миколайчик обидел чем-нибудь?
– Меня – нет,– ответил Гнат.
– В таком случае зачем же вы набросились на него?
Гнат молчал,– он не понимал прокурора, и ему казалось,
что тот шутит и потому только задает такой нелепый вопрос. Ведь каждый ребенок в селе знал, кто такой Миколайчик.
– Не знаете? А мы знаем.– Прокурор вобрал монокль глубже в глаз и продолжал допрос: – Вы давно уже член организации?
– Какой?
– Террористической.
– Да я никогда...– Гнат замялся.
А ведь верно, приходилось уже что-то такое делать. Год назад бастовали у помещика, и тогда Харитон, сын Михайла, бывало, говорил: «Организация мы, а об организацию господа непременно зубы обломают». Но перед ним теперь тоже сидели господа, и он решил возражать.
А прокурор тем временем продолжал громить подсудимого:
– Вас было десять, и нападали вы организованно.
Гнат растерянно молчал, и триумф прокурора был полный.
– Кстати, вы долго занимались шпионской деятельностью?
Гнат не мог больше молчать. Он понял, что его ошибочно
обвиняют в преступлениях, за которые жестоко карают, что эту ошибку необходимо исправить. Надо сказать им, что Миколайчик и на этот раз, как всегда, подло брехал и что в его болтовне нет ни крошки правды.
– Высокий трибунал! Никогда ничего подобного не было. Не мог я знать и не знал ничего. Шпионом в нашем селе Миколайчик был. Это он меня...
Ярость душила Гната.
– Террористическая банда, членом которой вы были, составила после перехода через границу подробное сообщение о расположении наших войск.
Жандармский офицер насупил брови и утвердительно кивнул головой, хотя он знал об этом столько же, сколько и прокурор. Он только честно исполнял свои жандармские обязанности.
– И вы все еще не признаете себя виновным? – недовольно спросил председатель.
– Не виновен я, высокий трибунал. Хотел отколотить Миколайчика, подлюгу, признаюсь, а что шпион я – неправда, это неправда! Трижды присягну вам – неправда!
Но как ни убедительно говорил Гнат, председатель только поморщился, а прокурор, жандарм и тот, что с бородкой, снисходительно усмехнулись.
Тогда поднялся адвокат и с дрожью в голосе стал спрашивать Гната, кто такой Миколайчик, был ли он пьяницей, не затевал ли с кем-нибудь драк, и можно ли было дубинкой, которой вооружился Гнат, убить хоть котенка, и знает ли Гнат, что такое шпионаж. В заключение торжественно произнес:
– Гнат Орестюк, Христос с этого распятия видит тебя и видит, что ты невинен и что чиста душа твоя, как чиста была его душа!..– и сел, не поднимая глаз.
Судьи, прокурор и жандарм возмущенно посмотрели на адвоката. То, что еврей посмел сослаться на Христа – и не только сослаться, а сравнить с ним какого-то мужика, да к тому же еще с оскорбительными для трибунала намеками,– все это решило судьбу несчастного Гната. И он, как будто чувствуя это, тяжело сел на скамью, безнадежно опустил голову и точно сквозь сон слушал то, что говорили свидетели: Миколайчик, комендант и пограничник. Он и не опомнился, как объявили перерыв и вывели его из зала. В коридоре к нему подошел адвокат и, не глядя в глаза, прошептал:
– Все будет хорошо. Успокойтесь, Орестюк.
Потом быстро сбежал по лестнице.
Тем временем члены трибунала столпились у окна, выходящего на тюремный двор, и с любопытством разглядывали термометр. Он показывал двадцать два ниже нуля.
IV
Когда после полудня начал говорить прокурор, в зале уже горели лампы и монокль мерцал золотой звездочкой. Прокурор говорил без обычного пафоса – заседание было закрытое, а на этого адвоката не стоило даже обращать внимания. В полчаса он успел обрисовать всю преступность натуры Гната и смертельную опасность, угрожающую молодой стране от таких дегенеративных типов, наемников иностранного государства, которое в пору глубокого кризиса пытается своими хищными щупальцами опутать мир христианской культуры и цивилизации, чтобы таким образом уничтожить в нем все прекрасное, доброе и возвышенное и оставить голого человека на голой земле. Во имя спасения мира Христа, которого, кстати сказать, несколько часов тому назад оскорбили в этомзале, прокурор призывал судей вынести приговор, который послужил бы святым огнем, выжигающим струпья на здоровом теле человечества. Закончил он призывом к судьям – изгнать, подобно древним римлянам, слабость из своих сердец, когда «Hannibalanteportas» [4]4
Ганнибал у ворот (лат.).
[Закрыть].
Адвоката слушал, вероятно, только Гнат,– только для него была интересна речь этого человека, пытавшегося головой проломить каменную стену. К тому же неинтересно говорил сегодня адвокат Любомирский,– потому ли, что он видел безнадежность дела, или потому, что чувствовал неравенство сил, выступая перед пустым залом. Когда он закончил, судьи зашевелились и, словно давно уже ожидали этого момента, быстро удалились на совещание. Прокурор пошел с жандармом выкурить папироску, в зале остались только Гнат с конвоирами и адвокат, растерянно листавший конспект своей никчемной речи.
У ног Гната стлались черные неподвижные тени конвойных, и тень была в его душе. Казалось, что век сидеть ему в этом зале и что тени вокруг него будут расти и расти, пока не покроют все вокруг, а тогда ночь, безнадежная ночь повиснет над Гнатом. Ему все теперь было безразлично, и казалось, что, если его присудят даже к пожизненному заключению, ему будет все равно. Даже мысль о Гапке только изредка приходила ему в голову, да и то как-то неясно, точно он забыл уже ее лицо, и где-то во мгле тонула его серая, нерадостная мужицкая жизнь.
V
Не прошло и двадцати минут, как трибунал вернулся и все расселись по своим местам. Председатель встал, поправил берет, откашлялся и гнусавым голосом, точно спеша куда-то, прочел приговор:
– «...Чрезвычайный суд... Гната Орестюка, тридцати двух лет, крестьянина... за террористическую и шпионскую деятельность... к смертной казни через повешение и покрытие судебных издержек... Приговор будет приведен в исполнение завтра, в пять тридцать утра».
Когда председатель кончил, его соседи кивнули головами, прокурор вынул из глаза монокль, потер его платочком и спрятал в карман, а офицер вздохнул и, вставая, заскрипел ремнями, как скрипит виселица. Адвокат побледнел и с ужасом смотрел в лицо Гната. А оно было прежним, только отразилось в нем какое-то огромное удивление. Гнат понимал каждое слово приговора и не понимал ничего. Это была слишком большая неожиданность для него, и он всматривался в судей, словно спрашивая, что это вздумали с ним делать и не шутят ли они. Но судьи не смотрели ему в глаза. Они быстро собрали бумаги и вышли в смежную комнату, чтобы сбросить тоги и на этом закончить на сегодня выполнение своих трудных и неинтересных обязанностей.
А Гнат еще долго стоял посреди зала, если бы не конвоиры. Они напомнили ему, что первая часть «парада» закончилась и ему пора возвращаться в камеру. В дверях подошел к нему адвокат, зачем-то пожал ему руку и сказал, что будет телефонировать президенту страны. Тогда Гнат что-то вспомнил и, не глядя на адвоката, несколько раз повторил:
– Ищите Гапку! Найдите Гапку!
– Будем всю ночь искать,– ответил адвокат, еще раз пожал Гнату руку и пропал во тьме коридоров, ощетинившихся в этот день штыками полицейских.
В камере узнали о приговоре еще до того, как Гнат вернулся из зала суда. Когда он вошел, все молчали. Он сел на свои нары, и тут только у него запылали уши и шея, и он ощутил, глубоко ощутил, что ему готовят неминуемую смерть. В камере была тишина, и он слышал, как бурливо переливалась в нем кровь, как толкалась о стенки жил, как будто и она знала, что завтра утром застынет уже навсегда. И в груди Гната что-то заскрипело, охнуло и вырвалось наружу долгим, нервным, неудержимым кашлем. Потом вновь наступило молчание, и хмуро, уставя глаза в землю, сидели арестанты по углам.
Открылась дверь. Гнату приказали забрать вещи и отправляться в одиночку. Он тяжело поднялся и стал надевать старый овчинный кожух, доставшийся ему еще от покойного отца. Но руки у него дрожали, и он не мог найти рукава. Тогда его сосед, сморщенный старик-бродяга, подошел к нему, встал на цыпочки и помог одеться. Гнат огляделся вокруг и молча пошел за часовыми.
VI
Было уже за полночь. Гнат сидел на табурете и, кто знает, который уже час ерошил свои белокурые нечесаные вихры. Его сердце не билось уже так тревожно,– должно быть, и оно утомилось и хотело отдохнуть. Гнат думал и не узнавал своих мыслей,– так они были необычны для него, так ясны и понятны, и только странно ему было, почему они родились у него так поздно и к тому же еще в такое время, когда думать ему оставалось всего несколько часов, а после этого придет смерть. Окно его камеры выходило во двор, и он слышал, как кто-то вгонял гвозди в дерево, и был уверен, что это для него готовят гроб. В гроб упрячут Гната Орестюка и зароют глубоко в землю, чтобы, чего доброго, не поднялся Гнат Орестюк, не встал и не пошел бы мстить за свою и не свою мужицкую обиду. Он теперь видел ясно, что недаром судьи потратили на него целый день, недаром отправили его на виселицу. Мозг работал теперь, как новая смазанная жнейка. Гнат открыл в себе целое море ненависти, дремавшей до сих пор где-то под сердцем, и был уверен, что они не могли этого не знать. Ему все представлялся трибунал, за ним он видел злобно улыбающегося Миколайчика, а за Миколайчиком в полутьме стоял помещик, а за помещиком в густой мгле он видел целую толпу миколайчиков и помещиков, и у каждого из этих миколайчиков и помещиков на груди были золотые кресты и медали, а на животе скрипели ремни. Все они смотрели на Гната, и Гнат видел в их глазах ту же ненависть, какую он открыл в себе. Они захватили Гната Орестюка в свои руки, и они должны были с Гнатом Орестюком покончить. Гнат Орестюк мог и должен был защищаться. Гнату Орестюку не следовало бояться пули, и, если уж он побоялся ее, ему не следовало теперь бояться виселицы. Гнат Орестюк тверд, он не из теста, и миколайчики с помещиками не могли из него ничего вылепить. Гнат колюч, он мог опасно уколоть, и Гната следовало уничтожить. Гнат Орестюк должен погибнуть.
Среди ночи вошел в камеру маленький захудалый попик. На его груди висел серебряный восьмираменный крест, и Гнату показалось, что он вторично очутился перед трибуналом. И тут он увидел, как попик прыгнул в толпу и испуганно смотрел на него из-за спин миколайчиков и помещиков, пока не исчез, почесывая редкую бородку. За попиком затворилась дверь, и сквозь глазок в камеру с любопытством заглядывала новая смена часовых. Гнат знал уже все и успокоился. Он мог, наконец, заснуть, и заснул сидя.
VII
Ранним утром Гната разбудили и сообщили, что президент отклонил его просьбу. В дверях камеры стоял прокурор, за ним председатель трибунала, офицер, начальник тюрьмы, часовые и какие-то незнакомые господа в дорогих шубах. Гнату велели приготовиться. Он хотел накинуть кожух, но ему этого не разрешили (кто знает, выдержит ли веревка тяжесть?). Тогда он хотел закутать платком шею,– у него уже несколько дней болело горло,– но и этого ему не разрешили сделать.
Когда его вели по узкому сырому коридору во двор, бледный адвокат, точно оправдываясь, сказал ему, что Гапку искали, искала и полиция, но не могли найти, что он не забудет о ней, будет помнить, будет искать. Гнат задержался, и с ним задержались все. Он растерянно посмотрел на адвоката, потом оглянулся вокруг, побледнел, покраснел и во весь голос стал кричать: «Гапка! Гапка!» Тогда ему связали руки за спиной и потащили вперед. А Гнат все кричал и звал Гапку, которая спряталась где-то за стенами, так что не присмотреть за ней, не повидать, не поцеловать ее отцу в последний раз... Звал Гнат Гапку, точно звал жизнь свою, которой через несколько минут придет конец.
Выйдя во двор, Гнат растерялся и умолк. Было еще совсем темно, снег падал большими хлопьями. Гнат понял, что если вешают его, мирного Гната Орестюка из глухих Самоселок, то что-то великое творится на свете и что Гапка и он, Гнат, ее отец, слишком малы перед этим великим. Гнат замолчал и не произнес больше ни слова.
Ему было холодно в одной куртке, он дрожал. Зрители заметили это и запахнулись получше в шубы. Когда Гната возвели на эшафот и стали вязать ему ноги, кое-кто подошел поближе к виселице. Было темно, а им хотелось получше разглядеть, как будет умирать Гнат. А адвокат Любомирский вбежал в сени и там затрясся в тихом, пискливом, истерическом плаче.
Гната поставили на табуретку и закинули ему на шею петлю. Он увидел перед собой толпу любопытных и узнал прокурора, и судей, и жандарма. Он различал во тьме их лица, не видел только глаз, словно они спрятали их, словно испугались ненависти, которую источали глаза Гната. Они ждали, когда Гнат закроет глаза. Но Гнат не закрыл их, даже когда у него из-под ног вышибли табурет, и, хотя петля сжимала шею и глаза от напряжения чуть не лопнули, он не спускал взгляда со зрителей, он хотел излить на них всю свою ненависть, он даже хотел сказать им о своей ненависти. Но петля все туже сжимала шею и не выпускала из горла последнего слова Гната. Тогда злоба и отчаяние, порожденное бессилием, охватили Гната, и потому, вероятно, перестало биться его сердце.
* * *
Еще пять минут мерзли господа перед виселицей. Виселица под тяжестью могучего тела Гната скрипела, а шпоры офицера позвякивали от нетерпения. Потом маленький толстый тюремный врач залез на эшафот, приложил ухо к груди Гната и сказал зрителям, что они могут уже идти погреться. Общество решило не ходить домой, а дождаться утра в кондитерской Дзеньцела, которая славилась каким-то особенным грогом.
* * *
Глаза Гната смотрели вслед ушедшим до тех пор, пока зрачки не залепило чистым пушистым снегом.
1932








