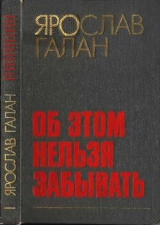
Текст книги "Об этом нельзя забывать:Рассказы, очерки, памфлеты, пьесы"
Автор книги: Ярослав Галан
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 32 страниц)
НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТРО
Передо мной новый (на 1932 год) календарь-альманах «Червоной калины», и, как всегда, каждая страничка его вопиет о крови, о безграничной классовой ненависти. Альманах «Червоной калины» задыхается от ненависти, от классовой ненависти к трудящимся.
На сто сорок третьей странице, где-то чуть ли не в самом конце объемистого календаря, затерялись две странички воспоминаний: Л. Веринский, «Над Ценивкой».
Крови здесь мало, вернее, совсем нет. Автор приступает к рассказу спокойно, без выкриков, без пафоса, просто так:
«Ценивка – маленький ручеек, текущий из Ценева неподалеку от Конюхов по узкой долине в сторону Потутор, что под Бережанами, где впадает в Золотую Липу».
Это была весна 1917 года. «Это было время радостных событий».
«Тогда на фронте началось «братание» (обязательно в кавычках.– Я. Г.),и война для УСС [6]6
Украинские сечевые стрельцы– националистические части, сражавшиеся в составе австро-венгерской армии в первую мировую войну.
[Закрыть] потеряла смысл».
«На фронте настало затишье. Только артиллерия время от времени затевала дуэль да патрули перестреливались. А по вечерам в окопах по ту сторону линии фронта раздавались песни. Наши отвечали.
Это происходило так. Какой-то неизвестный Петро выходил на бруствер и затягивал украинскую песню – длинную, протяжную. Его мягкий баритон катился эхом по лесу, очарованному сказкой весенней ночи.
– Эй, Петро! – окликали его с нашей стороны.
Петро откликался. Подходил украдкой к нашим окопам, приносил газеты. Первые украинские газеты. Какая радость!»
Была весна 1917 года, было братание, первые украинские газеты, и был Петро с той стороны. Он вставал во весь рост над окопами и затягивал украинские песни, долгие и протяжные. И больше о Петре ни слова. Был Петро, пел и носил газеты в стрелецкие окопы. Была радость, и пан Веринский забыл на радостях о неизвестном Петре с той стороны.
На фронте, у Ценивки, стояли сечевые стрельцы. Были у них старшины, и было мужичье – рядовые. С тех пор прошло пятнадцать лет, и было время позабыть многое. Мог забыть о Петре пан Веринский, могли забыть о нем солдаты. Но они не забыли. И не только потому, что Петро хорошо пел и приносил газеты. Были у Ценивки атаманы, были сотники, куренные и четари. У многих из них сверкали на груди блестящие кресты и медали, и о многих из них забыли. Но Петро, самый обыкновенный полтавский парнишка Петро, навсегда остался в солдатской памяти.
Недавно мне пришлось встретиться с бывшим стрельцом УСС, стоявшим со своей сотней весной 1917 года у Ценивки. Он читал червонокалининские воспоминания и очень жалел, что пан Веринский так мало написал о том времени.
У этого стрельца была хорошая память, и особенно хорошо он помнил Петра. И когда он рассказывал о судьбе Петра, глаза его заблестели, и я уверен, что он никогда не забудет ту весну.
Стрелец рассказал мне то, о чем умолчал альманах «Червоной калины».
* * *
«Шел уже третий год войны, а конца все не было видно. Но мы слушались своих старшин и, когда приходил приказ, дрались. С каждой неделей нас оставалось все меньше, но мы знали, что сражаемся с царской Россией, с тюрьмой народов и трудящихся, и мы бились до последнего, хотя чаще всего оглядывались назад, и тогда чувствовали, что и в том направлении устремлялась наша еще глухая и затаенная ненависть. Наши глаза видели все лучше, мы все больше понимали. Рядовые стрельцы хмурились, мрачнели; одни все чаще тосковали по дому, другие – по родне, а все – по тому, о чем тогда только робко и неясно думали и мечтали на ночных постах. Это был март, начало марта 1917 года.
Однажды мы загляделись на русские окопы. Там, в трехстах метрах от нас, поднялся необычный шум. Мы не знали, что там происходит, и удивлялись. Мы продолжали удивляться, когда на их колючей проволоке кто-то повесил флажок. Флажок был красный. Мы молча смотрели, а вдоль их окопов появлялись все новые и новые флажки, и вскоре все впереди заалело.
Только на другой день мы узнали, что у них революция.
Мы собирались толпами в окопах, по целым дням смотрели на восток и прислушивались. Ночи были лунные, и нам захотелось петь. Вот мы и затянули однажды вечером «Ой, місяцю, місячень– ку...» Кто-то выглянул и сказал, что русские вылезли из окопов. Мы встали на цыпочки и увидели за проволочными заграждениями несколько фигур. Русские стояли неподвижно, точно заслушались. Мы запели еще громче, во весь голос, и, когда кончили, месяц катился к горизонту. Мы еще раз посмотрели в ту сторону. Темные фигуры все еще стояли там, хотя песня отзвучала и было уже тихо. Месяц светил еще, и прицел был хорош, но никто из нас не отважился стрелять. Мы смотрели и словно ждали чего-то. Вдруг кто-то из них запел. Стояла такая тишина, что мы отчетливо слышали каждое слово. Это была украинская песня «Ой, у лузі, тай ще при 6epeзi, зацвіла калина». Пел один, а в глубине окопов подтягивали.
Нас удивило и пенье и то, что песня была украинская и что подхватили ее в русских окопах. Мы сразу почувствовали, что там, за вражеской проволокой, наши братья и что у них нет к нам ненависти, как не было ее и у нас. Мы хотели сказать им об этом и подхватили песню. Когда спели, месяца уже не было, и до нас донесся тот самый голос, который затянул «Ой, у лузi».
– Товарищи стрельцы, а ну еще какую-нибудь!
– Ты кто? – крикнули от нас.
– Украинец! Полтавской губернии. Петром зовут, товарищи стрельцы.
Было темно, однако мы видели высокого Петра и толпу солдат, высыпавших из окопов. Никто из наших не знал, о чем еще спросить, и снова стало тихо.
– Товарищи стрельцы! Мы больше не будем стрелять в вас – у нас ре-во-лю-ция! И царя у нас уже нету, и господ, товарищи, не будет. Мы больше не будем стрелять в вас. Да здравствует, товарищи стрельцы, революция!
Мы и тут промолчали, и только один из нас, в темноте не разглядели кто, крикнул было «Да здравствует...» – и осекся. Слишком мало мы думали до тех пор и слишком много узнали в тот вечер.
Чуть ли не до утра в окопах у нас гудело, как в улье. Мы возбужденно спорили, рассуждали. Подстаршины были того мнения, что Петра подослало русское командование, чтобы за манить стрельцов в плен. Мы не могли этому верить и ждали следующей ночи.
Весь следующий день на фронте было тихо.
С русской стороны даже артиллерия молчала. Мы уже не боялись пуль, смело выглядывали из окопов, искали глазами Петра. Вечером мы вновь услышали его голос, и началась беседа на расстоянии трехсот метров. Каждое слово Петра западало в душу; слова его были всякому близки и понятны и столько говорили нам, сколько мы не слыхали за всю нашу жизнь. Мы сознавали, что теперь все пойдет иначе, что с этих пор мы становимся совсем другими, чем были вчера, и что больше никогда уже не станем прежними. Мы слушали Петра и, оборачиваясь, встречали хмурые взгляды старшин.
Мы сговорились с Петром, что выйдем втроем, без винтовок, на берег Ценивки. Русских тоже будет трое.
Когда стемнело, они уже ждали. Тут мы впервые увидели Петра близко. Он был молодой, крепкий, красивый. Мы, как и накануне, долго говорили с ним, и он повторил все, что говорил прежде, а мы слушали и не могли наслушаться.
На следующий вечер нас пришло больше, их – тоже. Мы уже перекидывались шутками, хохотали, менялись харчами. От них получали хлеб и сало, им давали крепкий австрийский ром. Но Петро не ел и не пил, хотя старшины посылали ему самый лучший ром.
Старшины заинтересовались Петром не только потому, что он приносил украинские газеты. Адъютант полковника Кикаля Воютицкий тоже выходил на речку и внимательно слушал полтавчанина. Потом уходил в старшинскую землянку, и там шел долгий вполголоса разговор. Адъютант Воютицкий с тех пор полюбил Петра, стал приносить ему подарки, звать к себе в гости. Но Петро упорно отказывался и, когда ему совали что-нибудь в руки, говорил своим с улыбкой:
– Я не хочу, а вы, ребята, берите, ежели угощают.
Он был упорен и тверд и упорно твердил, что пора кончить войну и заключить рабоче-крестьянский мир. Среди нас были рабочие, а еще больше было крестьян. И, кажется, не было между нами никого, кто не хотел бы этого мира. Петро знал это и говорил, что, не сбросив царя, мир не заключить, что войну хотят только царь да господа и что они на рабоче-крестьянский мир добровольно не согласятся.
Мы слушали, думали и все крепче пожимали руку Петру и его товарищам. Все это видели и знали старшины, знали они и то, что никак не удается заманить Петра в наши окопы. Адъютант Воютицкий все чаще перешептывался со старшинами, а за ним, как тень, ходил командир пулеметчиков Турок.
Ясловно предчувствовал дурное, видя все более темневшие глаза старшин. Молодой красивый голос Петра звучал за речкой над полями, и я боялся, чтобы он вдруг не замолк, чтобы Петро с товарищами не ушел от нас. Яполюбил Петра и возненавидел войну и первый повернул бы винтовку в грудь того, кто захотел бы возобновить битву.
Началась буйная весна. Мы каждый день встречались с русскими, и они уже заходили к нам в окопы. Не заходил только Петро. Он уже на рассвете стоял в условленном месте над речкой и ждал нас. Так было всегда, так было и в тот памятный день.
Рано утром адъютант Воютицкий вызвал четырех стрельцов и отправился с ними на речку. Те из нас, кто не спал, видели, что Петро вышел уже на свое место с тремя товарищами и говорил с нашими, обращаясь по большей части к стрельцам. Ятогда стоял неподалеку от пулемета, и меня удивляло, почему это десятник Турок сидит у пулемета и набивает ленту. Япосмотрел на речку. Стрельцы и солдаты, пересмеиваясь, разговаривали. Только Воютицкий все оглядывался, точно искал что-то глазами. В этот миг пулемет дал один выстрел. Воютицкий что-то взволнованно скомандовал, наши стрельцы отпрянули назад, и в то же мгновение пулемет дал еще очередь. Широко открытыми глазами я видел, как солдаты, точно тяжелые мешки, упали в речку. И только Петро пополз в травуи вытянулся.
Адъютант Воютицкий надвинул мазепинку на лоб и побежал к землянке. Когда я оглянулся, у пулемета уже никого не было.
Стрельцы выбегали из землянок и, бледные, смотрели на речку. Потом начался шум. Мы собирались толпами, размахивали кулаками и бросали старшинам гневные слова. Обида, жалость, ненависть овладели нами, а по окопам бродили вооруженные с ног до головы грозные и угрюмые старшины. Как много узнали мы в этот день и как мало еще тогда было среди нас таких, кто знал бы, что делать! Старшины, живые, здоровые и надутые, ходили среди нас...
Ни в этот вечер, ни на следующий, ни на третий никто не пел ни у нас, ни у них. Кто-то из наших крикнул среди ночи:
– Петро!
– Петра нету. Ваши убили! – ответили русские.
Мы молчали, и только один едва слышно ответил:
– Это не мы!..
На другое утро на реку никто не вышел. Сейчас же после пасхи нас перевели под Конюхи».
Вот что рассказал стрелец о Ценивке, 1917 годе и Петре. Не правда ли, немного больше, чем пан Веринский? Впрочем, дело не в Петре. Петров тогда было много, немало их и теперь. И то, что они подымаются во весь рост, смущает разум кикалей и воютицких. Они день и ночь наводят на Петров пушки и пулеметы и будут убивать Петров, пока имеют возможность ходить среди нас живых, здоровые и надутые.
Петро говорил, Петро пел о революции...
1932
ШКОЛА
Грицко Гудало любит книжки. В его большом деревянном сундуке – целая библиотека. Там и Шевченко, и Конан Дойл, и «Моисей» Франко, и «Приключения Тома Сойера» Марка Твена. Каждая книжка аккуратно обернута в зеленую бумагу, на каждой старательно выведено заглавие и номер.
Все эти книжки Грицко читал уже дважды, а некоторые из них и трижды, всегда с тем самым глубоким, неповторимым волнением, на которое способны только дети.
Грицко Гуцало знает: книг на свете много, и не под силу одному человеку прочитать их все, но читать надо как можно больше, до самой смерти. Жизнь без книг представляется Грицку убогой, бессодержательной и тусклой. Это весна без цветов, это ночное небо без звезд.
В высоколобой голове этого хрупкого мальчика мыслей без числа, и не всегда он может разрешить возникающие у него вопросы. К примеру: как выстроить такой мост, чтобы по нем ходили поезда?
Как разрушить его, Грицко знает; об этом может вам рассказать чуть ли не каждый ребенок в его селе. Но Грицко хочет строить; Грицку за прожитые им годы снилось уже столько новеньких, ажурных мостов, что ими можно соединить континенты.
Вот почему Грицко так тоскует по школе. Этой тоске пошел уже четвертый год, ародилась она в тот памятный Грицку сентябрьский вечер, когда из Дрогобыча пришла немецкая бумага, запрещавшая к пятый класс, и шестой, и седьмой. Для Грицка это был незабываемый удар: обида будет жить в его сердце до самой смерти.
Но настал день, когда из Дрогобыча перестали посылать немецкие бумаги, авместо них письмоносец стал приносить украинские. В одной из них было всего несколько слов, но эти несколько слов стали для Грицка всем: он снова ученик шестого класса.
Но недолго он учился. Как-то серым, осенним утром отец разбудил Грицка и сказал: «Они подожгли школу». Мальчик знал, что значит «они». Он опрометью выбежал из хаты. Двухэтажное здание школы напоминало огромный костер. Под балконом, в вихре раскаленного воздуха, раскачивался на веревке, как язык колокола, человек с курчавыми волосами. Грицко узнал своего учителя и понял, что тот никогда уже больше не подойдет к нему в классе и большая, пропахшая табаком, рука никогда уже не ляжет ему на голову.
В этот миг Грицко проклял бандеровцев.
Он стал «ястребком». Отец, старый солдат, ветеран еще первой империалистической войны, вечерами муштровал его в хате, а ранним утром водил в березовую рощу и учил стрелять.
– Ты уже настоящий солдат,– сказал он сыну через неделю,– но при мне ты станешь еще лучше. Повоюем вместе.
И они воевали. Вместе отправлялись в засаду, вместе охраняли село. Грицко ждал своего боевого крещения, и ему уже казалось, что судьба глумится над ним. Прошел месяц, а она ни разу еще не свела его лицом к лицу с «бандерой».
А срок приближался. По селу бродил страх, он заползал под стрехи и по ночам тлел в человеческих глазах блуждающими огоньками. Однажды утром в хате, на краю села, не осталось ни души,– даже двухлетняя девочка не уцелела от звериной расправы: сгусток детского мозга прилип к щеке ее зарубленной тем же топором матери. Несколькими днями позже такая же участь постигла две другие семьи.
За что? Об этом никто уже не спрашивал. Об этом люди не спрашивали уже четвертый год, с того дня, когда по селу промчался на мотоциклах первый фашистский патруль.
В начале ноября по хатам поползли черные вести: на село готовится налет. Неподалеку в лесах появилась большая банда. Говорили: бандитов тьма-тьмущая, во главе немецкий генерал.
Грицко Гуцало знал, сколько во всем этом было правды. Банда насчитывала человек двести пятьдесят, и командовал ею не генерал, а самый обыкновенный лейтенант немецкой полиции. Но и этого количества головорезов было достаточно, чтобы село сгорело дотла, а жители его пали жертвой кровавой расправы. Все зависело от того, удастся ли бандеровцам застать «ястребков» врасплох.
Грицко не спал уже третью ночь. Покрасневшие глаза нестерпимо болели, лицо набрякло от холодного, сырого ветра. Как ни боролся мальчик со сном, это было выше его сил. Он все чаще клевал носом, хотя и не сдавался – натирал снегом лоб и шею, щипал тело до боли. И стоя– на вахте, Грицко не заплакал впервые за много-много его немногих лет.
А на следующее утро на поверке командир отделения сказал ему:
– Банда отошла. Ступай, парень, поспи!
Когда Грицко проснулся, вечерело, в иных хатах мерцали огоньки, село как будто возвращалось к обычной мирной жизни. По ту сторону реки, на хуторах, стонала скрипка, и глухо бренчали цимбалы – это была первая свадьба в ту осень.
Грицку захотелось потанцевать. Наскоро пообедав, он закинул за плечо винтовку и отправился на хутор.
На мосту стоял часовой. Грицко узнал отца. Старик был не в духе. Сын не любил его таким.
– Тебя там только не хватало! Все в одну хату. Придут бандеры – как мышей вас передавят...
Грицко не ответил. Он знал по опыту: в таких случаях с отцом лучше не препираться. Вдруг мальчик вспомнил, что у него было только пять патронов. Однако возвращаться было стыдно. Отец заклевал бы его своими попреками.
Крутая тропка вела на пригорок. Мальчик окинул взглядом снежную равнину, за которой чернели леса. На едва видневшийся из-за тумана месяц наползала тучка, страшилище с лохматыми щупальцами. Надвигалась вьюга.
Снежная пустыня лежала перед взором мальчика немая и скорбная. Ничто не шевелилось, только невесомые тени туч плыли по ней, исчезая во мгле.
Порывистый ветер обжег лицо, и тут Грицко услышал что-то похожее на отдаленный человеческий голос. Это длилось один миг, вслед за тем снова зазвучала музыка и земля задрожала от ритмичного перестука каблуков, на этот раз отбивавших польку.
Грицку стало холодно, по спине пробежали мурашки. В ушах все еще звенел далекий голос. Мальчик хотел было бежать в хату – кликнуть «ястребков», но мысль, что его могут поднять на смех, сковала его движения. В самом деле – мало ли что могло ему почудиться после трех бессонных ночей?
Он ощутил что-то подобное страху. Щеки мальчика пылали от стыда. Он снял с плеча винтовку и пошел вперед вдоль полу заметённого снегом кустарника, тянувшегося по долине.
Возле дуплистой вербы над родничком он остановился. Сюда не долетали уже звуки музыки, и только ветер тихонько шумел в ветвях.
Вьюга усиливалась, стремительные снежинки кололи Грицу щеки.
Мальчик боялся одного: чтобы бандиты не подошли внезапно к хате, где пировали «ястребки». Хата стояла на отшибе, и в эту пору нетрудно было подкрасться к ней незаметно.
Правда, по всем данным, банда еще вчера отошла на север, но едва слышный оклик с равнины настораживал. Грицко знал, с кем имеет дело: эти двуногие волки были опаснее своих четвероногих братьев.
Мир окутала темень, и, казалось, разбушевавшейся снежной стихии нет ни конца, ни края. Проходили минуты, ветер крепчал. Грицка знобило. Он пробовал согреться с помощью воспоминаний о мужественных героях Джека Лондона, об отважных путешественниках, которых день и ночь жгло ледяное дыхание Севера, однако не мог забыть н о том, что их защищали меха из волчьих шкур, а на нем только подбитая ветром шинелька...
Его уже грызли сомнения. Далекий голос с полей мог быть обыкновенным эхом оклика, раздавшегося в селе и отраженного холмами. Так, верно, это и было. Грицко знал повадку бандеровцев: они были хитрее рыжих псов из книжки Киплинга и подкрадывались к своим жертвам тихо; тише, чем хорек к курятнику. Слух обманул его.
И все же он не двинулся с места: что бы там ни было, он простоит здесь до самого рассвета, борясь со стужей и сном,– иначе сердце его не успокоится. Он был солдатом и мстителем и таким останется до тех пор, пока не засияют снова огни в хатах, пока люди не смогут ходить на свадьбы с беспечальными песнями, пока топоры не примутся вновь рубить дрова вместо детских голов, а учителям не надо будет расплачиваться мученической смертью за то, что они учителя. Мальчику, как всегда в тяжелые минуты, казалось теперь, что на него смотрит весь Подбужанский район, а может, кто его знает, и вся Украина.
Музыка смолкла. Еще одна мертвецки тихая ночь легла на измученное село. Ветер вдруг прекратился, и вновь пошел снег, медленно покрывая землю ровным пластом.
Перед глазами Грицка что-то заколыхалось. «Ястребок» вздрогнул. В двадцати шагах от него появился человек, за ним другой, третий, четвертый. Пока из-за кустов вынырнул пятый, Грицко знал уже, кто перед ним. Это были бандеровские разведчики; за ними, чуть левее, в двухстах шагах отрывалась от земли цепь!
Сердце у мальчика заколотилось. Отступать было поздно, но он мог прижаться к вербе и головорезы прошли бы, не заметив его. Но за спиной у Грицка было село, малые дети, их родители, Грицко не предаст их, он и вообще не знает, что такое измена, как не знал когда-то этого слова Ричард-Львиное сердце. Пусть бандеровские пули изрешетят его, но первый выстрел даст он, и этот выстрел подымет на ноги все село.
Он недолго целился – на это не оставалось времени. Спокойно нажал спуск, и выстрел громом прокатился по холмам. Передний бандит взмахнул руками и упал навзничь. Другие залегли, но, пока они открыли огонь, Грицко успел уже занять выгодную позицию за желобком с замерзшей водой.
В затворе его винтовки было четыре патрона. Их следовало беречь. Это были последние капли воды во фляжке путника, очутившегося посреди африканской пустыни.
Пули бандеровцев злобно постукивали о корни вербы. Когда один из бандитов попробовал подняться, Гриц выстрелил вторично и – промахнулся. Выстрелил еще – с тем же результатом. Где-то слева откликнулся автомат, и после этого сразу наступила тишина.
Гриц не спускал глаз с бандитов. Они, оставив тело убитого, медленно отползали.
Грицко осторожно встал и, спрятавшись за вербу, бросил взгляд на овраг. Цепь бандитов быстро продвигалась вперед, до села им оставалось не более трехсот метров.
Дорога была каждая секунда. Низко пригнувшись, Грицко побежал вверх. Он во что бы то ни стало должен опередить бандитов!
«Неужто в селе не обратили внимания на перестрелку?» – подумал он в отчаянии. Прицелился снова и выстрелил. Словно издеваясь над ним, бандиты не отвечали. По обе стороны тракта цепь вдруг разорвалась, и человек двадцать бандеровцев скрылись в придорожных кюветах. Они пройдут еще двести метров и молниеносным броском захватят мост. Что дальше будет, Гриц не хотел и думать. Картина пылающей школы и висящего под балконом учителя так и маячила у него перед глазами.
Мальчик чуть не заплакал от гнева и обиды. Бандиты подходили уже к реке. Месяц, выглянув из-за тучи, осветил их правый фланг на противоположном холме: там бандеровцы приблизились к первым хатам, почти на расстояние револьверного выстрела.
Грицко знал, чем это пахнет.
Ровно через минуту они скроются в садах, а еще через минуту вспыхнут первые овины и сквозь стрельбу послышатся крики истязаемых людей.
Он в ярости стукнул винтовкой оземь. Оставалось только одно – кричать. Грицко поднял уже ладони ко рту, когда над хатами взвилась ракета, а следом за нею весь край села заискрился и огласился залпами винтовок и клекотом автоматных очередей. Пулемет откликнулся, когда бандеровцы вылезли из кюветов и устремились к мосту. Их скосило первой же очередью.
Грицко был на седьмом небе. Рискуя угодить под огонь своих, он стремглав несся с холма. Через минуту «ястребок» был уже в кювете. Перед ним лежал мертвый бандит с зажатым в руке пистолетом.
Этого только и надо было Грицку: примостившись за кустом шиповника, он посылал короткие прощальные очереди вслед удирающим бандитам. А потом вместе со всем почти селом поднялся в атаку. Ветер стеснял его дыхание и глушил радостный возглас – возглас бессмертного Уленшпигеля: «Ура! Победа за гезами!..»
1945








