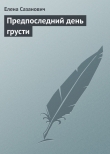Текст книги "По ту сторону грусти (СИ)"
Автор книги: Янина Пинчук
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 26 страниц)
"Забавно, действительно забавно!" – думала она со злобненьким равнодушным удовольствием, выслушивая упрёки прокурора Казакевича. Хорошо, что собралась заранее до начала мессы, а если и опоздает, ничего страшного: такой шанс узнать о себе много нового нечасто выпадает.
"Я давно подметил в нашем общении одну особенность..." – начало уже не настраивало на добрый лад.
Да-да, есть главная сторона, а есть подчинённая, есть бездушная самовлюблённая красотка, гораздая морочить голову, а есть искренний, и совсем не легкомысленный, а зрелый человек, готовый предложить ей – хорошо, не семью, но тёплую и нежную дружбу. Но для неё он не более чем шикарный аксессуар – и правда, если она знается даже с министром иностранных дел, а от кавалеров (неважно, какого пошиба) нет отбоя – с чего бы ей дорожить хорошим человеческим отношением? С чего бы ей сопереживать, интересоваться – хотя его интерес и комплименты можно (и нужно, да-да) принимать как должное. Она ленится даже на печатные знаки – пишет ему скупо и чисто для приличия.
Ей довелось услышать много вариаций на эту тему. Она растянулась на диване, неприлично закинув одну ногу на спинку, а телефон поставила на громкую связь и пристроила у подушки. Попутно беззвучно хихикала, потому что переводила адресованные ей слова с языка ядовито-светского на влюблённо-переживательный и не могла сдержаться. Ну надо же, свезло так свезло. В неё втюрился важнецкий персонаж. Очень вовремя, да.
Неторопливый, но густой словесный поток иссяк. Наступила пауза, тревожная и средитая.
– Алё! Алё?! Да вы меня слушаете вообще?
– Я вас слышу, – медленно выговорила Алеся.
Ещё четыре секунды. Вздох.
– Алеся, мне, конечно, хотелось бы, чтоб я оказался неправ. Просто у вас и так очень своеобразная манера держаться...
Он нащупывал удачное определение и произнёс что-то об авторитарности и своенравии. Алеся снова фыркнула. Класс. Можно засчитать за комплимент.
– А последнее время вы и вовсе переменились. Но я повторяю, я б хотел ошибаться. Может, у вас какие-то неприятности?
Слава те, Господи. Дошло. Извини, но свой шанс ты профукал, когда сыпал обвинениями. Из роли не вышел, наверное.
Алеся поднесла телефон к уху и ледяным тоном отчеканила:
– Михаил Семёнович, я бы хотела и дальше сохранять с вами нормальные отношения. Прежде всего, рабочие. Но сейчас у меня нет ни времени, ни сил для того, чтобы тратить их на вас. Прошу меня извинить.
Ничего не слушая, она положила трубку и отключила телефон.
Как влюбился, так и разлюбит. И как он вообще смеет лезть ей под руку, когда её сердце и мысли заняты другим, несравнимым по значению?
Алеся поднялась и, чуть огладив китель перед зеркалом, вышла, резко щёлкнув замком.
Радоваться или нет? Был период вдохновенного увлечения, был период разочарования, был период равнодушия с нотками вины и ностальгии. Но сейчас только в храме она и могла находиться, только туда и стремилась.
Как-то на литературном вечере выступал один поэт. Его стихи раскачивали шаманским ритмом, а бессодержательной философичностью напоминали мантру. Запала в память одна строчка: "Начало и есть конец". Она долго валялась на задворках, а сейчас её услужливо подсунуло подсознание. И Стамбровская переходила дорогу к костёлу Имени Пресвятой Девы Марии, беззвучно шевеля губами: "Начало и есть конец".
Может, суеверие, но одета она была так же. Так, как в первый раз, когда выясняла для себя главный вопрос – и решила его окончательно, только Влада ведь об этом не знала, боже, и не стоило на неё так ополчаться, она просто не тверда, не тверда... Но какой прок от этой "твёрдости", в том ли дело? – есть страшное противоречье, и даже болезнь не стёрла его из памяти. Наоборот, в горячке преследовали образы: кошмар приобретал уродливо обнажённые формы.
На мессу Алеся всё равно опоздала.
Но она едва слушала. На колени опускалась машинально, крестилась без чувства. Слова проповеди пропускала мимо ушей: не в них было то, за чем пришла. И она огорчилась, и слеза по её щеке сползла не от умиления, а от ожесточения и досады. Не хватало лишь проявить к ней вот такую, советского очерствения достойную грубость: этой духотой, этим ужасным польским акцентом у ксендза... Ища утешения, она закрыла на минутку глаза и решила впускать в себя только орган. Его низкий переливчатый голос потихоньку просвечивал истончившееся тело лучами нот – и даже когда она подняла веки, всё потихоньку начинало расплываться. Что именно? – всё. Точнее было не сказать. Алеся не успела – и не хотела пугаться. Это было совсем не то же, что на кладбище.
Она осталась одна во тьме. В призрачном голубоватом сиянии выступили тонкие нервюры, и алтарные зубцы, и кружево; казалось, это цвет самой мелодии, именно орган своим звучанием испускает свечение.
Алесе показалось, что где-то под невидимыми сводами витает эхом ещё и пение – высоким чистым голосом. Но источник его был бесконечно далёк.
И вовсе не за музыкой пришла сюда Алеся. Хотя она стояла неподвижно, и могло показаться, что она именно вслушивается.
Под ногами её пробежали невидные искорки, и слабым шафраном замерцали стыки между плитками. Алеся медленно сделала несколько шагов к алтарю. Свечи медленно взмыли со своих мест и витали теперь светлячками в воздухе. Нездешним тусклым светом зазолотилось монументальное распятие. Всё остальное терялось в синей мгле.
Алеся задрожала. Она никогда не испытывала ничего подобного. Она не назвала бы это ни страхом, ни подавленностью, но её всю пронзала, как стрелами, неведомая, невидимая Сила; пред лицом этой Силы она была прозрачна и раскрыта, и только с чистым сердцем могла стоять здесь, посреди грандиозного таинственного храма. Но она и не собиралась утаивать ничего – ни горечи своей, ни смятения.
Уже без криков и экзальтации Алеся всё увидела с беспощадной ясностью, как сложный стройный рисунок или начерченный в атласе путь – и обжигающе чётко осознала, насколько же ей больно и плохо.
Да. Министр ей открыл, кто она. Но даже тогда, после первого кровь леденящего боя, она толком не вникала, что это значит. Не понимала и потом, когда сотрудничала с "органами" и помогала одолеть зарвавшихся казнокрадов. Инквизитор – красивое слово, завораживающе грозное. И она носила его, как орден в петлице.
И только теперь со всей глубиной отчаянья, ощущая Присутствие, Алеся понимала, что значит – быть безмолвным орудием.
Это почитается за честь. Да будет воля Твоя – и я её исполню. Алеся её гордо выполняла, когда казнила государственного изменника Вышинского, но сейчас...
Ноги ослабли, и она упала на колени. Пение в невидном запределье стало отчётливей и пронзительней, и по лицу у Алеси заструились слёзы. И она выговорила про себя: "Господи, за что Ты с нами – так?!.."
Вышинского она действительно казнила – церемониально, как палач. Но сейчас она наносила удар в спину. И никто не понял, что случилось. Не понимала даже она сама, вот в чём было горе.
И каков расчёт! Что и говорить – Божественный расчёт. Так непостижимо утончённо, и столь же изящным методом, который именуется попущением. Господь попустил, чтобы она овладела невиданной мощью и блеском её привлекла неистового аль Сабаха. Господь попустил, чтобы она прикипела душой к Андропову: так, чтоб они сливались до неразличимости и чтоб страшный удар достался ему. Господь попустил, чтобы её привлекла личность председателя. Чтобы она полюбила его. Чтобы они могли встречаться. В конце концов, Он попустил, чтобы она овладела этой одиозной профессией – "атташе по связям со сверхъестественным"!..
Алеся не могла встать. Казалось, она разбита на тысячи осколков.
Она была сокрушена – ей досталась роль истязателя. И горечью на губах проступала кровь вместе со словом: "виновна".
Каково это – понимать, что вся твоя жизнь принадлежит не тебе, все поступки, и стремления, и мысли ведут к цели, что намечена не тобой? И ничего не значат твои желания, мечты и горение сердца.
Ей не хватало сил протестовать. Но с безжалостной резкостью проступило постижение, что именно сейчас нужен бунт. Именно сейчас она могла бы... и стоило отказаться от веры. Ведь если с ней и дорогими людьми творят такое?
Она не ощутила чуждого дуновения под сводами храма, ни тени не мелькнуло меж колоннами, не шевельнулись огоньки свечей. Мятеж назревал у неё внутри. И темнота, спасительная и чёрно-лучезарная, рвалась из Алесиной груди.
И она рывком бросилась на пол и простёрлась во весь немалый рост, и снова слёзы, теперь такие частые, беззвучно капали на холодные плиты, и била дрожь, и Алеся молчала – изо всех сил она давила и крушила пепел слов, кружащийся в голове, не давала серым чешуйкам собраться и ожить.
Словно обручем сжимало лоб и грудь, и вот наконец в тёмную пустоту хватило сил вбросить новую, свою трепещущую птицу: Алеся мысленно произнесла и губами онемевшими, точно скованными льдом, прошептала неслышно:
– Да будет воля Твоя...
И тусклый, тончайший золотой обрывок был подхвачен, она крепко его держала и вокруг него наговаривала всё положенное:
– Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое...
Забывая о слабости и точно заново припоминая движения вместе со словами, Алеся выпрямлялась. Она сделала первый шаг, неверный, слабый, за ним другой – и медленно пошла к алтарю.
В тот момент она видела себя со стороны, как в кино: высокая и бледная, порывисто-стройная фигура в чёрном глухом мундире.
У неё многое сливалось перед глазами из-за мигавшего роя свечей, но Алеся всё равно заметила: одна из них, что колыхалась у правого плеча, почему-то не зажжена. Алеся протянула за ней руку и бережно сжала в пальцах, как стебель хрупкого цветка. Она не особенно понимала, что с ней делать, было боязно ловить другую и зажигать от её пламени: взятую свечу Алеся опасалась поломать. И немного растерянно, но с робкой надеждой глядела на неё. И наконец фитилёк расцвёл янтарным огнём.
Сердце забилось чаще. В волнении Алеся подошла к алтарным ступеням и увидела, что перед нею что-то лежит. Она различила до боли знакомые очертания: длинный, холодно сияющий клинок, крестовина с чуть приподнятыми дужками и скромное навершие; красное поле, на нём серебристый шестиугольный крест. Её меч и щит.
И что-то разом всколыхнулось, она поразилась: вот ведь оружие её борьбы и протеста. Вот её революция. Её мощь. Каким примитивным и самоубийственным суждением надо обладать, чтобы не разглядеть истины и переметнуться за баррикады...
Ей снова пришлось отказаться от тяги к называнию. Потому что разыгравшееся в её уме и душе было невыразимо, и совсем не радостно, но прекрасно – и так же сложно, как россыпь и поток бесчисленных органных нот. Алеся стояла, держа у груди зажжённую свечу и – нет, не думала. Она звучала. Это была мелодия страдания и искупления и свободы, дарованной тогда, когда от неё отказался.
Опомнившись, Алеся вздохнула и подумала, что сейчас ей только это и нужно – пропускать через себя поток. А безупречнейший анализ стоит оставить на потом. Пока же она произнесла самое простое, что пришло ей в голову:
– Боже, помоги мне сделать всё, как надо.
И отпустила свечу. Тепло мерцая меж других огней, она медленным корабликом поплыла к распятию.
Потом оставалось очевидное: Алеся подошла и подобрала своё оружие. И снова удивилась, что оно так легко для неё, хотя на самом деле должно бы оттянуть руки. Ей показалось, что в храме стало светлее: она теперь различала и нефы, и ряды скамей, когда шла к выходу. И двери сами распахнулись перед ней, и в лицо хлынул тёплый, шумный, пахнущий воском и ладаном свет...
Глава двадцать третья
Последние встречи
– Да вы вообще стыд потеряли?! Кто же спит во время мессы! Вот бесстыдница, вот... вот... иди в другое место, если не проспалась!
Старушке не хватало слов от возмущения, она трясла пронафталиненной шляпкой и чуть не клацала узкими вставными зубами. На неё укоризненно шикали с соседних мест.
Алеся удивилась, насколько безболезненным было возвращение от такого глубинного, поразительного видения. Если не считать мелкой яростной тряски за локоть. Ох, да. Церковные бабки – они везде одинаковые. Что в виленском барокко, что средь византийского золота, не говоря уж о параллельных мирах.
А злиться почему-то не хотелось. Насколько мелочны были эти вздорные приставания (да, а почему старушке не пришло в голову, что Алесе плохо, что она больна?) – и они не могли иметь никакого значения. Тучи булавочных стрел даже не отскакивали – они скользили по её душе и осыпались мимо.
Алеся ответила широчайшей, светлейшей улыбкой (вот, наверное, издевательски вышло), молча встала и направилась к дверям. Хотя служба ещё не кончилась. Удивительно, ведь там – во внутренней обители – Алеся прожила свою маленькую вечность.
Она снова испытала дежа вю, но без буквальности. Старая улица обретала сходство с акварелями минских художников – они были обычными, эти акварели, но милыми, ничуть не пошлыми, очень всегда просились и в кафе, и в учительскую, и на стену в гостиной, да-да, лучше всего над пианино. Приглушённые оттенки осенней сепии. Дивное, чисто сезонное сочетание прозрачности и насыщенности. Влажность – печальная и растроганная, словно не от мороси, а от полонеза Огинского, сама собой проступившая.
А она этого так давно не замечала. И перемены не бросались в глаза, и краски. Боже, вот уж действительно нездоровье, если она утратила свою чуткость и способность видеть. Нехорошо, когда взгляд – только внутрь. А сколько всего красивого, даже ничуть не связанного с её личными переживаниями. Просто грустного и прекрасного.
Что-то нарушало пейзаж. Наверное, одно лишь цветовое пятнышко: аметистово-сиреневый среди серого, рыжеватого, антрацитного, чёрного, умбры.
– Эй, Алеся!
– Лора!
Она сбежала со ступеней храма и обняла подругу.
– Да вы что, сговорились, что ли?!
– У меня получилось! Нарочно причём! Сознательно!
– Блин, да это дурдом! Я с ума сойду!
– Я ощутила сигнал, что с тобой какая-то беда.
– Ну точно, это заговор!
– Ты о чём? У тебя вид и правда – краше в гроб кладут.
– Да, Лор, я болела. Но вот выздоровела. Честно. Вот только что.
Дождик словно раздумывал, перейти от измороси к ливню, или так сойдёт. Он был нерешителен. Но мелкие капельки всё чаще оседали на стриженых и крашеных головах: сиреневой и графитно-пепельной.
– Пошли куда-то сядем. Только не ко мне домой, там кошками разит и бардак ужасный.
Несколько минут – и они уже возле окна неизвестной кафешки заворожено смотрели в круглый стеклянный чайник, где заваривалась таинственная флора.
– Как у тебя вышло, вот что скажи?
Лора пожала плечами.
– Э-э, ну как бы это... Я просто открыла твои рассказы и начала вчитываться.
– Really?! – с нарочитым акцентом фыркнула Алеся.
– Да. Я хотела представить и понять, что герои чувствовали, как настраивались, да что вообще для этого надо. Причём не обряды или заклинания – а что должно внутри происходить.
– Ты права, – отозвалась Алеся чуть рассеянно. – Вот это-то – самое главное.
– Ну, и как-то удачно сложилось, оно само у меня вышло. Ты извини. Я правда нетерпелива. Ну, я понимала, что у тебя тут происходит что-то серьёзное, и вот не выдержала! Может, расскажешь? Тогда, на Белорусском, ты меня напугала, честно. Вот я и решилась прорваться, дня четыре пыталась.
Алеся была совсем смущена. Краснея и крутя на пальце колечко, она подумала: "Нет, ну какие у меня всё-таки друзья! Я такого не заслуживаю". Но сдержалась и с улыбкой пошутила:
– Ну что ж, поздравляю! Первый прыжок, да ещё без инструктора, и полностью удачный.
– Спасибо. И всё-таки расскажи, что происходит, – настойчиво повторила Лора.
Алеся вздохнула, оперлась щеками о подставленные руки, помолчала, собираясь с мыслями. И обстоятельно рассказала о событиях последнего времени, которые вращались вокруг одного и того же: её переживаний из-за Андропова и попыток помочь. Первая попала в разряд запрещённых приёмов, несмотря на милосердное намерение. Из-за второй всё начало рушиться, одно за другим: работа, репутация, отношения с людьми, вплоть до безобразной ссоры с Владой, здоровье душевное, потом и физическое. Но главное: Алеся поняла, что за страдания Юрия Владимировича она может казнить только себя саму.
Когда был обрисован самый главный поворот этой истории, Лора только и смогла произнести:
– Ну, дела...
Она поднесла ко рту чашку, но поставила обратно, будто не уверенная, сможет ли сделать глоток. От услышанного заняло дух.
Стамбровская напряжённо смотрела на подругу и мысленно начала отсчитывать секунды: только это помогало понять, что прошло не так много времени, это для неё оно невозможно тянулось, царапая наждаком. Ей показалось, что в Лориных глазах успели смениться и недоверие, и изумление, и, наконец, страх. Только бледное, мимолётное отражение того страха, что пережила она сама в тайном храме при постижении Замысла.
– Тогда я всё понимаю, – тихо проговорила Лора. – Только не стоит так себя истязать.
У Алеси дрогнул угол рта. Ну а что ещё сказать? Что делать?
– Что будешь делать? – эхом мыслей отозвалась Лора.
Алеся посмотрела в окно. Холодный дождь змеился по стеклу, размывая заплаканный городской пейзаж. И, снова обернувшись к подруге, она ответила:
– Ничего. Будем жить.
Они так и не пошли на квартиру, а, ёжась под брызгами из водосточных труб, погуляли немного по окрестным кварталам. Угодили в затишье – повезло. Потом снова стало накрапывать. Девочки решили, что Лоре пока лучше вернуться домой, если не хочет простудиться. Переход совершили в тёмной высокой арке. В Москве Алеся провела подругу до станции Кузнецкий Мост и снова поздравила с удачным перемещением.
Вернулась на то же место. Обыденно зашагала на улицу, нашаривая зонтик в глубине сумочки.
Прохожих попадалось мало. Алеся только заметила, что листья почти все облетели – странно, а ведь только недавно они так золотились. Город казался осиротевшим. Она каким-то чудом выхватила из свежей памяти кусок этой невыразительной, скомканной мессы и вспомнила, что завтра Деды. На кладбище она не пойдёт: не к кому. Зато сегодня отправится к Андропову. Эх, скорей бы! – как дотерпеть до сна?
А там, как в один из прошлых разов, сад ещё играл яркими красками. Гремя сухим листом, она даже по дорожке не пошла, кинулась наперерез.
– Я уж думал, ты совсем меня забыла, – улыбнулся Юрий Владимирович. – Да, говорил я это и раньше. Просто каждый раз тоскливо без тебя.
Они обнялись, стоя на веранде. Алеся прильнула к его уже вовсе не пышной, но мягкой, горячей щеке, и закрыла глаза. На нём была тёплая домашняя кофта, и это как-то растрогало, а может, не это, а то, как он к Алесе прижался. Это именно так и ощутилось: что Андропов не её прижал к своей груди, а сам приник. А ещё у него сильно билось сердце.
Наконец Алеся отстранилась. Юрий Владимирович посмотрел на неё, держа за плечи, точно желая полюбоваться, но тёплая радость на его лице потускнела, глаза блеснули обеспокоенно.
– Алеся, ты как-то неважно выглядишь. Что стряслось?
Она спохватилась: да, забыла, засыпая, сосредоточиться на внешности. Но не это её расстроило: видно, не она одна забыла, как можно управлять своим обликом в мире снов. Ей казалось, что она не виделась с Андроповым целую вечность – и теперь ей снова бросились в глаза происшедшие с ним перемены, и от этого становилось больно.
Обаятельный толстый мальчик, который так её умилял, остался на прежних снимках – нет, теперь он напоминал старого усталого профессора. Лицо его сделалось даже в чём-то красивее, наверное, благороднее и тоньше. Но оттенок кожи был болезненный, желтовато-бледный, а в глазах, стоило ему забыться на долю секунды, проступало утомление и грусть. Волосы сильно поредели и поседели. Ещё казалось, что он с трудом преодолевает вялость рук, а пальцы даже чуточку дрожат.
А стоило ли снова припоминать, с чего началось это разрушение...
Алеся не выдержала, и по щекам у неё поползли две слезы, горячие и большие.
– Ну что ты, что ты? – взволнованно спрашивал Андропов.
– Да вот! – воскликнула Алеся и по-детски шмыгнула носом. Помедлив, она кашлянула. – Представляешь, я тебя ругала, как последняя мегера, за то, что себя не бережёшь, а сама-то что? Так бездарно отравилась! Да знать бы ещё, чем! Но на целую неделю свалилась, и видеться с тобой вообще не могла. Мне если сны и снились, так только кошмары, бред какой-то. А сколько здесь времени прошло, месяца два с лишком? – вот видишь...
– Хорошая моя, но теперь-то ведь пришла? Зачем же сейчас так огорчаться? – пожурил её Юрий Владимирович. – Пошли лучше чай пить. Расскажешь, что да как.
– И ты.
– Конечно.
Они прошли в комнаты. Алеся на ходу тронула Андропова за рукав и сказала:
– Но теперь я постараюсь чаще приходить.
– Как же это получится? – удивился он.
– Неважно. То есть... я сама не знаю. Но придумаю, обязательно!
Придумывать надо было срочно.
Алеся начала с квартиры. Раздёрнула занавески, бесстрашно распахнула окна и балкон в туманную стынь. Перемыла полы, выгребла мусор (удивительно, сколько его повсюду затаилось), протёрла пыль, поменяла бельё, разложила всё, расставила и выстроила, как солдат на плацу. Закончила самой собой: приняла душ и выпила чаю на брусничных листьях.
Со своим организмом она тоже решила сделать попытку примирения. Последнее время душа и тело состояли в напряжённых отношениях, и Алесина загнанная оболочка становилась и в самом деле бренной. Это никуда не годилось. Нет, она не "взялась за ум", дав обет здорового образа жизни. Просто Алеся понимала, что силы ей очень нужны и стоит поддерживать себя в форме.
На самом-то деле сердце ныло, хотелось торопиться, лететь, бежать. От бессилия сжимались кулаки. С волнением нутряная боль за поясницей теперь была жесточе.
Но Алеся как-то раз собрала всю свою волю и засадила себя за раздумья. Выключила музыку, отложила телефон. И постаралась без спешки и без пощады всё продумать и просчитать, даже сознавая, что старания эти обречены на провал. Просто к такому – к такому никогда нельзя подготовиться. Хотя вроде у некоторых получается. Она терялась в догадках: а все эти люди, про которых читано и слышано – были они мужественными, беспристрастными? Было у них завидное самообладание? Или такая же мятущаяся душа, полная сомнений голова? Никто ответить не мог. И Алеся догадывалась, что эти умозрения просто уводили в сторону, беспомощно и наивно отвлекали её от страшного. И, невесело усмехнувшись, она снова тянулась за скальпелем аналитических рассуждений, пытаясь разобраться в ситуации. Потому что хоть какой-нибудь, приблизительный план – лучше, чем вообще никакого.
Нет. Это не сессия. Здесь не выедешь за счёт ущемления: то сна, то питания, то ухода за собой. Всё должно быть идеально. Алеся так решила.
Она нашла в себе силы сосредоточиться на работе – да-да, кои-то веки! Попутно ужаснулась: где-то там, когда-то там она незаметно проскочила границу, после которой любимое дело, о котором столько лет мечталось, превратилось в тяжкий крест. Ещё оказалось, пока она "любила и страдала", от неё уплыли целых два проекта, не особенно больших и эпохальных, и всё равно было обидно. Алеся нахмурилась и закусила губу. Теперь приходилось догонять и доказывать, что она не выпала из обоймы и не сошла с дистанции.
Обойма, кстати – до чего номенклатурное слово. Видимо, в неё это тоже накрепко въелось. И не только потому, что с кем поведёшься, от того и наберёшься. Просто по признаку рождения. По факту свежего наследия. А ведь Алеся и сама была made in USSR, хотя хронологически – чисто номинально. А сейчас, закусив удила и пришпоривая себя изо всех сил, она, казалось, очень хорошо понимала Юрия Владимировича.
Чем закончится эта гонка с самим собой? Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее...
Алеся стала тщательнее относиться к внешности. Теперь это ей лучше удавалось, гораздо меньше напоминало её недавние лихорадочные попытки. Она оглянулась чуть назад, вспомнила, во что одевалась, и устыдилась: всегда могло найтись что-то выдающее – то чулки не в тон, то странная причёска, то "драматическая" помада с самого утра – какая-то досадная нелепица, что при общей вылизанности била по глазам. Ох, слава Богу, сейчас такого не было.
Но вот во сне она не изощрялась. Алеся решила никак не приукрашивать себя перед Андроповым – чтобы не раздражать. Так, ей казалось, будет правильнее. И Алесю осенило, что в чём-то было уместно происходящее с Татьяной Филипповной: Юрий Владимирович её жалел, тревожился – снова вспоминался рассказ любимой Тэффи, "О нежности" – и о себе, должно быть, меньше думал. Правда, была в этом и обратная, печальная сторона. Её Алеся резко, остро видела с самого начала, до этого нового, светло-щемящего прозрения. Неизменно надеясь и неизменно стыдясь своей странной роли, она отчаянно хотела хоть что-то здесь исправить и смягчить.
Хотя как она выглядит в так называемом реальном мире, всё-таки было непонятно. Произошёл странный случай, сущая мелочь, пустяк – но из тех, что въедаются невидимой занозой.
Было в этом что-то от картин Магритта: пустой комитетский коридор с бордовой дорожкой на полу, ряды окон и дверей, две девушки, тёмная и белокурая, в идеальной шахматной симметрии они с Галей Черненко шагали навстречу, и встретились глазами на мгновение – и оно вязко затянулось, как в кошмаре, и в Галиных глазах мелькнул ни более ни менее – а холодный необъяснимый ужас. Алесе стало не по себе; за секунду до того, как она обернулась, Галя метнулась вбок газелью и скрылась за одной из дверей. Да, вроде вспомнила что-то и кинулась в кабинет. А такое чувство, что могла бы выйти и в окно. Обернувшись, Алеся ничего за собой не обнаружила. Всё тот же коридор. Значит, смотрели на неё. Что же увидела Галя?
Стало неприятно. Правда, в тот же день Черненко ей приветливо улыбалась, как обычно. Но думать не хотелось, что это в принципе было. Имелись задачи поважнее.
Поход на Кальварию разрушил душевное равновесие, а пребывание в храме – вернуло. И теперь Алеся словно утратила страх, верила, что "ничего ей не сделается" – и это напоминало не прежнюю беспечность, а некую высшую уверенность в неуязвимости. А может, она просто думала, что нечего терять – не считая неизбежных потерь.
Алеся напоминала пловца, сигающего со скал в неположенных местах. Она роняла голову на руки во время обеденного перерыва, наловчилась после домашних хлопот отключаться на четверть часа а-ля Штирлиц, перестала брать с собой книжки в транспорт, потому что постоянно задрёмывала – то в троллейбусах, то в метро. И почти никогда не бывало срыва. Было достаточно сосредоточиться на одном предмете – а это уж проще простого, потому что об Андропове она и так думала постоянно.
Она улучала любую возможность увидеться с ним: то на даче, то в квартире, то смутной тенью за спинами приближённых. В последнем случае он её тоже замечал – хотя виду не подавал до поры до времени. Улучал момент и – казалось, задумался на мгновение, отвёл глаза – но она-то, она ловила этот взгляд из-под очков, всё чаще затемнённых. Удивительно, но Юрий Владимирович умудрялся вложить в это мимолётное выражение и тень весёлого удивления, и лукавости – так, что Алеся, никем не увиденная, беззвучно ликовала, растянув рот аж до ушей.
И на этом она не остановилась. Алеся набралась такого нахальства, что начала совершать переходы в реальном времени средь бела дня – и тёмного вечера, и мутного утра. При этом отправлялась из ВКЛ в Союз то входя в банк, то шагая с крыльца, то ступая с асфальта на газон, но очень скоро прекратила баловаться. Она поняла, что всё новое – хорошо забытое старое: ведь самой благоприятной средой для переходов оказалось метро.
Подземка была её давней страстью. Когда мчалась по минским туннелям, то погружаясь в очередной стихотворный сборник, то утыкаясь взором в глухую тёмную стену, несущуюся за окном напротив. Когда в Москве, дрейфуя с людским потоком, отпускала себе чуть не полдня на катание и любовалась пышностью подземных дворцов. Она проживала там маленькие жизни. Ведь слишком велик был перепад между тамошней и наземной экзистенцией.
Она проскакивала в порталы то в закутке у банкомата, то в переходе между станциями, то через турникет, то навстречу плотному воздушному потоку, толкнув дверь. Она словно испытывала себя саму и ткань миров на прочность.
Да, приходила она часто всего на несколько минут. Но Андропов и этому был счастлив. Лицо его сразу освещалось изнутри – он был благодарен за её старания и изумлялся, как у неё выходят эти постоянные вылазки. Но, зная от неё же о свойствах снов и мировой материи, часто выговаривал за траты сил и безрассудство. Алеся отделывалась шутками и объятиями.
Вот что касается объятий, её одно смущало: прежние жесты и манеры стали казаться ей неуместными. Она стеснялась своей жизнерадостной игривости. Она больше не могла потрепать Андропова за щёчку или крепко обнять его с разгону, как бывало раньше. Казалось, этим она невольно оскорбит его. Но Алеся холодела, когда сознавала, что ещё скрывается за такой стыдливостью: она боялась сделать ему больно. Казалось, любое неосторожное движение может причинить ему страдание.
Она ведь проскакивала понаблюдать и в реальном времени. Она смотрела, как Юрий Владимирович выступает на трибуне или встречает иностранного главу государства – при этом пристраивалась рядом с охранниками. И наблюдала, и часто сжималась, прикусывая губы до крови – она видела скованность и беспомощную старательность его движений, видела, что всё – усилием воли, каждый шаг и поворот корпуса даётся с болью.
Андропов ощущал, что Алеся почему-то тушуется, и с горечью догадывался, отчего. И сам порой не знал, как себя вести, – изредка твёрдость и мужество изменяли ему. Пусть даже только наедине с нею. А Алеся попыталась пылкость и дурашливость заменить нежностью – но он даже эту перемену заметил и истолковал не в свою пользу. Они как-то снова решили достать старые альбомы с живописью и вернуться к какому-то давнему спору, а Алеся слишком тесно прильнула, мягко сжав его руку повыше локтя, и медленно, чуть зажмурясь, поцеловала в щёку. Юрий Владимирович не захотел отвечать на ласку. Напротив, он отчуждённо, сухо кашлянул и отвернулся. Так, словно не хотел видеть её глаз. Алеся забеспокоилась.
– Юра, ты чего? Ну, что случилось? Хорошо, я не буду утверждать, что у тебя чопорный вкус, раз ты не разделяешь моё увлечение Лемпицкой...
Он не отозвался. Алеся сообразила, что к чему. Она резко встала с дивана и вышла, чтобы не заплакать при нём. Хотя вроде бы вознамерилась искать какой-то другой альбом на книжной полке. Когда вышла в коридор, услышала за спиной недовольный голос Андропова: