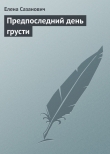Текст книги "По ту сторону грусти (СИ)"
Автор книги: Янина Пинчук
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 26 страниц)
– Я тебе говорю, есть одна нация, очень древняя и искушённая в ядах!
– Жидо-масоны отметаются, кто про них помянет, тому глаз вон.
– Какие там жидо, какие масоны. Китайцы! Ты вспомни про конфликт, да и вообще, в Афгане все моджахеды, что не местные, были китайскими инструкторами. Ты хоть у Корчинского почитай, ну на самом-то деле. И интерес у них там тоже был в свете долговременного конфликта, так что очень соблазнительная мишень, не правда ли?
– Дима, это всё может быть доказано, но чует моё нутро, что это чушь, – морщилась Алеся.
На самом деле ей было неприятно, что она на пятом курсе никак не могла всё это запомнить даже в общих чертах, у неё этот материал уже лез из ушей – а тут свежий человек, да ещё из другого мира, усваивает его играючи! Просто потому, что счёл это увлекательным.
А она так и не могла ничего толком усвоить, потому что металась и паниковала – факты из неё вываливались обратно, как небрежно впихнутые в тесный шкаф. Её гораздо сильнее притягивали удручающие медицинские описания: она внутренне билась и доводила себя до слёз, но не могла сдержаться – не могла перестать заглядывать в пропасть...
– Дим, ну вот самое очевидное – это местные пуштуны. Совки у них просто в печёнках сидели, шагу не давали ступить...
– Да, но потом! А это всего лишь восьмидесятый!
– Ну и что? Всё равно враги, хотя бы потенциальные.
– Немного недотягивает. Хотя сама по себе мысль, каково это, грохнуть визиря шурави, – красота. Есть ещё очевидная версия – американцы. Только не говори слово "попса".
– Попса лютейшая!
– Ну вот... А ведь это очень вероятно!
– Да там уровень безопасности был, ты что. Разве что через своих. Но я вот не знаю, могли бы свои или нет.
Хрестоматийная мифическая версия со Щёлоковым отпала сама собой, не успев оформиться. Во-первых, ну не всех же собак на него вешать, а во-вторых, хронология не совпадает: визит в Афганистан состоялся в начале 1980-го, а открытое противостояние с МВД началось с инцидента 26 декабря того же года, когда майор КГБ был убит в метро.
Когда был допит второй бокал бельгийского вишнёвого, Алеся снова замолчала. Уперев подбородок в сложенные мостиком пальцы, она начала рассеянно смотреть, как зажигаются в кафе огни, по очереди освещая мачты, снасти, приборы.
Ей снова становилось грустно: она ничуть не приблизилась к разгадке. Её просмотры и медитации ничего не давали. Она корила себя, что всё истратила на профанное копание под каких-то богачей. Хотя ведь есть же ей что-то надо, да ещё прикрывать наготу, какой бы она ни была прекрасной! И коммуналку платить. И интернет. И налоги. А проработка всех этих догадок – полный пшик. Одна только путаница и перегрев.
Она запустила пятерню в волосы и сжала горсть, словно хотела вырвать клок. Начиналось лёгкое головокружение.
– Леся. Только что ты была нормальная. Что уже там выплывает? Из глубин подсознания, я хочу сказать.
Она едва сдержалась, чтоб не запустить в него вилкой. А был бы полон наслаждения этот детский, обидно-неадекватный жест. Но всё-таки не стоит. Не надо. Она шумно выдохнула с кошачьим шипом. Всё, что она сейчас скажет, прозвучат ужасно. Ладно.
– Дим, спасибо тебе за вечер, спасибо, что заехал вообще. Но есть вещи, о которых я б не хотела говорить. Спроси Владу, если вы сейчас общаетесь.
– Но, Лесь, я бы лучше от тебя услышал, – в замешательстве заспорил капитан.
– А от меня ты не услышишь, – отрезала Алеся. – Извини.
Ей очень не хотелось завершать их встречу подобным образом. Но она уже почти смирилась: всё, к чему она прикасалась, превращалось – отнюдь не в золото, а в руины. Готовила она теперь невкусно и всё больше склонялась в пользу принятия добровольного поста. Насчёт качества уборки постоянно сомневалась. Хотя в бытовых вопросах она ещё справлялась прилично, что касается внешнего вида, то и вовсе замечательно – казалось, даже прибавилось тщания: как у реставратора при виде потёртостей и трещин. Но работу она выполняла плохо. Так ей самой чувствовалось. Всегдашняя подозрительность болезненно обострилась, словно содрали кожу, и она ощущала мельчайшую пылинку, малейшее дуновение, даже самый взгляд в свою сторону. И вот ей казалось, что начальник только из жалости да по старой памяти её терпит, не хамит, а коллеги всё шушукаются за спиной, и вот она уже не одна из них, а изгой – иными словами, возвращается туда, откуда начинала. А самым мучительным в этой ситуации было умственное, трезвое осознание, что всё это – неправда.
Её мир становился бледным и мучительно искусственным, тем больше её терзали обязательства перед миром другим, неосязаемым. Она иногда вздрагивала среди дня, как от тока, и застывала с отчаянным побелевшим лицом и полуоткрытым ртом. Такие приступы продолжались всего полсекунды. И она отмирала и суетливо бежала дальше, разгоняя в крови частицы страха.
Она с жадным упованием ждала встреч с Юрием Владимировичем, и была счастлива, даже если изредка не могла пробиться или встречались они на полчаса или час. Слава Богу, это было очень редко. Он рассказывал ей о тонкостях всех интриг, разъяснял игру, давал раскладки, формировал для неё отчёты, которые даже про себя, может, не продумывал словами. Для него это было моментально и рефлекторно, а Алеся была человеком совершенно другой формации, гораздо ближе к Западу. Вот и приходилось иногда разжёвывать, переводить с русского на русский. Она вникала и впитывала. Смотрела с неподдельным восхищением, притишенным и значительным. Но иногда тоска мелькала в её глазах, как у человека бессильного, но мятущегося.
Юрий Владимирович обнимал её и спрашивал, в чём её горе. И Алеся, конечно же, не могла ответить, что её горе – это он.
Впрочем, она старательно сдерживалась. В основном просто слушала и задавала вопросы, деловито и требовательно.
Самым трудным в таких случаях было придержать себя: "Ну зачем излишне болеть, всё равно победит ведь. Не вмешивайся".
А так хотелось.
Зато самыми потайными и сладостными стали мысли вполне естественные и поначалу непринуждённые – это потом они превратились в горьковато-сладкий мысленный ритуал, духовные упражнения.
А вопрос был весьма прост: что, если бы Андропов был её мужем?
Она очень переживала и пыталась целомудренно сконструировать альтернативную вселенную, где у них с председателем всё было бы по-настоящему, а не во сне.
Алеся ни за что не хотела занять место Татьяны Филипповны, боже упаси, тени таких мыслей повергали её в ужас и ошпаривали стыдом – тем более жгучим, что никакой параллельной вселенной не было и быть не могло.
Но она продолжала представлять, даже растравляя раны.
Обнаружилось несколько закономерностей. Алеся не рисовала себе мезальянса: она представляла себя женщиной лет пятидесяти пяти (даже со скидкой на ведьминскую моложавость этот шаг был для неё героическим). Она изо всех сил пыталась слушать, даже притом, что у неё была всего лишь раковина, а не настоящий прибой: пыталась угадать, что бы ему понравилось, а что нет, какие её привычки могли бы раздражить, а что было бы козырем. Она пыталась представить, что они уже нагляделись и надышались друг другом: а что бы они делали после этого, как бы себя вели? Она мысленно отрабатывала каждый жест, интонацию и прикосновение – делала всё то, без чего так здорово до сих пор обходилась. Она обложилась медицинскими справочниками и пыталась вникнуть, какой она должна была быть – её забота? Она мысленно приготовилась беспокоиться, тревожиться и терпеть неудобства. Она счастливо отметила, что темперамент у неё что надо – и если б он из-за болезни не смог дарить ей страсть, ей вполне хватило бы и нежности: этим можно выразить ничуть не меньше.
И она проживала уже даже не вторую, а третью свою неудавшуюся жизнь.
Глава двадцать первая
Что делать
На выставку она тогда, конечно же, пошла – как и в другие места, куда приглашал прокурор. Она любила и тонкие вина, и театр, и умные беседы с людьми высокого полёта. А пани Агнешка, оказывается, относилась к подобной вольнице демократично: у неё у самой были поклонники.
Около семи во дворе остановилась тёмная "ауди", в неё впорхнула Стамбровская, одетая парадно и строго. Вещей у неё было не так много, зато все элегантные и сочетаемые. Она давно и, возможно, преждевременно, сделала выбор в пользу классики. Но ведь именно на жакете в стиле Тэтчер лучше всего смотрится неброский, но значительный орден – вместо сотни колье и брошек.
Попросила побыстрее, приехала раньше, поблуждала глазами по нарядной толпе и – не ошиблась ведь! – увидела министра. Да, он тоже всегда любил живопись. Обрадовалась, изящно взмахнула рукой, он заметил её, с улыбкой помахал в ответ, развернулся, Лидия Дмитриевна тоже приветливо заулыбалась. Алеся подошла. Они поговорили минут пять. Он попробовал тактично выспросить, как у неё дела, заметил, что она похудела и смотрит как-то озабоченно. Алеся с новой, мягко сияющей улыбкой поспешила развеять беспокойство. Несколькими мазками она набросала картину напряжённой, торопливо-плотной жизни. Плавно закруглила фразу, выразительно оглянулась, на прощание кивнув, неспешно зашагала обратно и тут же встретилась глазами с Казакевичем. Прокурор не смог сдержать изумления, и Алеся сполна насладилась выражением его лица. На осторожный вопрос беззаботно вставила пару фраз о деле Вышинского и демонстративно поправила бордовый крестик на груди. Сделала маленький жест, говорящий о нежелании отвлекаться на посторонние темы. Прокурор лишь отметил, что она не так проста. Хотя ведь она изначально такой не казалась, n'est-ce pas? Вечер прошёл прекрасно, торжественно и приподнято, но до самого конца Михаил Семёнович не мог отделаться от лёгкого привкуса замешательства.
Алеся научилась наслаждаться подобными штучками. Совсем недавно, буквально на днях, она присутствовала на похоронах Брежнева. У неё не то, чтоб захватило дух от причастности к истории, но она была увлечена. Незаметно скользя за спинами и сливаясь с тенями, ловила выражения лиц, вглядывалась в позы, отмечала, кто где стоит, с кем говорит и как смотрит. Пускай она не ощущала это нутром и кожей, но составляла занятные схемки путём анализа. То и дело бросала взгляды на Андропова. "Чует своё право, чует", – с хищным довольством усмехалась Алеся. Вот его не могла воспринимать сухо: моментально срабатывали все датчики, считывались флюиды. Так, хватит, думала она, и сворачивала приём, повернувшись в другую сторону. Романов, Гришин, Тихонов, Черненко сливались у неё в мутные газетные пятна. Живее виделись Громыко и Устинов, правда, потом она всё равно удивлялась, насколько министр разный в прошлой жизни и в нынешней, ну совсем другое ощущение.
И снова смотрела на Юрия Владимировича с траурной повязкой на рукаве. И с тревожным неудовольствием отмечала перемены: да, ему полагалось глядеть невесело и угрюмо – но всё-таки. Его фигура оставалась массивной и полной, но лицо как-то осунулось, непропорционально и тревожаще погрустнело. Куда делись её любимые щёчки?..
Алеся огорчилась, поняв не только свою невнимательность, но и то, что всё происходит слишком быстро. Если задуматься – доводило до сладко-тошного трепетания в горле и подгибающихся коленей. Она знала, что на протяжении восемьдесят второго он очень много и напряжённо работал. Борьба за власть съела и задор, и обаяние, и здоровье. Она ему говорила, чтоб не убивался и отдыхал, но слова её уходили как в сухую землю. Да она и сама сознавала: не послушается. Не такой он человек. И она бы не послушалась, ну о чём тут говорить?
Ещё после резкого разговора с Владой она впала в какой-то ступор. Помнила фотографию: женщина на пляже смотрит на громадную волну стеною, безалаберно уперев руки в боки. Может быть, это и называется фатализмом? С ней это случилось при неудачной попытке на полгода уехать в Швецию. Студенческий обмен, все дела. Она-то потом понимала, что совсем не по причине бюрократии она опоздала, а из-за собственного малодушия и бездеятельной трусости, невовремя подсунула документы, невовремя заполнила анкету в посольстве, заламывала руки от волнения, но надеялась, что всё само рассосётся. В каком-то смысле оно действительно – рассосалось: Алеся никуда не поехала.
Она стыдилась и старалась не показывать своей тоскливой нежности (и сама понимала, что это временно, никакая плотина не выдержит) – и пыталась его подбодрить. Например, решила взять его в Беларусь и прогуляться по знакомым и любимым местам.
В этом словно было нечто особо значимое: пройтись там, где ходила с друзьями и будто заново промаркировать эту территорию, запечатлеть на ней новый символ. А ещё – ведь Беларусь занимала особое место в дискурсе современников.
Её страну снова и снова одаривали сомнительным комплиментом – "очень советская". От этого у Алеси постоянно сводило скулы. Она была совсем не уверена, нужен ли ей лихой российский капитализм или скромненькое евросоюзное счастье прибалтийских стран. Но всё равно грызло смутное недовольство. А теперь оно впервые оставило её – наоборот, вспоминалась одна большущая статья, впечатления какого-то россиянина, и там её застойную и чинную родину назвали "мечтой Андропова", ни больше и ни меньше – и от этого волнительно билось сердце.
Раньше она и не думала об однообразии встреч. А теперь переживала, что раньше не догадалась оживить их. И она не просто спохватилась, а прямо обмерла от догадки, сколько хотела бы показать и рассказать и как мало для этого отпущено времени. И дело было даже не в чувстве утекающих недель, дней, часов. Было обидно, что раньше у неё даже не возникало потребности делиться – и именно переживаниями, а не сухими сведениями из библиотечных томов.
Хотя в остальном всё протекало очень логично: сначала визиты на работу, потом на квартиру, потом на дачу, потом смелое чудо – вылазка в Вильню, а потом – сбросить последний покров и показать свою родину. Настоящую. До эмиграции.
Алеся не знала, в какой момент всё пошло не так, как задумывалось.
Эту маленькое путешествие нельзя было назвать катастрофичным.
Погода была прекрасная, потому что Алеся снова выбрала майский день для воплощения символического рая. Ещё оказалось, что в Минске он был, но проездом, так что чувство новизны было гарантировано. Маршрут был выбран удачный, и Алеся могла быть довольной, что показала почти все свои любимые места и достопримечательности: Немига и игрушечные предместья, оперный театр, Осмоловка с немецкими домиками и буйной зеленью, площадь Победы, парк Горького, улица Маркса с брусчаткой в начале, с кокетливыми кафешками и нарядными домами, скверик с фонтанами напротив КГБ и "башня святого Лаврентия" – ну ещё бы, чтоб они двое да туда не отправились! Юрий Владимирович признал, что тут уютнее, чем на Лубянской площади. Здание однозначно понравилось, это вам не "коробка с чекистами", он даже прокомментировал: "Не знал бы, подумал бы, что это университет". А башенка, к вящему Алесиному удовольствию, ему тоже показалась романтичной – знала она, знала, что он тоже питает слабость к таким вещам! Оставалось лишь завершить эффектный показ историческими анекдотами про Лаврентия Цанаву и его барские замашки.
Да, в основном всё прошло на ура. Вполне ожидаемо Андропова умилила чистота и простор минских улиц. И люди были одеты симпатично. И здания стояли аккуратные: не было той живописной дряхлости и дикости, что встречается порой в центре Москвы. Хотя ведь и ожидаемо: в войну тут пепелище было, дома перебиты, как звери, и история вымерла – и теперь всё новодел и новострой, и именно он считается жителями двадцать первого века "историческим".
Это тоже разочаровывало: да, ему нравилось, но никаких особых восторгов. Подумаешь, сталинский ампир. У них в Москве такого добра навалом.
Хотя Алеся не только поэтому расстраивалась и ощущала смутную вину, а сразу же после – вину за виноватость (она вообще была мастером вторичной перегонки чувств).
Разумеется, неопасно при визите в чужую страну бездумно разглядывать картинки, неловкость начинается тогда, когда начинают задавать вопросы о жизни.
Началось всё с телефонов. Их было много. Все современные и продвинутые, круче, чем любая "вертушка" – и это у обычных граждан!
Алеся изумилась: странно, что в Вильнюсе он этого не заметил. Андропов пожал плечами: ну да, не отложилось впечатление. А ещё он наивно и привычно полагал, что Алесе шикарный гаджет полагается по службе. А ещё туманно высказался, что воспринимал ВКЛ как нечто "особенное". Читай, фантастическое, подумала Алеся.
Ах, так. Ну да. Значит, там, в волшебной стране, подобный атрибут приемлем, а в "нормальной" Белоруссии – нет: не положено.
Она несколько раз выдохнула, нахмурившись, и промолчала. Просто подтвердила, что такие телефоны доступны всем желающим. Были б деньги.
Второй такой диссонанс они оба испытали, когда заскочили на ходу в магазин: Алесе вдруг ужасно захотелось пить. После некоторых терзаний она купила напиток с мякотью алоэ. Алеся всегда и всех доводила до белого каления своей неспособностью быстро сделать выбор. Но она тогда и вообразить не могла, что раздражать может само наличие большого выбора. И отсутствие километровых очередей. И охранника у входа, как возле "Берёзки", и деления магазинов на категории: для простых смертных и для номенклатурного сословия.
Юрий Владимирович тоже говорил без колкостей и провокаций, наводящие вопросы задавал осторожно и деликатно. Но уж слишком хорошо она умела его чувствовать. Кроме того, слишком много всего перечитала и передумала.
Алеся не ставила цели никого уязвлять. Ей запоздало показалось, что сама эта прогулка была зря задумана. Простодушно было полагать, что при всей своей прогрессивности человек, всю жизнь проживший в Союзе и отдавший не просто лучшие, а фактически все свои годы, государству, почувствует себя уютно в такой обстановке.
И Алеся его очень понимала. Примерно такое же чувство настигало при переписке с иностранными приятелями: они после универа были отправлены по своим дипмиссиям, а она – на грёбаный завод. И её аж колотило от осознания: да, она тоже "элита", а живёт всё равно хуже. И усилий положить придётся больше. И не для того даже, чтоб переплюнуть, а хотя бы сравняться! Почему ей приходится выгрызать зубами то, что им достаётся как должное?!..
И её ледяным шипом пронзил вкрадчивый вопрос:
– Леся, а сколько у вас лет прошло с тех пор?
Ей не надо было объяснять. Бережно подхватывая недоговорённость, она сглотнула и выговорила:
– В нашей вселенной... ну, двадцать пять.
И здесь полагалось бы провалиться сквозь землю. Потому что вселенная у них была общая.
Андропов не смог сдержать горьковатого вздоха. Сразу же взвихрились и атаковали мысли: не допустить! Догнать. Перегнать.
Не успеть.
Алеся сбилась с шага и сжала кулаки от внезапной боли и пожалела о своих прошлых жестоких высказываниях. Если углубиться в воспоминания, пришлось бы пожалеть о том, что они в принципе встретились. Но уж если обратиться к самому истоку, то разве она искала этой встречи?..
И она потрясённо замолчала от неясной догадки, пока Юрий Владимирович с лёгким волнением не окликнул её. Да, действительно. Может, даже это неудачное свидание для чего-нибудь нужно.
И она просто сжала зубы, когда дошло до прочих неудобных моментов. А их было достаточно. Например, внезапно оказалось, что здесь существует предпринимательство – как бы Алеся ни хаяла свою страну, а пришёл ей черёд чуточку устыдиться: оказывается, не всё у них так страшно. А как бывает – может рассказать "простой советский парень", идущий рядом. Ещё выяснилось, что люди могут свободно обменивать валюту и выезжать за границу: нет, ну каково? Партия бы такого не допустила. И потому большим, хотя и ожидаемым ударом, оказалось её отсутствие. Нет, партии с маленькой буквы, конечно, были, штук пятнадцать. Все при этом ни рыба ни мясо, но это всё равно что по волосам плакать, когда головы нет. Есть, вернее, но совсем другого плана. И это не говоря уже об импортных шмотках, заграничной музыке, о том, что на День Победы – охотней носят яблоневый цвет, а не гвардейские ленты, а на демонстрациях – портреты родных, а не Жукова или Сталина. И о том, что за последние десять лет и в плане языка, и в плане истории стало полегче, и национальная самобытность порой неуклюже, но гордо демонстрировалась.
– Знаешь, Леся, – усмехнулся Андропов, – никакая она не советская, твоя Белоруссия. Обычная буржуазная страна. Ну, в лучшем случае не "советская", а... "югославская".
Алеся подняла бровь:
– Никогда об этом не задумывалась. Я тут выросла, знаешь ли. Но раз ты говоришь, значит, да.
И правда ведь. Тем более что есть тут один товарищ, поразительно напоминающий Тито.
Ей вдруг стало грустно. В том-то и дело, она не замечала то, что бросалось в глаза Андропову – и поэтому многое не ценила. И она с особым своим мазохизмом подобрала нужное словечко: зажралась.
И её захлестнула злая горечь.
– Знаешь, Юра, не буду спорить, – кивнула Алеся. – У нас слово "советский" давно уже – аллегория. И думает каждый о своём.
– А ты о чём думаешь? – посмотрел на неё Андропов.
Они сидели в каком-то скверике. Они вообще двигались перебежками – хотя Юрий Владимирович держался неплохо и не показывал усталости. Но Алеся как нарочно надела ради особого случая очень модные и очень неудобные туфли: так что она постоянно просилась где-нибудь посидеть, ну хоть пять минуточек.
– Я думаю о тебе, – медленно и тихо произнесла Алеся. И это была чистая правда. – Но не всегда так было, – добавила она. – У каждой медали две стороны, у каждого общества свои достоинства и пороки...
На её лице плавали лёгкие блики от просветов в шевелящейся листве. От зелени, разлитой в воздухе, оно казалось бледнее и надменнее, а от световых скачков неверным и непроницаемым.
Она уже рассказывала о своей работе до эмиграции, подробно, как на кушетке психоаналитика. Эта непосредственность и сыграла с ней злую шутку. Из-за неё и произошла ссора, которую со старинной напыщенностью так и тянуло назвать "роковой".
Это было странно, до чего она распереживалась. Ведь к тому времени её ненависть и злоба уже как-то выцвели сами собой к несказанному облегчению. А нет, проснулось ведь старое ощущение от жизни.
Какие красочные, брызжущие ядом, кровью и смолой, картины носились у неё в мозгу! Как она сгорала и тряслась, какие грязные пузырящиеся ругательства постоянно слетали с её уст, когда она принималась рассказывать желающим, "как у неё дела"! Совки. Тупые бл**ские совки. Все виновные представители власти. Те, кто придумал кабалу распределения после универа. Те, кто заикался про долг перед государством (а чё ты такой умный – бюджетник, да?! – а черпани-ка дерьма полным ковшиком!). Те, кто бросал наживку из "престижа" и "великого будущего". Те, кто готовил специалистов, а потом не знал, куда девать. Те, кто гноил таланты и амбиции – и не каким-то там романтическим "преследованием", а тупо убожеством и отсутствием перспектив.
Правда, к концу срока Алеся уже как-то перебесилась – может, просто устала?
И чего она тогда так взбеленилась при разговоре? Чёрт за язык дёрнул, думалось. Ох, хоть бы это не оказалось правдой.
Сейчас же она просто вкратце перечислила всё, что связывала с любимым заводом: бездумное выполнение плана и неумение сбыть продукцию (та же фигня, что с выпускниками, не правда ли?), низкое качество, косность и спесь руководства, апатию и враждебность работников, всеобщую нервозность и идиотскую практику иногородних назначенцев.
– Про своего шефа повторять не буду, – сказала она. – Просто поверь мне, Юра, как человеку, которого ты знаешь много лет, я на него ополчилась не просто потому, что это жирное хамское быдло с полным ртом беломорной вони и отборных матов. Мне просто не хотелось лезть из кожи вон, чтобы какой-то сраный кишкоблуд и его кодла набивали себе мошну...
– Об этом ты мне ничего не рассказывала, – сказал Андропов, ожидаемо поморщившись от её лексики.
– Ты тогда не дослушал, – мягко заметила Алеся.
Она рассказала, как её начальник форсировал закупки в нарушение законодательства, пропихивал каких-то своих поставщиков, и всё это с руганью и угрозами, если ему казалось, что документы оформляются недостаточно быстро. Но если ценой неблагодарных усилий упускалось что-то ещё, более насущное – удары на Алесину голову тоже сыпались градом.
Сырья по этим контрактам приходило кот наплакал, качество было мерзким.
– Вот тут-то я и сообразила, – медовым голоском протянула Алеся.
Сразу после прихода на завод у неё возникли проблемы со службой безопасности. Никакого поджога склада или взрыва в цеху – "фотографии в нацистской форме". Пара скользких вопросов в присутствии коллег, стыдненький вывод в коридор для воспитательной беседы – и вот уже Алеся со злым лицом и неожиданно тряскими коленками стояла и сквозь зубы отбрехивалась от товарища из режимно-секретного сектора (боже, название-то какое!). Возвратясь в кабинет, она дрожала от стресса и возмущения. Во-первых, наряд гражданский, а фуражка не немецкая, а чилийская, они реально такие идиоты или прикидываются (увы, безотказная тактика, что у ментов, что у этих вот). Во-вторых, какое им, мать их, дело?! Она же не шахидка какая-то! Она тогда впервые испытала очень характерное чувство: слабость и унижение.
Прошло около месяца. Он снова встретил её в коридоре. На Алесе была та самая чёрная юбка и "адмиральский" жакетик с золотыми пуговками, и она издевательски осведомилась: "Ну как вам моя нацистская форма?". Он проглотил – но парировал новым ударом: просмотром ненадлежащих материалов на досуге. Снова нудная и гадкая беседа, снова она вежливо прошипела, что теперь в плане исторических исследований будет изучать только Пол Пота, Сталина и Мао. А он ещё хорохористо шутканул тогда, что это его долг – за всеми присматривать: "Я тут местный чекист, хе-хе" – и Алеся при виде этого сарделечного дядьки в костюме с убогим гэбэшным шиком исполнилась истинно эсэсовским аристократическим презрением.
Но она не знала, что их колючее знакомство и последующие холодно-ироничные расшаркивания в лифте в чём-либо помогут. Потом к "безопасникам" пришёл очередной назначенец, бывший контрразведчик, и оказался неплохим парнем, у него вполне реально было завизировать бумагу без параноидального цепляния. А ещё он приветливо с Алесей здоровался. А она миленько улыбалась и строила глазки. А потом она начала строить глазки всем "чекистам" без разбору. А потом её как-то вызывал начальник службы безопасности с просьбами перевести некие письма: "строго конфиденциально, разумеется, это между нами". Между "ними" и Алесей вообще начала выстраиваться невидимая тонкая связь. И наконец она поняла, зачем выпускала эту паутинку. Написав заявление и почти дождавшись приказа об увольнении, она, не стесняясь в выводах, накатала объёмистую докладную, настоящую поэму, и снабдила её всеми доступными материалами. Готовила её недели полторы.
Когда Алеся подмахнула свою шедевральную телегу, она произвела эффект разорвавшейся бомбы. Хорошо ведь готовилась, с душой.
– На нашего шефа тогда завели уголовное дело, – зевнула Алеся, устав от говорения. – Ещё кое-кого уволили, кого-то наказали. Ну, или на проверки и допросы затаскали. А меня уже в ту пору след простыл. Вот-с.
– Ловко, ловко, – хмыкнул Андропов задумчиво. – Это тогда у тебя появился вкус к чекистам? – подколол он.
– Считай, что да, – глазом не моргнув, ответила Алеся. – Потому что если не они, то кто?..
И зачем этот разговор, думала она после. Ну не чёрт же снова за язык. А потом, лёжа в постели, ещё не отряхнувшись от туманов сна, она почти в голос смеялась над собой. Неужели это она его – ну вот как бы перекрестила на дорожку, вот те щит, вот те меч, ступай с Богом и сражайся с супостатами?! – отомсти им, нечестивым, за кривду. Интересно, что мстить за прошлые обиды она хочет... опять-таки, в прошлом. Хотя стоп, ведь уже вроде и сама справилась, и это даже не месть, а всего-навсего справедливость. Обычно такое правдоискательство ничем не увенчивается. Но у неё, вишь ты, без скрежета провернулись все шестерни: сработало призвание инквизиторское. Но так ведь сладко и душевно-трепетно, когда защищает тебя – любимый человек...
Она вконец уже запуталась в своей софистике, обоснованиях и временных сдвигах, и с взрывом внезапного жара подхватилась с постели.
То-то и оно: кто кого должен защищать?
"Так, сначала умыванье, потом одеванье, а потом терзанье", – строго наказала себе Алеся. И принялась выполнять свои утренние действия со старанием, максимально возможным при её нынешней разболтанности.
Но ложка в пальцах всё равно билась, как серебряная рыбка, при вставании со стула перед глазами плыли прозрачные жёлтые разводы. Это тебе за трусость, это тебе за лень, мстительно выговаривала Алеся, вот они лезут, грехи твои, почему ты до сих пор ничего не сделала? Ну конечно, рабочие дни. Надо дождаться выходных. А на выходных она тоже ничего не сделает. Будет просто нарезать круги по квартире, заламывать пальцы и временами с разбегу кидаться на кровать, как о кирпичную стенку.
Она не удержала его от поездки в Афганистан. Она его не вылечила, даже не пыталась. Она не сделала для него и самой малости: найти и наказать виновного.
Да Алеся ничего толком не сделала для Юрия Владимировича, просто хваталась то за одно, то за другое – и ничуть не утешало то, что она была просто вынуждена бросать все попытки. И всё из-за принципа невмешательства, который сначала казался ей естественным, а потом стал мучительным и беспощадным.
В том, что она хотела сделать, Алеся не видела особенного нарушения, несмотря на все рассказы о взмахе бабочкиного крыла. "Я уберу только исполнителя", – поклялась Стамбровская, не то себе, не то высшим силам. Но последние были глухи к её призывам. Не помогали ни медитации, ни белорусские обряды "для прозрения", ни сновидческие методики, ни, грешным делом, настои из особых трав и грибов (хотя после них родилось штук пятнадцать авангардных стихотворений), ни хитрые рунические формулы, чертя которые, надо было напевать ритуальные строфы на древнем скандинавском наречии. Она не видела ровным счётом ничего. И поди пойми, чем были её отчаянные многообразные попытки: искренним старанием или прокрастинацией. Милосердно к себе относиться Алеся не привыкла и считала, что, скорее, второе.
Но не только бесконечное откладывание: ещё и страх. Потому что когда она наконец решилась и собралась, и надела удобную тёплую одежду, и выпила травяного чаю с имбирем, и закрыла квартиру на ключ – то при спуске по лестнице голеностоп у неё был ватный. Сердце своим стуком теснило прочие органы и норовило вытолкнуть имбирный чай обратно в рот. Алеся вздохнула со свистом через зубы и принялась перебирать чётки в кармане, иногда беззвучно шевеля губами.