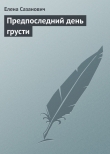Текст книги "По ту сторону грусти (СИ)"
Автор книги: Янина Пинчук
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
– А мне и не надо, – спорил Андропов, утирая со лба внезапно выступивший тонкий пот, – так естественнее. Если б я хотел, нанял бы экскурсовода, чисто теоретически. Мне хочется знать, как видишь этот город ты.
– Я? По-своему, конечно, – задумчиво отозвалась Стамбровская.
Они прогулялись по неожиданно широкой и зелёной Вокечю, покружили в закоулках улицы Жиду и Антокольске, нырнули на дно маленьких фьордов, вынырнули во дворах и полюбовались на живописную мозаику сарайных стен, и крыш, и труб, и белья, и сиреневых кустов – какая знакомая, но совершенно другая картина, не так, как в Рыбинске, или Ставрополе, или Москве. Алеся сыпала названиями по-русски и по-литовски, последнее особенно нравилось: Бастионная, она же Пилимо, Больничная, она же Лигонинес, Стекольная, она же Стиклю – а вот здесь похоже; Алеся не преминула заметить, как её когда-то зацепило: по-шведски улица – gata, по-литовски – gatve.
Алеся ещё раньше признавалась, что выбирая языки в университете, была увлечена второй мировой, а именно, Рейхом, ей стало интересно, с чего это "все они" так Скандинавией увлекались. При воспоминании Андропов поморщился. Снова его больно кольнуло то, на чём он старался не заострять лишнего внимания: если Союз не выживет, то и такие могут времена настать, что молодёжь фашистами будет восхищаться... Хотя вот Алеся. Он имел уже неплохое представление о её ценностях, волнениях и надеждах – она не умела говорить о пустяках. Ей нравились исключительно содержательные, глубокие, длинные беседы о самом главном. Ну так что же она? И о трудящихся, и об отношениях между нациями, и об экономике правильно говорит, причём видно, что по собственным выводам, не "по бумажке". Вообще производит впечатление порядочной. Это если не сказать больше о его отношении к ней... Странно, очень странно. Может, от непрошеных противоречивых мыслей внезапно заломило в висках, но тут же прошло.
Алеся плавно перешла на маленькую лекцию о популярном авторе, писавшем о Вильнюсе, критиковала, одобряла, итожила – да она бы самому Бобкову подспорье составила, с такой-то литературной аналитикой. Андропов сразу же почти машинально попросил её дать почитать, Алеся просияла и обещала достать ему книги к следующей встрече – это значит, недели через две, ну и хорошо.
У него создалось странное впечатление: всё было в шаговой доступности, даже по центру было понятно, что город небольшой, но петляние казалось бесконечным. Но вот если бы дать ему какое-то время, и волю, и желание, он бы хорошо здесь ориентировался – при общем, потрясающе едином стиле каждая улочка-ручеёк была непохожа на соседнюю.
– Знаешь, напоминает Ленинград... – рассеянно пробормотал Андропов, скорее себе под нос, ещё удивился, как Алеся моментально замолкла, прислушалась – неужели она на самом деле ловит каждое его слово?
По правде сказать, нелепое утверждение, в этом городе не наблюдалось ничего ленинградского: Петербург был городом сотворённым, а Вильня – родившимся. Пускай даже из сна языческого князя – а чем прочнее грёзы деспотическая воля? Быть может, интоксикация наступала от этого странного воздуха, но рассеянно и безвольно Андропов отвечал себе в уме: ничем... Когда-нибудь это кончится, тогда, когда он проснётся, а сейчас вроде бы можно предаваться любым непривычным мыслям, мечтам, реакциям.
Можно было за неимением фотоаппарата (а ведь хороший ему подарили на прошлый день рождения) использовать в качестве объектива собственный взгляд, а кадры впечатлений откладывать в памяти. Тем более они ценны и уникальны. И это уж точно секретное хранилище, доступа туда нет никому. Может, только Стамбровская угадает иногда то или другое – как ни странно, он ощущал из-за этого не настороженность и замкнутость, а уважительное восхищение. Интересно всё-таки это считывание. Она как-то рассказывала о системе хранения и передачи информации, о системах передачи данных, функционирующих с помощью новейших ЭВМ и доступных широким слоям населения. Но тут было явно что-то другое – информационное поле, не зависящее от машин, из него она черпала необходимое напрямую, хотя и не постоянно.
Не успевал он подумать об этом, как возвращался мыслями к Вильне и Ленинграду. В одном было сходство: живописнейшие обшарпанные дворы. Манила каждая подворотня: казалось, заглянешь – и увидишь что-то необычайное, может, даже лестницу в небо или живого дракона. Оказалось, и это было уже описано, но казалось, что Вильнюс, или, как Алеся говорила, Вильня – это город, который невозможно испортить слишком частыми упоминаниями, тривиальными наблюдениями. Казалось, что в воздухе прозрачными буквами написано объявление: "Вследствие уникальности каждого человека и его впечатлений говорить о Вильне бесконечно – разрешается".
У неё ещё с прошлых поездок оставались фотографии. Алеся никогда раньше не демонстрировала это хитрое устройство, а теперь достала...
– Слушай, как интересно. Прямо как из фантастической литературы. Это ведь...
– Ну, а вы что ж думали!.. Это, как бы вам сказать, ЭВМ и телефон в одном устройстве. Я даже не знаю, какая функция главнее.
– Ничего себе, какой малыш, и тоненький такой...
Он только улыбнулся и головой покачал. Подумать только, как стремительно несётся время и прогресс, относительно скоро у советских граждан тоже будут такие аппараты...
– Так это, значит, как "вертушка" в наших машинах, почти так же?
– Ещё лучше! Здесь никаких особых ограничений, ну, в смысле, тут же всё от покрытия зависит, понимаете, специальные вышки стоят и передают сигнал, они по всему миру понатыканы...
Она весьма доходчиво объяснила ему принцип действия. Оставалось только снова восхититься. Потом она огорчённо, озадачено вздохнула и призналась, что дальше разъяснить не может, разве что даст почитать специальные статьи – на подобном же устройстве. Но что с неё взять? Партийная девушка, гуманитарий, если вернее – общественник... Она не вникает, она – пользуется. Что не может удовлетворить его внезапное любопытство – абсолютно нормально. Но разве это показатель? Андропов уже давно ловил себя на странной мысли, что Алеся, даже если не брать её необычные способности, в чём-то превосходит его, в чём-то умнее, только тщательно это скрывает – за юными жадными амбициями, за показной жёсткостью.
– Ну хорошо, а что здесь ещё есть?
– Да чего только нету, и будильник, и проигрыватель, и фотоаппарат...
– Ничего себе...
Вот это да. Они даже остановились у какой-то водосточной трубы со смешной картинкой и удивительно откровенного окна с плюшевыми котами, выглядывающими на улицу. Она тыкала прямо в экран, он послушно отзывался и выдавал необходимое.
– Смотрите, вот куда вы хотели бы попасть?
– Ох, не знаю. О чём ты говорила? Кафедральная площадь.
Моментально на маленьком экранчике, с непривычки заставлявшем прищуриться, возникала карта, выскакивали названия, фиолетовой линией чертился маршрут... Красота. Жаль, что он этого уже не увидит. А кто его знает, может, и увидит хотя бы начальные ступени по пути к достижениям! У них, в этой вселенной, сейчас тысяча девятьсот семьдесят четвёртый год...
– Юрий Владимирович! Тут вид хороший, улыбнитесь, я вас сфоткаю... ну, сфотографирую, то есть.
Немножко неловко он встал в просвете между двумя сказочно-средневековыми улочками, растянул губы в улыбке... И что же? Вот и картинка, прямо на экранчике: а что, неплохо! Только смущение какое-то.
Алеся рассмеялась. Её смех не напоминал серебряный колокольчик, скорее, ликование жеребёнка, но уж очень это было здорово.
– Ой, да вы прямо профессор Виленского университета! Кошмар, как это меня и мою подружку Владу на профессоров тянет, у неё вон доктор экономических наук, а вы у меня кто? Наверное, изящная словесность!
– Ну уж нет!
– Тогда политология! Самое то.
Она утянула его по улице Святого Иоанна в направлении университета – вполне логично. О чём она думала, Бог его знает, да только очень это трогало, замечалось: вот она горит вдохновением, вот ей что-то вспомнилось.
И ещё была примета: неожиданность великолепия. Город напоминал коммуналку: всё кипит жизнью, всё таится – но дышит, мечтает, а между тем, и тут щербинка, и тут трещинка, и это здание давно не видело ремонта, и машина во дворе уже пустила корни из смеси органики и спущенной резины – а кто уберёт? И среди всего этого порой внезапно взмывали церкви, а теперь – университет.
Алеся весело, хотя и застенчиво, лучилась, видя его любопытство. Она гордилась этим городом так же, как аскетическим, но удивительно вкусным завтраком, маленькой, но приличной командировочной квартиркой, знанием языков, тёмно-синим элегантным платьицем в талию, которое снова странным образом перекликалось оттенком с его пиджаком, а ещё почему-то казалось очень католическим – интересно, не слишком ли нелепым будет словосочетание "католическое платье"?.. Ну, в сочетании с такими серебряными кольцами, маленькими серёжками, с такими трогательно не загорелыми длинными ногами и лилейной шеей со свежей царапинкой – определённо нет. От его внимания не укрывались её пытливые взгляды: иногда через плечо, иногда и прямо в лицо на краткое мгновение, иногда в спину – он и это чувствовал. Что она хотела обнаружить? Не скучно ли. Не слишком ли провинциально по сравнению с Москвой. Не тревожно ли, как домой вернуться. Не очень ли бестолково, утомительно.
Ну зачем, право слово, зачем... Его и трогало, и смущало такое внимание.
Ненормальное, странное было ощущение: он не чувствовал усталости от ходьбы, но порой наваливалась лёгкая тошнота, слабость, истома. Слава Богу, в промежутках между Алесиными взглядами.
А вот зазвонили колокола к мессе. Комок собрался в горле, и так печально стало, и за Алесю тоже – непонятно, из-за чего, может, она в этот момент заволновалась, и у неё гулко, неприятно заныло за поясницей, вот как замерла и вытянулась, опять эта беда – ох нет, это его ощущение, не её...
Потемнело в глазах. Да. Так и надо. Но на табличке различил он название – Доминикону, иначе – Доминиканская...
Ему захотелось смиренно опуститься на колени, припасть к виленской мостовой и пустить здесь корни, как дерево – навсегда.
Глава четырнадцатая
Теперь и навсегда
Она сразу заметила, как бледен и потерян Юрий Владимирович, какой у него взгляд отсутствующий, чёрный, полный тоски. Внутри всё зазвенело, по телу прошёл ток – и она отчаянно схватила его под руку, потащила во двор, вот какая-то лавка, скорей, скорей... Ей было тяжело, очень, он ведь субтильностью не отличался, ну а как на войне было, точно так же, да ещё снаряды рвутся, а тут ничего, только звон в ушах, как от контузии, да чей же это звон, о Господи, ощущения уже путаются, где тут чьё, говорили ей, не забывайся, не растворяйся, ох, опасно, не к добру...
Допрыгалась! Молодец! Знала ведь, знала, что это за авантюра?! Лоре было плохо, Дима вон Батура, его сам чёрт не возьмёт, и то шатался-мотылялся, а тут-то... Гестаповка! Скотина! Ну вот за что она так?..
Он многое, наверно, понимал, потому что держался, и только возле самой скамейки обмяк, без стона или вздоха, с мучительно-печальным выражением поблекшего лица.
Алеся уложила его, дивясь, как тяжело даже чуточку подвинуть посподручнее, запыхалась, на себя же за это разозлилась по второму кругу, потом закинула его ноги на кованый подлокотник – надо же, удачно лёг как, и подтаскивать не надо... Кинулась на колени, пусть потом ссадины, плевать – слишком слёту плюхнулась... неуклюжими вспотевшими пальцами распутала, раздёргала узел галстука, рванула нервно, почти зло, одну пуговицу из петельки вылущила, вторую... нырнула под полы пиджака, заливаясь краской, расстегнула ремень... Вот, теперь вроде нормально...
Виновата. Однозначно виновата. Мало ей было того, что обычно. И это притом, что сны обладали плотностью почти гедиминовой. Всё от жадности. Всё от любопытства. От жажды власти и излишеств. Разве не это – в основе первородного греха?
"Господи, пускай он не умрёт... Пожалуйста, Господи... пускай очнётся..."
Как назло, во дворе никого не было – или наоборот, хорошо? И никто не видел...
Телефон едва не выскользнул из рук на плитку – "Молодец!" – мокрыми были пальцы; на экране вспыхнули цифры; как вызвать тут скорую помощь?! Заметки ищем, заметки. Вот. Нашла. Время засекаем. Через минуту или две – можно, нужно...
Бесконечными казались эти полторы минуты.
Злые виноватые слёзы подступали и текли бесконтрольно, в носу щипало, как от газировки или хлорки из бассейна, и тоже прозрачно текло. Ничего этого Алеся не замечала, только гладила Юрия Владимировича по влажному прохладному лбу, по седым вискам, очки сняла, увернула в платок и в сумку сунула, боже, какое беззащитное у него лицо, какие усталые мешки под глазами, какие губы безвольные.
Она только всхлипывала и причитала:
– Юрочка, маленький... бедненький... ну не надо... ну не умирай, пожалуйста... Юрочка...
Она застонала сквозь слёзы жалко и тоненько, как котёнок – это всегда предшествовало рыданию.
Тут она даже не руками, не слухом, сердцем ощутила, как он вздохнул и простонал чуть слышно.
Засуетилась, мощно шмыгнула носом, собираясь, – наклонилась. Легонечко похлопала по щеке. Он, не открывая глаз, всё ещё со сведёнными бровями, вымученно прошептал:
– Всё... хорошо...
Задвигал руками, сначала беспомощно, потом попытался опереться, Алеся помогла. Ненамного более собранно он выглядел, когда сел, неуклюже раскинув длинные ноги, ухватился рукой за спинку и, зажмурившись, уткнулся в согнутую руку, как человек, пытающийся задремать у окна поезда. С трудом оторвал и поднял свою большую серебристую голову, выговорил:
– Дай...
Алеся сообразила, что он очки просит. Она бы и сама в первую очередь попросила об этом. Минус семь, например, это не шуточки, а как сделать мир более понятным в такой ситуации? – это самый первый, доступный шаг.
Надел их дрожащей рукой, откинулся на спинку лавки, в ожидании замер: ну когда же кончится эта слабость, и кружение, дурнота. Рядом стояла урна. Он резко нагнулся над ней – ничего не выходит, одна желчь. Алеся, так же всхлипывая, утёрла ему рот платком.
Только по шевелению губ она различила слово: "Пить".
Такая же лихорадочная дрожь в коленях была у неё в школе, когда она сдавала норматив по челночному бегу: он ей как-то плохо давался, она всегда сильная была, но медлительная. На бегу зло и хулигански высморкалась в горсть, стряхнула на булыжник, вытерла об себя – да пошло оно всё, подурнела, раскраснелась, зато напялила зачем-то мантилью, что носила в сумочке – о да, внезапно же вздумается в храм зайти... набекрень, наверняка – опять же, плевать.
Она фотографировала вход в этот храм, когда приезжала зимой, слава Богу, что так близко – она влетела под его тесноватые своды и перекрестилась уже на бегу, не припадая по-рыцарски на колено, как обычно, и кинулась вглубь. Месса как раз началась недавно, народу было много. Где же эти краники?! Вот! Всё по-европейски, вот и стаканчики, надпись от руки готическим шрифтом: "Святая вода"... всё для верующих, всё цивилизованно, римская школа, спасибо-пожалуйста...
Пожилой священник запнулся при виде влетевшей в храм девицы в слезах, та сделала порывистый жест, вроде бы извинительный. Он бы к ней подошёл и спросил, в чём дело, только службу было оставлять неловко, делать – что? Он перекрестил воздух, послав ей жест благословения. Алеся растроганно и порывисто кивнула, приложила руки к груди: недостойна! Нацедила воды – не расплескать бы. Кинулась.
Юрий Владимирович протянул свою белую руку, как во сне, она придерживала, опустив веки.
– Да, Юрочка... Давай... попей водички...
Он медленно пил, текла тоненькая струйка по подбородку в расстёгнутый ворот.
Алеся молилась. Даже о нужных формулах забыла – просто кричала к Господу требовательно и излишне разговорно.
Андропов сосредоточенно дышал, даже замер: важное действие. Мокрые губы были приоткрыты и казались не надменно-чувственными, а размазано-пухлыми. Он уже не бился, не млел. Его бледность и неподвижность уже были исполнены сосредоточенности, а не опасности. Алеся стояла рядом. Она не смела сесть. Секунды снова длились вечно. Резко, шумно прозвучало хлопанье голубиных крыльев; и очень бестактно – поразительно слышимый перестук коготков по карнизу и немедленно начавшееся деловитое урчание.
Андропов приходил в себя. Сложив руки смиренным жестом, он сидел смущённый, притихший, будто извинялся всем своим видом за слабость.
Алеся стояла, переводя дыхание, нервно поправляя сбившуюся с самого начала мантилью, и не знала, что делать. Ждала. Обводила взглядом водосточные трубы и заросли плюща на чьём-то балконе.
Она ощутила прикосновение, и сердце сжалось: Юрий Владимирович неловко, пылко схватил её руки и начал целовать. Слёзы снова поползли из глаз – и ведь из-за чего, от неуклюжего прикосновения этих больших, неожиданно мягких губ.
– Что ты, ну... пусти...
Он молча целовал – пылко и отчаянно, униженно. Как не в меру ретивые монашенки распятие, да ещё хуже.
Она недостойна. Кроме того, что виновата.
"Танюша", – он даже не сказал это, а подумал, Алеся уловила болезненно и обострённо, но не обиделась, а умилилась. Он хотел бы, очень хотел – чтоб жена его сама не была больной, исстрадавшейся, не требовала сочувствия, а отдавала бы – ему. Нереальная мечта. Абсолютно.
– Ну прекрати...
Снова на "ты". Андропов не послушался, что и говорить – он, очнувшись, потянул её на себя, плавно и сильно, своевольно – так что Алеся сама бы и не помнила, как очутилась у него на коленях. Юрий Владимирович приник к ней, сжал в объятиях и замер, тяжело, глубоко дыша.
Алеся гладила его, как больного ребёнка, и целовала в голову, особенно туда, где волосы поредели, даже эта залысина казалась ей такой жалкой и милой.
– Юрочка... сладкий мой, любимый мой... мой мальчик, птенчик... Я люблю тебя.
Слова выходили на выдохе почти без голоса. А нужно ли? Она не щупала, не прижимала ладонь, но ощущала, как у него бьётся сердце. И от этого жальче становилось Юрия Владимировича, и она всё гладила, гладила, успокаивая.
Он глухо пробормотал:
– Мусечка...
То, как он перед этим едва слышимо простонал на одной ноте, буквой М, наводило на мысль, что хотел он произнести – "мамусечка". И от этого у Алеси защемило сердце. Ведь кто он? Просто сиротка. Мальчик, рано оставшийся без мамы. И никто не смог ему дать то, что он постоянно искал, тайно и стыдливо, настолько скрытно, что даже не осознанно – ни честолюбивая красавица Нина, ни бедная, смертно запуганная милая Таня...
– Хороший мой... Всё прошло... всё хорошо...
Платье её было бы совсем строгим, если бы не декольте. Он поцеловал её изнеможённо, куда мог дотянуться – в грудь, смазанным таким поцелуем, так что на самом деле вышло, что он приложился к её серебряному кресту. Кожа и металл – воедино.
Она знала, что допускает вольность. Но касалась губами его вспотевшего лба, и всё ещё вялых, бледных щёк, проводила пальчиком по бровям. Обнимала. Он приник в полном молчании, даже не трогал её узкую спину, просто прижался.
В конце концов заговорил. Чуть слышно, покаянным тоном. Казалось, нелепым, неестественным будет всё, что он скажет после этого происшествия. Но Юрий Владимирович тихо произнёс, всё ещё уткнувшись ей в шею:
– Я люблю тебя.
Алеся уже не плакала, просто мигала горящими, усталыми глазами. Просто снова его погладила и поцеловала в макушку, надолго приникнув, прижимая к груди его голову, и зачем-то прикрыв мантильей – хотя кого тут стесняться. Умиление – снова выплыло слово из памяти.
Защитить бы его – оградить от врагов, отнять у смерти. Теперь и навсегда.
Они молча выходили со двора в те декорации и фоновый шум, что снова включился и забрезжил, словно кто-то нажал на кнопку: люди, шаги, отзвуки музыки. Алеся, сгорая от стыда за свой жалкий лепет, попыталась обратиться к нему по имени-отчеству, потупившись, заплетающимся языком, но Андропов её прервал и тихим серьёзным голосом попросил:
– Называй меня Юра. А то обижусь.
Алеся покраснела и прошептала:
– Юрочка... – И снова обняла его, теперь уже сама прильнув к его груди.
И он снова её поцеловал, в лоб, возле линии волос. Какие всё-таки губы у него, робкие, нежные.
– Нам надо домой зайти. Пошли.
Они свернули на узкую каменную улицу Францисканскую, добрели до улицы Святого Николая, поднялись обратно в квартирку.
– Приляг.
Андропов повиновался беспрекословно.
Алеся ушла на кухню и принялась греметь посудой и шуршать бумагой. Ещё она что-то бормотала себе под нос, как одинокий человек, чьи монологи властно пробиваются звуком из ватной тишины: пускай притишенно, обрывками и с хрипотцой старой пластинки, как всегда бывает, когда в основном – всё время молчишь.
Ну вот, пакетики, настало ваше время. Не зря вы заняли место фена, и джинсов, и чего-то там ещё. И всё-таки дура. Нет, чтобы сразу сделать. Но кто ж знал. Это с самого начала рассматривалось как чрезвычайное средство. Вот только кто мог подумать, что ЧП, к которому умственно она была готова, так сильно ранит душу, в несколько минут измотает.
Она принесла горячую чашку – похоже на чай. Андропов приподнялся.
– Это надо выпить?
Боже, какой он послушный, какая готовность.
– Да. Только это горько. Извини, но с мёдом или сахаром – нельзя.
Ну, не очень-то и хотелось. И не очень-то ему это полезно, если откровенно.
– Ой, подожди!
Она сорвалась и убежала на кухню, оттуда вернулась с такой же чашкой.
– Тебе-то зачем?
– Для профилактики. Это общеукрепляющее, а я перенервничала. И у меня тоже проблемки есть, ну, я рассказывала, так что – пусть...
Юрий Владимирович взял чашку и отхлебнул пару глотков. Действительно, будто полыни в кипятке развели. Хотя какая там полынь, со следующего глотка проступила вся палитра: и душица, и брусничные листья, и можжевельник, и бузина, и шиповник. Странным образом всплывали в голове названия трав, давно не виданных и уже абстрактных. Алеся храбро пила вместе с ним и морщилась.
– Крепкое у тебя зелье.
Он поставил на тумбочку пустую чашку.
– Ещё бы, но зато эффект какой.
Она многозначительно подняла палец. Немело усмехнулась, нарочито поводя бровями.
Им обоим было до сих пор неловко, и стеснение это лишь постепенно рассеивалось в воздухе, в словах и взглядах, но на самом деле – переступили порог, всё было вроде бы так же, но, кажется – по-другому. Так бывает, когда снимают кино: словно другая плёнка или фильтр...
– Я надеюсь, он быстрый, этот эффект?
– Ну...
– Хорошо, полчаса. Максимум час, – с неожиданным упрямством, хотя и спокойно, заявил Андропов. – Но я хочу в город. Мы же видели очень мало, а вдруг у меня не получится потом сюда попасть?
Она вздрогнула: вот оно.
Боязнь не успеть.
Нет, к чёрту: это фраза без задней мысли.
А ей разве самой не беспокойно? Да с самого утра только и думает: только бы ладнее сочинить этот день, густо, красиво вписать в него самое лучшее.
Пока – не вышло. Пока у неё начинают дрожать коленки при воспоминании... Нет. Несчастья бояться – по Вильне не гулять. Тем более, она вполне неплохо справилась. Тем более, сейчас подействует зелье и наведённая формула.
Ему действительно казалось, что от утра отделяла их какая-то невидимая черта. То, что за ней, казалось полнее, богаче всего – грех упустить. Нельзя.
– Да, мы пойдём. Через полчасика.
Он закрыл глаза, но изо всех сил собрался, чтоб не дремать: понимал, чем это чревато. Восточные монахи практикуют медитацию, концентрируясь на одном предмете – он сосредоточился на приглушённом тиканье часов. Но потом с опущенными веками представил себе всю комнату. Поразительно знакомое по форме кресло, у него на даче такое же. Люстра из бумаги, напоминающая геометрически ощеренный зефир в вафельной обсыпке. Нежно-салатовые полосатые обои. На стене картинка – простенькая, но только на первый взгляд: на деревенском столе в кувшине – пышный букет из палисадника, два наливных, ещё даже не обтёртых яблока, кружка, блюдце, а там молоко, и тут же – серое гибкое тельце, любопытные глазки-бусинки и высунутый раздвоенный язык: домашний уж. Вот казалось бы...
Пришло на ум название сказки, может, он даже дочке Ирочке её читал когда-то на ночь. Такие чтения бывали редкими, он слишком поздно приезжал с работы. Но ей ведь так нравилось: замирала под одеялом и слушала, слушала его голос. Теперь-то странно, он тогда ещё не сделал операцию и говорил гнусаво в нос, с псевдофранцузским произношением. А ей нравилось. Тембр и интонация дивным образом сплетались с сюжетом и завораживали, и ещё она ведь музыку всегда очень любила, выпрашивала пластинки – "Ну купи что-нибудь новенькое!" – или те, что имелись в доме, всё "поставь" да "поставь"... Так к чему это он. Ах да, сказка такая была – "Эгле, королева ужей". Юрий Владимирович очень многое помнил, сам иногда удивлялся, что завалялось на дальних полках памяти.
Робкое поглаживание по плечу. Ей явно нравится на ощупь его рубашка: не похожа на рукодельницу, но почему-то разбирается в тканях. Ах да, говорила, что рисует на шёлке – необычно, надо подробнее расспросить.
Да, невзначай всё вспоминается. Даже то, что вот так, трогая его за плечо, мама будила в школу.
Ох, ну только не это! Только не картины эти сочинённые. Да пропади всё пропадом, разве может он это помнить?! Правда, вымысел, забвение слились воедино, ну и хорошо, и ладно, иногда только горько, особенно круто замешивались – как после домогательств той парткомовской бабы Капустиной... фамилия-то какая, а? Сама она напоминала штампованную, цельнолитую красотку из кинематографа, в красном платке и с чугунными косами. Видишь ли, ей казалось, что идейной чистоты недостаточно, должна быть ещё и кровная. Ну не фашистка ли?! Да настоящие фашисты и то благороднее! Вон Алеся сидит.
Ой.
От нелепого смятения он открыл глаза.
– Ну что? Как ты себя чувствуешь? Мы идём?
Она очень стеснялась того, как недавно испугалась и плакала, того, как кинулась жалеть его. И поэтому голос её прозвучал даже слишком строго. Так, будто спрашивала: "Ты покушал? Ты надел шапку? Ты сделал уроки? Ты записался добровольцем?". Последнее его рассмешило.
– Нет, ну я спрашиваю, а он смеётся. Ну и ладно. Значит, всё хорошо.
За её деланным ворчанием проглядывало лёгкое раздражение самолюбивого человека и плохо скрываемая радость.
Улицы казались другими. Изменились краски; до вечера было ещё далеко, но не было уже той свежей световой прохлады, незавершённости талантливого эскиза. Все цвета и формы – созрели и оделись невесомым золотом.
Дышалось привольнее. Тело казалось легче, всё – не так ощутительно, ноги несли сами.
Алеся отметила, что у Андропова тяжеловесная грация военного корабля. В Виленских переулках двигался он, как во фьордах – тривиальное уже сравнение, но что, если точное.
Она показала ему несколько рисунков и статуй в необычных местах, так, что они не были заметны с первого взгляда – и именно поэтому казались живыми: гораздо живее тех памятников и скульптур, что выставляются на общее обозрение. Обратила внимание на пару интересных вывесок, рассказала, что зимой там и тут были "вязаные" деревья – на них надели разноцветные полосатые чехлы (они ведь тоже живые, тоже зябнут!), потом хотела показать какую-то "сказочную" дверь, но огорчилась, не обнаружив её. Со вздохом развела руками и объяснила, что здесь довольно быстро всё меняется – впрочем, от города-сна этого можно ожидать, и если самые крупные достопримечательности, такие, как дворцы, гора Трёх Крестов, соборы и реки, ещё держатся на своих местах как опорные точки, то что-то более мелкое, не такое значительное, вполне может появиться из ниоткуда и в никуда исчезнуть.
– Кстати, о достопримечательностях... – воскликнула она и потянула за собой по очередной тесной улочке, схватив за руку. Ладошка у неё была маленькая, но крепкая и даже в тёплую погоду чуть прохладная.
Костёл Святой Анны вблизи поразил его. Так же как она, Юрий Владимирович не восхищался бурно, не делал жестов – "бьютифул!" – он, наоборот, застывал, а говорить начинал потом, негромко, но горячо...
Он стоял недвижно, и губы сложились жёстко, как у воина, вглядывался, как снайпер. И сказал:
– Этот костёл – из крови.
Она вздрогнула.
– Вот посмотри, это тот же оттенок. А может, сердце. А может, даже другой орган или все они, вместе взятые. Но это плоть, сгущённая из духа, с его изяществом и своим – цветом. Наверное, оскорбительное сравнение, может, высокомерие к Западу это вечное, ну ты же знаешь, о чём я... А вот – ничуть. Это символ того, без чего нельзя, это то, без чего – не жить. И он в лучах светится, как... вот давай, подними руки к солнцу – видишь?
Она замерла и почти не дышала. И рук не видела, хотя подняла их послушно. Это – говорит коммунист?!
Но ведь в одной из речей он в связке с русской культурой упоминал христианские ценности, чему дивиться – и всё равно до дрожи: насколько же он больше. Больше рамки официального портрета.
Но ведь разве коммунизм не родился из православия так же, как супрематизм – из иконы?.. Стоп, её уже куда-то не туда заносит.
Мысли атаковали слишком буйно, и он, погладив по руке, спросил её, почему она так долго молчит. Она не отшучивалась и честно призналась: "Я думаю". Минуты через полторы заявила, будто для расшифровки:
– Думаю, что нам стоит поесть.
Это было мнение, а не рассуждение, но он с ним легко согласился.
Его лёгкая бледность казалась благородной, одежда почти не помялась, отсутствие галстука (свернулся змейкой у неё в сумочке) сходило за элегантную небрежность. Вид был самый что ни на есть богемный А географически место так и напрашивалось – и Алеся отвела его в Заречную Республику, иначе говоря, Ужупис: обитель творческих личностей, райский уголок с ободранными зданиями, волшебный, залихватски-бедный, весёлый мирок.
По-русски звучало смешно, но ещё и таинственно: снова – уж. А peace – это мир. Мирный уж, как мирный атом. Почему бы и нет. Почти официальная декларация: он уловил уже, что эти змеи здесь сакральны. Может, Алеся расскажет ему, если захочет. Потом, подумалось; он с удивлением отметил, что начал ощущать её настроения и даже мимолётные тени мыслей – не всегда, но иногда, это было приятно и таинственно. "Может, я тоже на что-то гожусь?" – подумал он, не вполне понимая смысл этого "что-то".
Она нарочно сделала крюк, хотела провести его через мост. Это казалось очень важным. Иногда её охватывало стойкое чувство, до душевного жжения, что сделать нужно так и не иначе, и именно сейчас. Хотя именно этим специалисты и отличаются от обычных людей. Сигнал. Значит – надо. Провести через мост – и обязательно держа под руку.