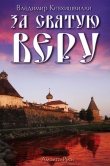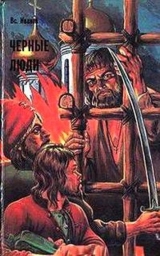
Текст книги "Черные люди"
Автор книги: Всеволод Иванов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 42 страниц)
Уже за Тетюшами начинались, тянулись по берегам Волги пустынные степи, где рыскали кочевники, где путешествие было уже опасно. И все же служилые и торговые люди – москвичи, ярославцы, костромичи, нижегородцы, казанцы – шли и шли туда.
В Нижнем Новгороде жило много чужеземных, восточных людей – персов, бухарцев, хивинцев, армян, индусов, что вели свои торговли, владели на Подоле своими избами и пестрыми восточными лавками.
И Тихон чувствовал себя здесь, на Волге, особенно, по-новому, куда вольней, чем дома, чем в Москве, когда он в тихий, ясный полдень Фомина воскресенья, после поздней обедни в соборе, вышел на зеленевший Откос.
По горе, по Подолу, в городских, в посадских дворцах, под могучими стенами, зацветала, словно молоко разлила, черемуха, дышала сладко; звонили колокола; женщины да девушки стояли, сидели у крепких ворот своих дворов в цветистых телогреях, в шушунах, в монистах и бусах, щелкали орешки, пересмеивались, прикрываясь тонкими рукавами. Молодцы прохаживались мимо в синих да в коричневых кафтанах, в шляпах с первыми желтыми цветками за лентами. Важно ходили персы и индусы в цветных халатах. Мальчишки катали крашеные яйца, над тынами посадских дворов взлетали качели да девичьи визги, и от легкой теплоты все тело Тихона дышало сладко, сильно, уверенно; душа говорила ясно, что где-то близко тут свобода да новое счастье…
Тихон стоял высоко над Волгой, и рядом с ним старый Псурцев говорил и говорил ему прямо в розовое ухо, прикрытое блестящей прядью темных кудрей:
– Сколько люду! Новые места, новые дела – люди и шевелятся по-новому. Клубом кишат, как черви. Вперед идут!
Старое, сухое, словно костяное лицо под серебряными кудерками светилось, – и ему, Максиму Андроновичу, тоже по душе было это весеннее раздолье.
Лет двадцать минуло, как Псурцев кинул Устюг, унося с собой северное искусство. Беспокойная он был душа. Устюжским друзьям своим – Босым Василию да Кириле – давно уж жаловался он, что тоскует от лесов, от людей, закованных, как в броню, в старинный обычай и оттого ставших все словно на одно лицо. Большим своего серебряного дела мастером был Максим Андронович. Из-под его рук выходили серебряные сосуды, где тончайшей чернью изображены были ангелы, святые, диковинные цветы, выходили кольца, перстни, серьги, запястья с великоустюжскими звонницами, с вещими птицами Сирином и Гамаюном, выходили чары, стопы, кубки, братины, что радостно звенели за праздничными столами.
Не ставит мастер свой зажженный светильник под сосуд, а ставит его на высоком месте, чтоб свет искусства светил миру.
И Максим Андронович уплыл с двумя учениками на дощанике по рекам Сухоне, Югу, Сосьве в Каму, а там в Волгу, перевез в Нижний весь свой снаряд, поставил избу на посаде.
Серебряные изделия Псурцева шибко шли по Волге – обручальные кольца, кресты, серьги, особенно те, что любили носить казаки, а за ними стрельцы – полумесяцем в левом ухе; пошли потом в Астрахань, в Персию, в Индию, в соседние страны. Максим Андронович стал получать с новых мест заказы, новые образцы на кольца с каменьем, с бирюзой, работал серебряные ножны для кривых сабель, прямых кинжалов, русской старинной чернью изображая на них шахову охоту на газелей и львов по лугам, усыпанным цветами, делал оклады для икон да евангелий в церквах, что ставились тогда по всей Волге в новых городах и селах.
Маленький, верткий, в смирном черном кафтане, в валяной шляпе, он так и кипел около спокойного Тихона, подскакивая как на пружинах.
– Тихон, – говорил он, – како время-то идет! Верно твой батька говорит, Василь Васильич: вылазим мы из лесов. На полдень идем, к солнцу, силы копим на востоке. Погулять хочется, вот так само, как мы с тобой на Откос вышли, хочется силой с сопротивником переведаться – чья правда праведнее! Хе-хе! За Волгой есть теперь люди, которые крепко об народе думают. Сем-ка вот туда на травку присядем…
Оба сели на край Откоса.
– Тут места новые, богатые, легкие, ну, люд валит сюда, жить и работать хочет, – говорил Псурцев. – Это правильно. Летят сюда, что гуси на разводье. А князья да бояре зачем сюда идут? Башню свою Вавилонскую до неба строить? Тут, на воле-то, вот люди и раскрываются вовсю. У вас в лесу-то темно, всего не видать, а у нас на воле все видать. Взять хотя б боярина нашего, Бориса Иваныча.
– Морозова? – спросил Тихон.
– Его! А ты его знаешь?
– Слыхал! Вся Москва о нем только и звенит.
– Не одна Москва! Он Заволжье наше, как медведь, задавил, – шептал Псурцев, – он норовит весь народ в карман посадить. Все на себя ломит, золото гребет лопатой! Как молод был, одна вотчинишка была в Галицком уезде, а возьми теперь! Все царство в кулаке держит, зажимает наши низовые вольности. Народ-то и тут гудит. Воевать, сказывают, Морозов все хочет! Ого! Глянь-ка, глянь!
Через реку наискосок, сверкая высоко в небе, неслись лебеди, кликая протяжно…
– Хорошо, – сказал Псурцев, сорвал с дерева свежий листок, пожевал, бросил. – Нагнал сюда людей видимо-невидимо, на мордовские земли, жмет нещадно, без совести. Или дом до облаков строит?
Помолчали.
Псурцев полулежал на боку, снял шляпу, обмахиваясь ею.
– Молчишь? – спросил он, оборачиваясь к Тихону. – То-то и есть, и народ молчит. Кирила Васильич мне в грамотке отписал, что у тебя на твово воеводу обида. А тут вон всю землю один Морозов изобидеть сумел. Вот че-орт!
Татаре-то, деды сказывают, справедливей были, ей-бо! Они и теперь – схватят дань да отъедут к себе на Дикое поле, махан[57]57
Конину.
[Закрыть] жрать… Народ молчит да робит, богатство боярам собирает, а у бояр от этого богатства да пуще чужеземного узорочья голова кругом идет. А кто за народ заступится?
– Некому! – сказал Тихон. Он сидел, поставив широко согнутые в коленях ноги, положив на колени руки, опустив голову. – Некому!
– Некому? – шептал яростно Псурцев. – Иль наш такой народ, что не найдется человека? Нет, поезжай-ка сам по Волге, посмотри и по делу своему да на вольный народ посмотри, что деется. Скоро струги, слышно – вот-вот, воеводские пойдут в Казань, я сговорю дружка, тебя свезут и назад обернут. Посмотришь – отцу отпишешь. Чать, он и постарел, Василий-то Васильич, а? И то сказать, сколько лет… Одначе пора обедать, чай, баба с пирогами ждет. Вставай, друже!
И Псурцев легко вскочил на ноги, Тихон за ним.
Глава десятая. Деревенский поп
Боярин Василий Петрович Шереметьев плыл по Волге на воеводство в Казань, плыл пышно. На головном струге по палубе персидский ковер, в янтарной тени от паруса поставлена лавка, крыта шелковым одеялом на овчине. Перед лавкой стол под скатертью, на столе братина с пивом, ковши. Боярин сидел на лавке без шапки, ворот красной рубахи распахнут, весенний ветер хорошо продувал его багровое с похмелья лицо.
Поближе к корме струга чулан с окошком, в нем две постели на лавках – боярин плыл с сыном. На корме бочка с пивом, на бочке пока что разложили свои склейки[58]58
Склеенные по-старинному, по-допетровски, в ленту листы документов, свитки.
[Закрыть] подьячий да дьяк, пересматривали уездные казанские бумаги, отщелкивая числа на косточках. Работа была спешная.
За боярским стругом шли еще два – со стрельцами да с седоками, белые их паруса двоились в гладкой Волге.
Туча тучей сидел боярин и воевода. Задача на нем лежала большая. В марте 1646 года, когда боярами был наложен на соль налог по две гривны с пуда, отставлены были стрелецкие да ямские деньги. Соляные деньги, однако, поступали туго – народ считал налог неправым, шумел, государева казна убыточилась, пришлось соляную пошлину отставить. Тут бояре вспомнили про деньги стрелецкие да ямские, и царь указал, а бояре приговорили те деньги за прошлое время доправить сполна.
Василий Петрович и плыл доправлять их в Казань, плыл с досадой. Как их доправишь? Доправь вон лед, что по Волге сошел! На правеж всю землю как поставишь?
Прямой парус тянул сильно и ровно, ямские гребцы повалились на стлани – кто дремал, кто негромко пел:
У колодезя хо-олоднова,
Как у ключика у гремучева,
Да-эй, красна девушка воду черпала…
Матвей Васильевич, воеводский сын, румяный, голубоглазый, в польском кунтуше, с кривой саблей на цветном поясе, херувимом стоял на носу, поставив высоко на борт ногу в щегольском чеботе, глаза прикрыл рукой от солнца, лениво глядел на берег.
Матвею Шереметьеву, боярскому сыну, не было еще и девятнадцати лет, а он уж много кой-чего видел. Мальчонкой вывезли его из родных поместий с Волги в Москву, он рос там сверстником царя Алексея, делил с царевичем и заботы, и ученье, и забавы. Вместе с царевичем учили они и псалтырь и часослов и на клиросе оба пели. А пуще всего вместе любовались чужеземными посольствами. Что за люди! Вот люди! Ловкие, обходительные, а как одеты фасонно, не то что наши бояре – бочки бочками, в толстых шубах! И Матюшка Шереметьев обык ловко носить польское и немецкое платье, болтал немного по-польски, наголо остриг затылок, на темени. оставил хохол, сбрил молодую курчавую бородку и усики. Он в Москве столько насмотрелся на иноземные игры, да забавы, да танцы, что все ему в Нижнем Новгороде казалось бедным, тараканьи хоромы тесны, а тянувшиеся по берегам Волги черные деревни были до того страшны и жалки, народ груб, что молодой боярский сын смотрит-смотрит – да и захохочет. Не того навидался он в Москве на фряжских листах-картинках!
– Батя! – окликнул он отца. – Село впереди, что ли? – спросил он. – Народ собравшись!
Боярин повернул туго шею, взглянул, проговорил:
– Точно! Встречают, должно, нас!
И зевнул.
Молодой человек подошел, стал позади отца, положив ему руки на плечи.
– Смешно, – сказал он. – Какие черные дома! Словно их чернили!
– Оно от дыма, Матюша! А как же иначе? Дым – ну и чернеют! Труб-то нету!
– А как дивно красивы города в Еуропе! Домы белые, крыши красные…
– Эй, кормчий! – всем телом вертанулся боярин к кормщику. – Како село-то?
– Работки, государь, – кланялся кормщик, ворочая обеими руками навесь – рулевое длинное весло. – И Лопатицы, государь. Стерлядь здесь больно хороша, государь, и-и-и…
– Батюшка, хочу рыбы той покоштовать! – избалованным голосом выговорил юноша.
Отец глянул ласково.
– Что ж, это можно! Эй, у берегу! – крикнул боярин кормщику. – Да и другим стругам махни. Тут и пообедаем. Спешить-то нам некуда. Не на свадьбу!
Зеленый берег подплывал все ближе, глинистый обрыв отражался в синей воде желтой полосой, поверху избы раскидало словно ветром, сверху по овражку вилась к реке тропа, по тропе вверх вихрем неслись, убегали сарафаны да пестрые платки девок.
«Как наехали, – уныло тянули гребцы, – злы татаровья, полонили они красну девушку…»
– Батя, а что поют хлопы? – шепнул в ухо отцу Матвей. – Над нами они смеются? Пошто девушки бегут?
Подплыл к берегу и третий струг, где сидел седоком Тихон Босой. Там тоже заметили бегство девушек.
– От воеводы бегут, – с ухмылкой проговорил плывший с Тихоном человек в коричневом кафтане.
Сильно пригревало, он развязал красный пояс, держал в руках, кафтан расстегнул, снял баранью шапку с алым верхом, подставил ветру блестящую лысину. Борода была у него обрита, седоватые усы по-казацки длинны, в левом ухе блестел полумесяц серебряной серьги.
– Должно, подальше-то лучше? – тихо спросил Тихон понимающе.
– А то? – лысый взглянул на него с тонкой улыбкой. – Подальше положишь – поближе возьмешь! Сердцем чуют – боярин едет. – Помолчал немного, потом вымолвил вполголоса – Воевода! Кормиться плывет. Всё себе! Ну и бежит от него народ. Кому пожалуешься? Воевода!
Народ на берегу только что вытянул невод, теперь стоял неподвижно, ожидая боярина. Билась, блестела серебром по траве рыба. Впереди стоял староста с седой бородой, в рубахе, рядом с ним, должно, поп – в черной однорядке, в скуфье.
– Матюшка, давай кафтан! – медленно подымаясь, словно приказал боярин и воевода.
Влез в кафтан, синий, с серебряными репьями да с разводами. Засучил длинные рукава повыше, расправил плечи и, подойдя к самому борту, следил, сам руки назад, как народ опускается на колени.
– Народ! – подъехав, зычно гаркнул боярин, голос раскатился по берегу. – Поздорову ль, люди?
Народ ударил челом в землю, смотрел с земли.
– Поздорову, государь. Спасибо на добром слове…
– Тоню, што ль, завели? Альбо што?
– Тоню, боярин, тоню! На твое счастье, боярин. Большая, видно, тебе удача, боярин, во всем, – говорил староста, на коленях ползая за бьющейся рыбой. – Вона, смотри, кака! – говорил он, подымая против смеющегося лица большую стерлядь. – Мерная, двенадцать вершков!
Слетела с мачты райна с парусом, струг мягко ткнулся в приглублый берег, боярин, подхваченный под обе руки, обрушился на лесок.
– Уха-то, уха знатная будет! – дробно сыпал староста, уже вертясь около боярина, за ним вставал с колен и народ.
Воевода повел круглыми, рачьими глазами, двинулся к попу, что один не встал на колени.
– Благослови, отче! – выговорил боярин, стащил с головы шапку, сунул под мышку и, сложив руки, подошел под благословение.
Поп был молод, высок – рослому боярину не пришлось даже нагнуться, – ладно скроен, статен; широкие плечи, крепкая шея, круглая голова с долгими темно-русыми волосами под скуфьей, крупные черты лица: прямой нос, крутой подбородок в курчавой, молодой еще бороде, черные брови вразлет над спокойными глазами, добродушные, полные губы. Придерживая на груди левой загорелой рукой пахаря деревянный крест, поп высоко поднял правую руку.
– Во имя отца и сына и святого духа! – негромко и истово выговорил он и широкими взмахами благословил боярина.
Шереметьев принял, как положено, руку попа в обе свои и поцеловал ее.
Поп смотрел на боярина ласково, задумчиво.
– Далеко ли плывешь, боярин? – спросил он. Голос у попа был тихий и звучный. – Всем селом уж вторые сутки тебя ждем, государь!
– Рыбки-то отведаешь, кормилец? – приступал к боярину староста, борясь с сильной, бьющейся рыбой…
– Спаси бог, отведаю, – сказал боярин и отступил в сторону, пропуская вперед Матвея.
– Благослови же, батюшка, мое чадо!
Поп глянул на юношу, лицо его покраснело, глаза потемнели, вспыхнули гневом. Он отступил на шаг.
– Ей-ни! – твердо сказал он. – Не приближайся, вью-ноша! В чьем ты образе, скажи? Не тех ли ляхов, что Русь разоряли? А куда бороду-то девал?
Бояре – отец и сын – в своих цветных одеждах стояли перед деревенским попом, опустив и расставив от неожиданности руки, растерянно. Матвей пытался было дерзко улыбнуться, однако улыбки не вышло.
Догадка сверкнула в боярской голове: это, должно быть, тот самый поп из Лопатиц, о котором уже слух шел по Нижнему Новгороду – уж больно-де он горяч и дерзок.
– Не по образу ли и подобию божию ты сотворен? – спокойно выговаривал поп. – А ты вона – рыло выскоблил! Стыдись, вьюноша! А на голове что? Нет тебе благословения! Женоподобие – срамной грех! И ты, отец, тем устыдись… Дитя благоразумное – родителям похвала! А ты, такое разрешая, народ свой срамишь. Ей, хуже! Душу его продаешь!
Боярин уже опамятовался.
– Кто ты, дерзец? – закричал он, трясясь от гнева и топоча по песку ногами. – Имя твоя как? Откудова?
Поп стоял улыбаясь, вытянувшись в струнку, правая рука на кресте, левая опущена вдоль тела.
– Да это наш батюшка! – раздался голос из толпы. – Здешний.
– Имя мое, грешного иерея, Аввакум. Пасу души овец моих в селе соседнем, рекомом Лопатицы.
Крик боярина достиг подплывавших других обоих стругов. Тихон, все стрельцы, все седоки, вытянув шеи, замерев, слушали и смотрели, что делается на берегу.
– Да как же смеешь ты, дерзец, неподобной лаею лаять моего сына, а? Стрельцы, эй, стрельцы! – гремел боярин. – Взять его! Хватай!
С подплывающего струга на крик поскакали, посыпались на берег стрельцы в цветных рубахах, без кафтанов, с прихваченным оружием, окружили, жарко дыша, попа и Шереметьевых. Тихон тоже прыгнул на берег, попал в неглубокую воду, выбрался, затерялся в испуганной толпе. А поп не казался испуганным – только выпуклая грудь его то высоко подымалась, то опадала, глаза горели глубоким огнем.
– Взять! – ревел боярин. – Батогов!
Стрельцы шагнули к отцу Аввакуму, но тот высоко поднял свой крест над головой. Стрельцы остановились.
– Православные, что творите? – гремел мощный, мягкий голос попа Аввакума. – На мне сан! Бог поругиваем не бывает! Не перестану я обличать нечестивых, покуда живу. Или забыли уже в радостях жизни мирной, как вера наша избавила бедную Русь от конечной погибели? И чего ты, государь, рыкаешь, аки скимен[59]59
Лев.
[Закрыть]? Чего? Не сам ли виноват ты, что сына не вырастил в страхе божьем? Сказано: «Дети небрегомые грешат, за то отцам от бога грех, от людей укор и посмех». Или на посмешище вьюноша сей одет? Какого ж отца сын? Боярский! Воеводский! По сыну то видать, что отец не разумеет, что творит. Горды стали, свой народ не любите, народом, обычаями его брезгуете!
Тихон стоял, сжав руки у груди. Впервой в жизни своей среди всеобщего молчанья, среди хитрых иносказаний слушал он такие прямые речи. В душе его словно прорвало запруду мельничную, хлынуло то, что давно где-то кипело, билось, хотело родиться, но пока еще не рождалось, – человеческое свободное слово, такое вот самое, какое Тихон слышал сейчас.
Под горячими словами отважного попа воевода корчился, ревел только:
– Сымайте с него крест! Бейте его! Игнашка-а! Игна-ат!
Тогда, зимой, когда в заезжем дворе Пахомов хлестал пьяного попа, Тихон, негодуя, радовался. Зато теперь подымался у него в груди горячий гнев против боярина: тут слова попа были правы, а боярин гневается за них. А нужно, чтобы такие слова знали бы и говорили бы все люди, то была сама сильная правда, исходящая из сердца. У бабки Ульяны в ее словах была тоже правда, но та правда другая– легкая, сияющая тихо, никого не поражающая, не жгущая, не обжигающая. Эта в деревенском попе показавшаяся мощь правды удерживала силу стрельцов, не смели они шагнуть вперед: против силы боярской вставала сила посильнее.
Боярин, остервенев, ревел раненым медведем, – слово правды ранит пуще стрел; стрельцы же топтались, пятились под горячими словами, под огненным взором деревенского попа, когда наконец на воеводском струге от крика проснулся, вскочил, шагнул с борта прямо в воду стрелец, кудрявый Игнашка Бещов, с саженными плечами, в рыжих патлах, из-под которых обаполы курносого носа пялились оловянные озорные глаза, с помелом рыжей бороды на огромной челюсти, могучий, как степной конь. На берегу Бещов глянул на разъяренного боярина, услышал его крик «хватай», огляделся, бросился к попу, охватил его чудовищными лапами, бросил, как полено, себе на плечо.
– Куда прикажешь, боярин? – хрипел Бещов.
– В Волгу его! Мечи в Волгу! Топи его!
Сдавленный, как дитя, рычагами могучих рук богатыря Игнашки, поп даже не бился на его плече: это было бы непристойно. Он только громко восклицал:
– Господи, спаси! Господи, помоги!
Под крики толпы, увлеченной и восхищенной зрелищем силы, стрелец Бещов легко вскочил с ношей на нос струга, перебежал по нему к корме, поднял попа Аввакума высоко и швырнул его в Волгу.
Боярин подбежал прытко к самой воде, схватившись за живот, громко хохотал, смеялся за ним и сын Матвей. Глядя на боярина, засмеялся было кто-то из стрельцов, но смолк, толпа молчаливо насупилась. Страшна была сила рыжего гиганта, что стоял на корме струга в своем красном кафтане, следил, подавшись вперед, за тем, как на воде, в середине расходившихся кругов, всплывали пузыри, как, колыхаясь, плыла поповская скуфья.
Тихон не раздумывал. Как был, так и бросился в реку, поплыл вперед, осматриваясь – не покажется ли где длинноволосая голова?
Поп Аввакум вынырнул много ниже того места, куда он был брошен, огляделся, выплюнул воду изо рта, увидел подплывающего к нему Тихона.
– Ты что, раб божий? – спросил он, улыбнувшись добро.
– Не утонешь, батя?
– Не-е! Волгарь я! Спаси тебя Христос! Поплыву подале от сих скимнов!
И Аввакум, за ним Тихон поплыли вниз по течению, за мысом вышли на берег, стали разоболокаться, выжимать одежу.
– Ты, молодец, откудова взялся-то? – спросил поп Аввакум дрожавшего от волнения, гнева и холода Тихона.
– Со струга я! Иду на нем на Низ!
– То-то вижу – не здешний ты. Ты чей, раб божий?
– С Устюга. С Великого. По торговому делу. Благослови, честной отче!
– Погодь, оболокусь, так-то непристойно! – отвечал поп Аввакум, выжимая кафтан. – Спаси бог за горячую душу!
Другие-то, бедненькие мои прихожане, стоят да глядят, а в воду скакнуть не смеют. Как скакнешь? Ведь боярин попа-то бросил! Боярин! Дрожат, хоть и в воде не бывали. А души-то хорошие!.. Ты докуда плывешь?
– До Казани! – говорил Тихон. – Дивлюсь я, отче, как ты смело говоришь с большим боярином.
– А что Иван Златоуст пишет? Ты «Маргарит»-то чёл ли? Любовью к людям мы только и спасаемся, другим ничем же. «Аще предам тело мое на мучение, да сожгут его, – сказал апостол, – а любви не имею – никакой пользы не будет!» Люблю людей, затем и учу, люблю русичей, ну, от дураков страдать-то и приходится, силен-от бес-то, ох силен!
Поп Аввакум говорил все медленно, ясно. Видно было, что все, что он говорил, было у него давно обдумано, приведено в строгий порядок, и Тихон, глядя на спокойный лик деревенского попа, дивился этой твердости.
Поп Аввакум вздохнул. Огляделся.
– Эка благодать-то, господи! – помолчав, заговорил он, любуясь на березовую рощу, трепещущую, сквозную, яркую, в солнечных искрах и кружках. – Премудрость божия! Весна-красна! Как все прилажено, как всяк злак на пользу человекам! А вот такой скимен рыкающий, – кивнул он в сторону стругов, – ревет, а чего – и сам, дурачок, не знает. Сам себя укротить не хочет, нравен больно. А ты борись! Укрощай! А не укротишь себя – так люди укротят! А люди не укротят – бог укротит, сильна у Христа-то шелепуга[60]60
Плеть.
[Закрыть]!
– Укротит?
– Обязательно укротит! Сам себя укрощай! Сам с собой борись! А когда все люди с собой крепки будут – ой легко на земле будет жить! Борись, сыне, с собой! Однова приходит ко мне одна девица красна, – ух, много греха. Исповедуется, а я слушаю ее речи и чую – беда мне! Блудный огонь и меня одолевает! Ой, горько мне! Я три свечи к аналою прилепил, зажег да праву руку свою на пламя возложил. Угасло оно, блудно разжение-то! Жечь себя надо, бороть…
Аввакум смотрел прямо в глаза Тихону – взор попа был легок, как бы удивлен.
– Значит, можно себя-то победить, – говорил он. – А сам себя победил – всех победил! Вдругорядь воевода наш дочь у вдовы-старушки отнял, взял себе на потеху. А я его в церкви обличил, сказал народу начистоту. Так он, дурачок, пришел ко мне в церковь с людом своим и, выволокши из храма, чуть не задавил меня. Ха-ха! С полчаса я лежал на снегу, как мертв. Потом ожил. А он, узнавши, что я жив, в церковь опять приходил, там меня бил и за ноги по храму таскал. А я в ризах только молитву творю.
Поп Аввакум подошел к кусту, на котором сушился кафтан, заглянул в сапоги и с доброй улыбкой вздохнул:
– А ну его! Не знают, что творят!
– Вот так всю жизнь в борении и живешь здесь, отец? – спросил Тихон.
– Нет, я в Москву от обиды потом потащился. К Неронову протопопу, к Ивану. К земляку. Тот меня к царскому духовнику свел, протопопу Степану. К Вонифатьеву. А Степан-протопоп про меня царю сказывал, и звал меня царь к себе, грамотку дал. Велел назад волочиться. Ишь ты, запировали!
Со стороны стругов неслись раскаты басовитого хохота, визжала баба.
– Как есть робятки! Пируют, – говорил добро поп, покачивая головой. – Однова меня чуть не задушили, как царь Иван митрополита Филиппа, вдругорядь сейчас чуть не утопили, аки волхвы Степана Пермского. И смеются люди, дурачки.
– Батюшка, а ты Пахомова Семена Исаковича – патриарший он человек – не знаешь ли?
– А как же! – живо повернулся к нему отец Аввакум. – С Нероновым ревнуют о благом. И Никон-архимандрит с ними… Дружки, спаси их господи. О народе забота у них… Ну, я оболокусь да побегу к себе этой стороной, а ты, раб Христов, будешь у нас – захаживай коли. Не забывай грешного иерея Аввакума.
Одевшись, поп Аввакум благословил Тихона и пошел к себе в село Лопатицы, прямиком через поле, а Тихон кинулся к стругам.
Бежал и думал:
«Как ведь оно бывает! Чего ищешь – ан вот оно! Само в рот лезет. Бабка Ульяна учит молчанию, поп Аввакум – слову учит. Сперва, должно, молчат, а потом, как уж невтерпеж станет, говорят… Ну и в воду попадают. Тоже не легче…»
Тихон перевалил через мысок – стало под дымом видать костры. В двух казанах варили уху. Два холопа у одного котла возятся, стрельцы – у другого. На травке ковер постелен, на нем возлежит воевода, пиво стоит, сулейки цветные с вином, мужики без шапок кругом стоят, ветер кудри у их вьет, у воеводы лысина блестит, розовая под солнцем. Боярин гремит безотрывно:
– Платить недоимок не будете – в батоги! На правеж! Или государю не платить, царю и великому князю? Гиль[61]61
Бунт.
[Закрыть] подымать хотите?
Тихон обошел стороной, пришел к себе на струг, лег на стлань, слушал, как за бортом стучит, хлюпает вода – тихо да ласково. Ой, как хотелось бы тишины, да ласки, да милосердия! А как давеча ревел боярин, как хохотал, что поп пузыри пускал! А рыжий богатырь Бещов? Не знает, дурачок, чертова сила, что творит. За боярином идет. С него и спрашивать нечего. Спят, спят люди, дремлют.
И видел Тихон над собой лицо Аввакума, доброе да сильное.
Новое! Таких людей еще он, Тихон, николи не видывал.
И когда вернулся на струг его сосед, Кряжов Сергей Семенович, Тихон крепко спал, так и не попробовав ухи из боярской тони в Работках.
Лежит село Лопатицы недалеко от пристани Работки, на невысоком склоне меж двух рядов холмов, на дороге на Нижний Новгород. Кругом богатые луга, бортёвые темные леса, в самом селе шестьдесят дворов, на селе три кабака боярских, спаивают народ. Весь приход большой – до двухсот пятидесяти дворов.
Жили в селе по старине, миром. Староста да судьи были выборные, крестьяне тянули посошное тягло. Центром всей общественной жизни была церковь в Лопатицах да еще ближний монастырь Макария Желтоводского.
Шел уже девятый год, как поп Аввакум Петров священствовал в Лопатицах, а сан он принял на двадцать третьем году жизни. Сельский мир дал ему избу, землю, и он жил простым крестьянским обычаем. Попом Аввакум был белым– женатым, попадья его, кроткая Настасья Марковна, была дочерью кузнеца. Были они многодетны, да еще жили в их семье младшие братья Аввакума, вдова одного из братьев и племянница. У Петровых, как у всех крестьян на селе, была лошадь, сам поп пахал, сеял, жал хлеб, косил сено, и ему в этих работах помогали семейные… Трудились все шесть дён в неделю, спали на лавках под овчинами, в субботу ходили в баню, в субботу поп в сельской церкви пел всенощную, в воскресенье – обедницу…
Сдавая испытание на попа пред епископом, молодой ставленник Аввакум читал громко, ясно, выразительно, за что получил подарок от епископа – рясу, скуфью, несколько книг. А став попом, в этом еще преуспел, и «слово божие истекало из его уст, как сладкие воды». Дом свой и хозяйство он вел строго и домовито, за что пользовался уважением среди прихожан.
Пробираясь полем в свое село, щупая одежду, покачивая головой, раздумывал Аввакум Петрович о самом себе:
«Царь-то Алеша мне на Москве обещал, что больше меня никто обидеть не смеет, а вон оно как выходит!» А ведь у него, у Аввакума, на Москве много дружков, и все немалые люди.
«Много нижегородцев на Москве, помогут же мне они!» – думал поп Аввакум… Знать, он и не чуял еще тогда, какими жестокими врагами обернутся потом ему, Аввакуму, эти дружки…
Бежит поп Аввакум полем. Весенний ветер сушит да сушит на нем кафтан…
…И ужели такие-то московские люди его, бедного попа, в обиду дадут? Ей-никак! Неужто у царя не найдет он управы на жестоких воевод? «Ей-найду!..»
Поп Аввакум бежит, а сам так все и видит, как тогда оно было. Сидят его дружки и он сам в Москве, в палате у благовещенского протопопа, царского духовника Степана. Все тут. Никон – архимандрит Новоспасский. Молодой царский стряпчий Федор Михайлович Ртищев. Протопоп Иван Неронов. Другие попы, что со всей земли в Москву за правдой идут. Хлоп – и дверь настежь! И входит он, надежа, царь Алексей. Молоденек, ох молоденек! И все они, сколько их народу в палате тогда ни было, все единомышленны, все душой об одном болеют – быть бы Московскому царству благочестивым православным царством. Первым в мире! Был бы в царстве сем народ добродетелен. Храмы благолепны, Москва – что твой Царьград!
Все они кругом царя как цыплята вокруг наседки, а он-то, царь-батюшка, всем им помогает, всех-то их хвалит.
Как оно в псалме Давыдовом поется?
«И вывел народ свой в радости, избранных своих – в веселии! И дал им земли народов, чтобы соблюдали уставы его и хранили законы его!»
Кто выведет? Да он, Алеша-царь! Дружок! Свой! Царь-то – он все может!
…Поп Аввакум остановился перевести дух, пощупал кафтан – сух совсем, не будет сетовать попадья Марковна.
А кругом родное! Под осыпью весеннего солнца свежа зелень лугов, черны поля, ярки озимые всходы, сквозят перелески – береза да ольшаник, за ними синий еловый лесок. По черным полям за лошадками, за сохами идут сильные пахари, ребятки ведут лошадей, кое-где и боронят. Волга сверкает вдали колким блеском, три паруса белеют у берега, – надо быть, шереметьевские струги обедают, поплывут дальше, в Казань! На тех стругах рослый бородатый молодец, что не побоялся, прыгнул за ним в Волгу, спаси его Христос! Добрый человек! Есть добрые люди на свете!
И вдруг будто холодом обдало, пронизало попа, словно судорога повела душу.
«А може, все те разговоры у протопопа Степана о церкви просто многомятежны? Горды, заносчивы? Да разве направишь вольный народ к правде крестными ходами, колоколами, хоругвями? Пеньем? Ей-нет! Это одно величанье против простых людей. К народу нужно в сердце, в душу войти, жить с ними, с простыми людьми. Учить их. Чему? Тому, что душу мягчит, спасает, звать к любви, к труду. Бог – он любовь! Пример спасет народ, – слово учит, пример ведет. Жить, жить самому надо так, чтобы как свеча гореть перед богом, а не величаться дружбой с великими людьми на Москве. И с чего это верится, что большие люди могут великое сделать? Суета! Труды повседневные, всенародные совершат величайшее. А вот хочется, до чего хочется попу опять в Москву тащиться, с большими людьми дружить, языком звенеть, пышные хоры слушать в Успенском соборе! А по церквам-то по нашим служат неблаголепно, и читают и поют враз, поскорей, абы избыть службу, – работать ведь всем надо. Нет, дьявол это соблазняет, ставит меня на высокую Гору, на мир кажет: вот он-де, все твое! А ты не ходи, не ходи в Москву-то, держись за народ, за простого человека. За землю свою».
И поп Аввакум, как столб, пал с рыданьем на пахучую, теплую, живую пашню, обнимал руками землю, обливал ее слезами. «Земля моя! Святой, благодатной должна стать эта земля от трудов людских, не от гордых слов, не от пышных риз… Жить с простыми, не с гордыми. В народе спасенье, в народе жизнь бесконечная. Народ-то не для себя хорошего ищет, а для всей земли…»