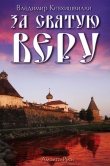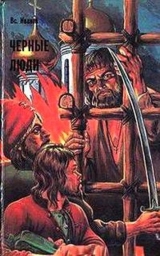
Текст книги "Черные люди"
Автор книги: Всеволод Иванов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 42 страниц)
Глава седьмая. В Москве
Как все старые города русские стоят на острогах – на мысах при слиянии рек, Москва стала тоже на слиянии рек Москвы и Неглинной, тоже на холме, как все города. Города все укреплены стенами, и крепче всех других городов стены Московского города-крепости – Кремля. Высоки его стрельницы-башни, крытые зеленым изразцом, на башнях золотые орлы, под башнями – тяжелые ворота.
Вокруг всех городов московских – посады.
И вокруг Кремля тоже посады. Там живет двести тысяч посадских черных людей.
Три кольца стен охватывают в Москве эти огромные посады, образуют собой еще три города:
Китай-город.
Белый город.
Земляной город.
В трех посадах, за стенами, жизнь бьет ключом. Московские посады тоже сплошь покрыты чешуйками крохотных дворов. Вокруг каждого двора тын из заостренных бревен, ворота…
На каждом дворе рубленая изба, какие стоят в деревнях по всей Московской земле. Избы крыты какая как – тесом, а больше дерном, соломой, берестой. Каждый ведь мужик в одиночку, по-своему ставит себе избу.
Посады – огромный костер из бревен, проконопаченных пенькой. Летнее знойное солнце, крепкие ветра высушивают московские избы, что хворост. А налетит случаем беда – красный петух – зимой или летом, все ему равно, – надрывно забьют на башнях, на церквах набаты, побежит, закричит, заплачет в тесных, кривых улочках, в переулочках черный народ, будет подымать против огня иконы, растаскивать, рушить избы, тыны в охват пожара, молиться, клясть, гибнуть в алом пламени, над городом встанут, пойдут, шатаясь как пьяные, огненные смерчи с черным дымом под самые облака, с гулом, с воем, с треском полетят, посыплются на избы горящие головни, искры, солома…
Много раз Москва сгорала дотла, выгорало все, что может сгореть, по дымящимся, холодеющим пожарищам бродили с плачем погорельцы. Искали горюны в холодном, сером пепле кто чего – кто закопанное во дворе серебро, кто дорогих косточек…
Но оставались стоять стены Кремля, его башни, его соборы, и, глядишь, вновь звенят бодрые стуки топоров, орудуют по Москве новгородские, галицкие, ростовские плотники, плывут по Москва-реке из лесных мест на плотах готовые избы. Всенародный труд быстро подымает Москву из пепла свежими, медового цвета избами. Бессмертна Москва! Не потому, что прочны ее избы, а потому, что вечна сила ее – живой народ.
Москва бешено, молодо хочет жить. «Скучен день до вечера, коли делать нечего» – говорит пословица. Жить для посадского человека Москвы – значит работать. Как работают посады всех московских городов, так же работает и Москва. Московские кузнецы куют все – от подков, от гвоздей до тончайших сканей на серебряных окладах икон, на переплетах книг. Ткачи прядут и ткут все – от холста до ручников, тонких, камчатных скатертей. Сапожники тачают и простые и цветные сапоги с татарскими мягкими голенищами, с головкой с выгибом, с острым носком вверх. Богомазы пишут иконы несказанной красоты, серебрянники сковывают их богатыми окладами, золотыми цатами с самоцветами, тончайшей работы. Бронники куют оружье – сабли, мечи, кинжалы, бердыши. Пушкари льют пушки, паникадила, колокола. Резчики покрывают хитрой резьбой сундуки, поставцы, столы, лавки, наличники окон, режут из дерева ложки, братины, точат из дерева чаши, блюда, миски, кроют их розово-красным лаком с золотом, с цветами. Портные шьют всю одежду, какая надобна человеку, – от овчинных шуб, от холщовых подштанников и до щегольских зипунов в обтяжку, с узкими рукавами, с пристяжными высокими воротниками козырем, низанными жемчугами, до богатых кафтанов из веницейских бархатов. Оловянишники льют оловянную посуду – блюда, стаканы, кубки. Скорняки подбирают то словно мозаику, а то как целый верх меха из головок, хребтинов, душек, пупков, лапок, хвостов. Рукавишники вяжут рукавицы, перчатки, чулки. Кружевницы плетут на коклюшках кружева тоньше паутины. Плотники строют – от простых изб, от церквей-обыденок, что строются по обещанию за один день – с утра до вечера – с начала до конца, до боярских деревянных затейливых теремов. Каменщики кладут белокаменные соборы, золотошапошные колокольни, хитрые каменные росписные царевы палаты!
Варят в Москве меды, душистые как цветы, – малиновые, клюквенные, яблочные и инбирные, сбитни медовые, горячие, как огонь; квасы ядреные, игристые, шибающие в нос; жарят, варят, пекут кушанья, про которые в восторге пишут иностранные дипломаты.
И все, что ни делают московские люди, все они делают для себя, по заказу или на продажу, на нужный обиход, на потребу людям, всему миру.
И не один какой-нибудь только мастер, а все они умеют делать свое дело. Все они искусные, умелые, ловкие мастера. «Московитам не показывай секретов, – писал один иностранный путешественник, – они все сразу перенимают».
На Ярославской дороге вскакал возок с Босыми да с Пахомовым в ворота Земляного вала, проскакал прямиком к Сретенским воротам. День был солнечный, блестел белый снег, люди шли, ехали дровни, везли сено, солому, дрова, зерно, мясо на торг, всякую кладь.
Проезжали Сретенские ворота каменного Белого города, и Тихон, высунув из возка голову, дивился белой присадистой башне, острому верху с прапорцем, каменным, в два жилья, палатам, что стояли за воротами слева; проехали белокаменную пятиглавую церковь Сретенского монастыря.
Возок несся теперь вниз с холма, народу становилось все больше.
– Ну и народу! – заметил Тихон.
– Это еще што! – похвастал с удовольствием Кирила Васильич. – А ты в пятницу альбо в середу посмотри, молодец, когда народ на базар на Красную площадь идет, тащит, что дома наработал, – продать, сменять, купить, выменять, что нужно. Ей-бо, ну как мураши!
– И весь день-деньской эдак-то! – отозвался Пахомов.
– Почитай, так! – крякнул на ухабе Кирила Васильич. – А в Москве ночью все ворота на запоре, решетки поперек улиц, везде сторожа. Ходить нельзя. Можно только по самонужнейшему делу, с пропускным листом да с фонарем, а то попадешь в Земскую избу. Мотри, Тихон, заночью по Москве не ходи!
– К ярыжкам ежели и не попадешь, так лихих людей в проулке берегись. Разденут, убьют – запросто! – наставлял и Пахомов.
– Что верно, то верно! – подтвердил Кирила Васильич. – А вот и Китай-город. Лубянские ворота. Раньше тут лесной торг был, лесом, лубом, избами торговали. Ну, теперь подалек с глаз, к Покровским воротам, все убрали. Грязи много было! Тут теперь лавки стоят… Разный товар…
Лошади взяли вправо, бежали вниз по угору, мимо высокого тына, у ворот – стрельцы. За тыном дымила черно каменная башня, железно грохотали молота.
– Пушечный двор! – с уважением ткнул туда пальцем Кирила Васильич. – Пушки льют. Колокола. А вот прямо под горой – Кузнецкая слобода. Речка внизу – Неглинная. Кузнецкий мост – вот он, через речку. А дальше по берегу– Охотный ряд, туто торгуют ествой всякой. Ряды вона – Харчовый, Калашный, Прянишный, Питейный… Чего хочешь.
– Не Устюгу чета! – отозвался Тихон.
– Захотел! – смеялся Кирила Васильич. – Посады наши работают на всю землю. Да, почитай, со всей земли сырье мы, торговые люди, везем сюда – и шерсть, и хлопок, и лен, и зерно, и кожу, и меха!
Возок уже ехал по Никольской улице. Пахомов заволновался, тычет рукавицей.
– Печатный двор, где книги печатают! – кричит он через грохот саней по обледенелым бревнам мостовой. – А вот хоромы Никиты Иваныча Романова.
– Царева родня?
– А как же! – поднял торжественно рукавицу вверх Пахомов. – Тут греческий монастырь. Хоромы князя Телятевского!
Мелькнули мимо такие фигуристые, такие пестрые избы-хоромы, что видно, что хозяева их, должно быть, гордые люди.
Возок выехал на Красную площадь, повернул влево. Кремль стоял вовсю каменной могутной громадой, лез к вечереющим уже облакам.
А Кирила Васильич кажет влево:
– Гляди, Тихон! Все это – место Красная площадь, по-старому Пожар! Гостиные ряды! Все лавки! Видишь, сколько товару делает Москва! Не зря посадские люди живут! Ана-вон высокая изба на подклете – Заезжая изба для иногородних торговых людей. А это все – ряды: Суконный ряд, Шапошный, Рукавишный, Скорняжный, Домерный – гудки, гусли, домры. Шелковый. Дальше – Саадашный, Бронный, Седельный, Серебряный… У Василья у Блаженного, видишь, Иконный, Монатейный… Дальше – иноземные дворы – Персидский на двести лавок. Армянский. Греческий. Аглицкий – уже на Варварке.
– А под Кремлем-то тоже лавки?
– А как же! Нешто можно, чтобы место праздно на Красной площади пропадало! Ну, под Кремлем скамьи, незавидные шалаши, ларьки – все мелочной товар… Тут и Обжорный ряд. А под Васильем Блаженным, видишь, бабы? Свое рукоделье продают – рукавицы, ширинки, чулки, кружева, шапки. А там вона, к Москва-реке вниз идет, с горы, за Васильем Блаженным, Овощной ряд – овощь всякая. А от Овощного ряда вниз, вдоль Москва-реки, – Рыбный ряд. У-ух, сколько рыбы!
– Должно, уже на льду, на Москва-реке торгуют! – заметил Пахомов.
– Ага! – согласился Кирила Васильич и крикнул ямщику: – Давай, друг, налево, к Москворецким воротам.
Солнце короткого зимнего дня уже клонилось к закату, на Красную площадь ложилась косая тень, крыши, стены были покрыты розовым снегом, над Кремлем громоздились облака – медные, клюквенные, Василий Блаженный сиял радугой. Вдруг колокольный гул потряс словно и небо и землю. Это заговорил медным языком Кремль – невнятным, но оглушающим, пугающим, властным. Сани неслись в тени узкой улицы, девушка в телогрейке, прикрывая рукавичкой рот, выглянула было из калитки. Кирила Васильич несколько раз привставал в нетерпении с сиденья и наконец крикнул:
– Стой! У ворот! Молись богу, доехали!
Он снял шапку, крестился – и за ним его спутники.
– Семен Исакыч! Не обессудь, загляни на час, будем хлеб-соль водить. Эй, парень! Греми в ворота, заезжай во двор! – распоряжался старый Босой.
Греметь ямщик не стал, а вылез, заглянул в калитку, сказал спокойно:
– Ворота отворяйте! Сам приехал!
Тихон стоял, смотрел. Все как везде. Тын в два прясла выходил на улицу, в нем могутные ворота с крышей на два ската, под крышей медный крест. Во дворе две большие избы на подклетях, связанные высокими сенями, к сеням взбежала лестница, на двух бочатах-столбах. На задней избе светлица. Тут же, должно, мыленка, поварня, да две избушки для челяди, да покрытый снегом погреб.
Восторженный визг потряс воздух:
– Тятенька приехал!
С лестницы, с крыльца, птицей первой, как и в Устюге, неслась девочка лет четырнадцати – Настёнка. Отовсюду бежали люди, хлопали волоковые окна избушек, выглядывали лица, люди бежали по двору, натягивали тулупы.
Возок двинулся в ворота, за ним шли все приехавшие гурьбой, а Кирила Васильич впереди всех, неся на груди повисшую дочку.
– Ин ладно, дочка, ладно! – говорил он ласково. – Ишь, инда замлела. Мамынька-то поздорову ль? Сказывай беги – баню да ужин пусть готовят!
А сизая тень с остриями башен ложилась от кремлевских стен, пламенем горели золоченые купола, краснели белокаменные стены соборов, всенародной свечой над Москвой горел Иван Великий. Со всех сторон несся, словно приглушенный тихим светом, звон колоколов – Москва отвечала Кремлю.
В Кремле, в углу у Боровицких ворот, стоит царев Верх – хоромы восемнадцатилетнего царя Алексея, пестрая масса разной величины зданий деревянных и каменных.
Теперь в пламенеющее небо подняты их высокие крыши – справа Грановитой палаты, к ней – Красное крыльцо, под шатровыми верхами, левее – Золотая палата с золотым крыльцом, еще левее – Набережная палата, с окнами в Верхний сад. За Грановитой палатой Теремной дворец да Оружейная палата, меж ними церковь Лазаря. Высоко поднялись Колымажные ворота – въезд в царев двор, около которого бояре, приезжая, оставляют свои колымаги, а рядом с ним – церковь Сретенья… Крыши крыты медью – досками красного цвета, зеленым, как рыбья чешуя, гонтом, на них прорезные, золоченые, раскрашенные гребни – блестят флюгера-петухи, скачущие против ветра на дыбках кони и прапорцы-флажки. Окошки в диковинных этих избах узки, малы, садящееся солнце, отражаясь от слюдяных оконниц, зажигает в них реки блеска.
Хоромы Кремля и Василий Блаженный – одного поля ягода, выросли оба из русской лесной избы, под русским небом с его цветными облаками. Они набрали в себя бурный, переливный, но нехитрый блеск лесной, луговой, полевой жизни, веселой, как лохмотья скоморохов.
Цветистую эту жизнь охватила Кремлевская каменная стена с зубцами ласточкиным хвостом, обстали восемнадцать стрельниц-башен, заперли тяжелые ворота на кованых петлях.
За красной стеной стоят белые, простые кубы белокаменных соборов, неуклонно четкие, холодно взирающие на буйный блеск, на игру нагроможденных, перепутанных, в цветные узлы завязанных избяных бревен.
Камень борется здесь против дерева. Русские зодчие – Бажен, Огурцов, Барма и Посник и другие – схватились здесь с фряжскими архитекторами – Аристотелем Фиораванти, Марко Руффо, с Пьетро Антони, Соляри, с Алевизом. Иноземцы принесли сюда с Запада готовые, выработанные формы и поставили их как формы божественно вечные перед ничего не возбраняющей простотой лесных, богатых, могучих, добрых, еще скромных душ, подавляя их своим солнечным величием.
Тихо сейчас в тесных царевых покоях. В переднюю избу, что сразу же за переходом из сеней с Красного крыльца, еще не вносили огня, красный сумрак хлещет сквозь прорезные узоры свинцовых оконниц в виде трав, репьев, листьев, круглых денежек, в которые вставлена слюда. В Передней под образами пусто царское место – резное кресло алой парчи с шитым золотом двоеглавым орлом, первого да второго Рима, перед местом – невысокое подножье. По стенам лавки под суконными полавошниками и коврами– на них сидят бояре в теплых своих шубах, беседуют вполголоса. Ждут допуску.
Все именитые бояре тут. Впереди, у самой двери, – Милославский Илья Данилович, – отец двух сестер невест– царской и морозовской, начальник приказа Большой казны, где хранятся царские сокровища, он же начальник Казенного приказа, ведавшего всей торговлей, он же – Иноземного приказа и Рейтарского приказа, ведавшего всеми иноземцами на московской службе.
Илья Данилович мал ростом, тучен, утиный нос вперед из бороды выдался. А рядом с ним князь Трубецкой Алексей Никитич – начальник Казанского и Сибирского приказов, что ворочает всей Соболиной казной, – сухой, плечистый. Тут же пробивается к царской двери князь Михайло Петрович Пронский, начальник Приказа Большого прихода, – в руках его весь хлеб, весь контроль доходов казны. Машет руками, вполголоса спорит начальник Пушкарского приказа окольничий Траханиотов Петр Тихонович– в его руках производство всей артиллерии. Спорит он с боярином Богданом Матвеевичем Хитрово, в чьих руках золотые доходы со всех кабаков, кружечных дворов, со всей водки и табака. В стороне стоит, помалкивает, только кругом высматривает князь Долгорукий, Юрий Алексеич, начальник Разрядного приказа, глава вооруженных сил страны. Тут и начальник Поместного приказа, сажающий помещиков по всей земле, Семен Лукьянович Стрешнев; тут старик окольничий Прокопий Федорыч Соковнин и начальник Дворцового приказа, заведующего царским двором, Василий Васильич Бутурлин, из молодых да ранний; старый и думный дьяк из Посольского приказа Алмаз Иванович Иванов; тут же три братика-князя Львовы, да князь Иван Иваныч Ромодановский, да молодой богомольный любимец, стряпчий царя Федор Михайлович Ртищев. Здесь все те, кто держит в руках власть, в чьих руках все то богатство, что производит, добывает Московская земля.
Из Передней низкая, в резном косяке, на кованых петлях дверь ведет в цареву комнату.
Государь за дверью, в «комнате», по-теперешнему – в своем кабинете. В комнате, в углу, под образами, стул царя, рабочий длинный стол под красным сукном. На столе в витых шандалах горят две восковые свечи, стоят немецкой работы часы, черниленка золоченая с лебяжьим пером, карандаши, песочница, клеельница. Лежит много книг.
По стенам тоже лавки и коники[40]40
Широкая лавка у печки.
[Закрыть]. На стенах книгохранительницы, под лавками сундуки, на них резаны райские птицы Сирин да Гамаюн, на вислых полках серебряная и золотая посуда.
У окон в медной высокой клетке заморская птица – сине-зеленый, с красным хохлом попугай, выученный петь «Господи, помилуй!».
Царь под стать этой пестрой своей избе – приземистый, широколицый, словно яблоки красны щеки, бородка молодая, русая, темные волосы стрижены в кружок. На нем голубая рубаха, с пристяжным, жемчугом шитым воротом, подпоясана тканым пояском, широкие синие штаны в сафьянные заправлены сапожки с высокими подборами, кафтан белый, с серебром, с зелеными травами. На пухлых пальцах перстни.
Алексей Михайлыч сидит за столом, читает – в который раз! – перевод греческой золотой грамоты, что принес ему боярин Морозов Борис Иваныч, а нашел ту грамоту Морозов в делах покойного царя Ивана Васильевича, и цены нет той святой грамоте патриарха Цареградского Иосифа за его золотым подписом да за подписами тридцати одного греческого митрополита. И выходит по той грамоте – ведутся московские цари от рода и крови царей Нового Рима, Константинополя, от царевны Анны, сестры автократора Василия Багрянородного. И потому он, царь Московский, «как высочайшее и светлейшее солнце ходит над своим царством, утвержденный землею и небом» и «посему ему все народы покоряются, все людие послушаются», и царство его твердо.
Читает царь Алексей такую грамоту, и лицо его гневно. Как же так вопчий народ его смеет идти против, буйствовать против его царских указов?
За дверью, в Передней избе, раздались, зашумели голоса, – приехал, надо быть, Морозов. Царь встал, пошел к двери, распахнул ее.
Бояре разом вскочили с лавок, пали в земном поклоне. Широко шагая меж их шубных спин, шел к царю ближний его боярин Борис Иваныч Морозов – большой, седобородый, со степенной улыбкой. Склонив голову набок, остановился, коснулся рукой пола.
– Иваныч! – звал царь, отступая. – Что запоздал?
Дверь захлопнулась за обоими. Морозов ударил челом в землю, царь шагнул к нему, поднимая.
– Дела, государь! – приятным голосом отвечал боярин, вынул из шапки платок, вытер им бритую голову. – Много забот с твоим царского величества весельем[41]41
Свадьбой.
[Закрыть]. Ха-ха!
Царь застыдился, опустил глаза, закраснелся, а боярин смотрел на него, подвинувшись так близко, что до царя доходил жар его черно-бурой шубы.
– Девка-то что твоя малинка, государь. Хороша… – шептал он. – А все ж прикажи из Передней Плещеева кликнуть, Левонтия Степановича. Дело тайное. Бунтовать хотят наши худые мужичонки-вечники!
Царь глянул тревожно.
– Кто ж на меня мыслить смеет? – спросил он, опускаясь в кресло. – Я же богом ставлен!
– А вота увидим, – ответил Морозов и приоткрыл дверь в Переднюю.
– Левонтий Степаныч! Заходи давай! – крикнул он. – Государь кличет!
Начальник Земского приказа боярин Плещеев, низенький, толстый, как бочка, перенес через порог свою тушу в шубе, погасил улыбчатым прищуром огонь свинцовых глазок, выставил вперед пегую бороду, пал тут же, у порога, на колени и бил три раза поклоны, вскакивая, словно брыкаясь.
Отбил – пошел мягко, как кот, к царскому месту.
– Докладывай государю о тех непригожих речах, о чем даве мне сказывал! – приказал Морозов.
– Великий государь, – начал Плещеев, разгибаясь от поклона, смотря снизу вверх, умильно приподняв брови, – доносят твои государевы истцы: едучи с Москвы в Сибирь, сургутский человек Олешка Леонтьев в дороге сказывал смутные речи. Был-де он, Олешка, на Москве и сам видел– делается-де на Москве нестройно! Вся-де Москва – бояре-де по себе, а мир да всех чинов люди – по себе… И де ты, великий государь, про то в великой кручине.
Царь Алексей слушал, все шире раскрывая свои глаза.
– Да откуда ж они прослышали! – шептал он.
– Да еще, государь, – продолжал, невинно помаргивая, Плещеев, – еще перехвачены грамотки. Пишет, государь, боярский сын нижегородский Прошка Коробицын. На Москве-де смятенье великое, станет-де непременно вся земля на бояр, и быть-де всем боярам от земли побитыми…
– Ай-ай, господи, помилуй! – перекрестился на иконы Алексей Михайлович.
– А и то, государь, еще – на Балчуге в кабаке разные люди шибко злобятся на дьяка на Чистого Назара Иваныча. Ярославец-де он, а они завсе воры, везде они как лисы. Чистый-де Назар это дело с дорогой солью вместе с бояры спроворил, народ голодует. Да еще в этом деле гость именитый Шорин Василий Григорьевич тоже боярскую руку держит. А как соляную пошлину учредили, орут горлопаны: царь-де давал указ «иные поборы со всей земли и проезжие мыты везде отставить, стрелецкие да ямские деньги сложить. И торговым людям соль во все уезды и города возить без мыту, чтобы людям всех чинов тесноты и убытку не было бы». Обманул-де царь народ-то, рыбы нету, народу есть нечего. А и хлеб, кричат в кабаках, дорожает. За рубеж его-де увозят, прода-ают!
– Так мы же хлеб в мену за товар отдаем! – вскричал царь.
– Во-во, так люди и говорят, государь, – с поклоном говорил Плещеев. – Чужим-то продаем, а своим есть нечего, а товар-де народу ни к чему… Тот-де хлеб бояре да дворяны у своих пашенных людей выколачивают да за рубеж везут продают, а себе сами хоромы строют каменные. Да еще, говорят, обида народу – аршины орленые покупать велят силом, а тот-де аршин – рубль, а прежнему аршину алтын цена. А все одно меряй!
Морозов глянул на царя, тот – на него, а Левонтий Степаныч, опустив седую голову и расставив руки, говорил потише:
– И еще кричит народ: слышно-де, что обижают народ– вновь воеводы-де стали-де скощенные налоги доправлять, что с соляным налогом отставили было. На правежи ставят! И тут, боярин Борис Иваныч, еще о тебе нехорошо бают. Сказывают…
– Ну, чего? – погладил Морозов длинную бороду. – Сказывай.
Плещеев молчал.
– Ну, ну…
– Сказывают еще, что царь-де сейчас не прямой государь. Не подметный ли? И посадил его на царство…
– Ну, кто? – рявкнул было Морозов, да сдержался.
– Ты, боярин… Морозов Борис Иваныч! Не прогневайся! И табак, дьявольское зелье, в продажу ты пустил. Все-де из-за денег… Больно-де тебе деньги надобны. И соль, и табак. И кабаками душит народ. Пить в кабаке можно, а есть нельзя! И пьяные кричат питухи в кабаках: «Будет грех на Кремле из-за Морозова!»
Царь бледнел понемногу, взялся за край стола.
– О раб неверный! – шептал царь, косясь на дверь. – Зачем тех людей не пытали? Зачем тайно не дознались, какой сговор и скоп с кем еще? Стрельцов послать! Хватать везде!
– Где схватишь, государь? Все они такие. Волчий народ! Все только и говорят о старине. О земской вольности! Бога не боятся! Царя не чтут! – плакался тоненько Плещеев.
– Иваныч, что делать-то будем?
Морозов спокойно выговорил:
– Иди с богом, Левонтий Степаныч! Мы с государем надумаем. Да скажи боярам в Передней избе – сегодня о делах сиденья не будет! Пусть домой съезжают!
Плещеев взмахнул покорно длинными рукавами шубы, повалился, стукнул головой о ковер, поднялся, попятился задом, вышел.
В Передней на бревенчатых стенах, проконопаченных цветной шерстью, скудно горели свечи. Бояре обступили Плещеева:
– Что государь? Сказывай, Левонтий!
– Помяни, господи, царя Давыда и всю кротость его! – отшучивался Плещеев. – Бояре, сидеть о делах сеночь не будем! Поезжайте с богом восвояси Государь указал!
Спускаясь с дворцового крыльца, Плещеев догнал, взял за рукав шубы своего дружка Милославского. Тот тревожно обернулся.
– Илья Данилыч! – шептал Плещеев. – Опасно мне, как бы грозы не было. Молод государь, а все норовит с прадеда, с царя Ивана Васильевича, пример взять. Михаил-то Федорович, покойник, был прост да смирен, царство ему небесное, ну а этот хочет, должно, когти свои казать. А они – есть ли они, коготки-то? Хе-хе!
В царской комнате. теперь боярин Морозов запросто сидел на лавке, царь ходил перед ним взад и вперед.
– Земские люди бунтовать хотят, государь! То страшно! – говорил Морозов, и пальцы правой его руки играли в бороде. – Бояре-то не страшны: у бояр есть что взять, – значит, их прижать можно. А черных людей не прижмешь, нищему-то пожар не страшен! И ежели они с дубьем да ослопьем на Кремль пойдут, чево делать будем?
Алексей придержал шаг:
– А стрельцы, Иваныч?
– Государь! Стрельцы от посадских людей недалеко ушли! Тоже на земле пашут да промышляют кто чем. Торгуют. Ведомо мне, что и они смутны. Сторожа Кремлю нужна, государь, надежней, чем стрельцы… Кто на земле сидит, тот и бунтовать может. Надежней тот, кто на жалованье состоит!
– Стрельцов на жалованье? – снова задержался Алексей.
– Ни, государь. Иноземные люди надежнее. Рейтары! Солдаты! Кто их кормит, они тем не изменяют. Им ведь бежать-то от тебя, государь, некуда. Их и брать надо!
– Да их мало, иноземцев-то!
– Государь, иноземные офицеры – как столбы. Наши люди – как заборы на тех столбах. Немцы – они удержат, в них отчаянности нету!
– Своих на чужих менять, а? Лютеров на православных?
– Господи, помилуй! – вдруг завизжал попугай.
Морозов глянул на птицу, качнул головой.
– А что римские государи говаривали? Раздели и властвуй! Нужно крепких подымать да давить ими на шатущих! Тогда и будет крепко.
Алексей остановился, смотрел на Морозова.
– А чем их за службу жаловать? Деньги-то где?
– Найдем, государь, – хитро улыбнулся Морозов. – Еуропа у нас все купит, серебра даст. Надо только, чтобы наши мужики то работали, что Еуропе нужно…
– А им самим хлеб кто даст?
– А, потерпят! Народ терпелив. За границу поболе продадим. Зато рать учредим как надо. Да твое дело, государь, крепче будет. Войска не в стеганных тегиляях, а, как у поляков, у шведов, в латах. Не с саадаками, не с лучным – с огненным боем. А как, государь, войско заведем – садись на белого коня, как святой Егорий! Наши православные пойдут, только кликни клич! Лихолетье помнят.
Морозов достал из-за пазухи книгу в красном бархате:
– Смотри-кось, Алеша, что я тебе достал!
На титульном листе было красиво отпечатано: «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей. Государь царь и великий князь Алексей Михайлович своим бодроопасным рассмотрительством повелел напечатать сию книгу к ратному строю пехотным людям».
Морозов улыбался, поглаживая бороду.
Царь листал тугие страницы. Полный порядок воинский в книге указан – как приказанья громким голосом подавать:
«– Направо обворотись!
– Налево стань по-прежнему!
– Направо обворотись!
– Налево стань по-прежнему!
– Раствори шеренги!
– Сомкни ряды налево да направо!»
– Чти здесь, государь, – говорил Морозов, тонко улыбаясь. – Вот тут! – указал место в книге. – Все показано, как гораздо воевать! Прямо перед очами поставлено, «чево много сот годов скрывали было, а против того – было скрыто от всех и погребено». Это первая книжица тебе, а еще будет таких четыре ста. Дюже печатный наш двор работает!
– Добро, Иваныч, добро!
Лицо царя приняло мечтательное выражение.
– Если нашим медведям да настоящее оружье дать, как надо, они, пожалуй, всю Еуропу сомнут, ежели нужно. А? Иваныч? Сомнут?
– Сомнут, государь! Обязательно!
– Тогда меня во всей Еуропе царем признают! А то што? Смотри, пожалуй, как шведы мне до сей поры пишут: «Великому князю Московскому». Поляки – те тоже титулы наши неправо пишут. Им наши послы указывают, а они смеются. Кто-де вас, русских, разберет, какие у вас цари, с чего?
А у меня твоя-то грамота ныне всегда при себе! – Алексей поднял со стола золотописьменную патриаршью харатею. – Знаешь что, Иваныч! Мы всех святых патриархов к себе созовем, в Москву. Пусть меня утвердят всемирно! Поедут патриархи к нам, Иваныч, а?
– Их только помани! – тонко улыбнулся Морозов. – Бедные ведь они, под турками, а у нас сила будет, так ее можно и против турецкого султана повернуть. Придут, государь, патриархи.
В волнении царь Алексей закрыл глаза, истово перекрестился. Боярин Морозов смотрел на него отечески снисходительно.
Алексей открыл глаза, тряхнул головой, чтобы избавиться от сладостных видений, зашелестел в бумагах на столе.
– Иваныч! Вота тут роспись, – говорил он деловым голосом. – Отдай-ка тому аглицкому посланнику, что намедни был. Пусть купцам своим скажет, что бы в Архангельск нам бы привезли весной. «Достать царю кружев на конец штанин, как испанский король, и французский, и цесарь ходют. Да протазанов[42]42
Род бердышей, холодное оружие.
[Закрыть] золоченых, как, сказывают, перед ними носют. Также и рукавиц хороших и нитяных, как королевы носют, и попон королевских, бархатных и тканых. Да труб и литавров королевских же, и тронов королевских разных государей на листах рисованных, да обойку всю для палат, и карет дорожных». Пусть всего привезут.
Помолчал и коротко, скромно добавил:
– Карет-то я это для походу, ежели, Иваныч, воевать случится!
Борис Иваныч понимающе кивнул головой.
Царь Алексей медленно перешел комнатку к своему месту, сел, закрыл лицо руками.
– Ин ладно! – сказал он. – Верши дела, боярин. Надумаю! Да поезжай к себе, устал, надо быть, а?
– И то устал, государь! – ответил Морозов. – Дела не оберешься. Да скоро отдохнем! – сказал он с особенной улыбкой, снова вытирая платком бритую голову под тафьей. – Будем вот свадьбу твою играть!
Под его взглядом в упор потупился царь Алексей.
– Это дело другое! – молвил он и выговорил тихо: – Как она? Марья-то?
– Ждет не дождется!
– Иваныч, да ведь это же грех, незамолимый грех. Патриарх-то Иосиф чего говорит? А?
– Патриарх-то стар старичок, государь, а люди говорят другое: в баню сходить – грех смыть. Сводим, государь, тебя в баньку-то! – посмеивался Морозов. – Ну, прости, государь.
И, ударив челом, боярин, пятясь, исчез за дверью.
– Господи, помилуй! – вдруг опять заверещал потревоженный попугай, залопотал что-то, заклекотал.
Царь вздрогнул, остановился.
– Дьявол! – прошептал он, крестясь. Потом подошел к медной клетке, набросил на нее легкое покрывальце. – Спи, дурень!
И ушел в Крестовую, где отдернул завесу, затеплил несколько свечей. Стало светлее, легче.
Боярин Морозов уже ехал тем временем в каптане в свои новые хоромы. Пошел снег. Добрые кони ровно мчали неуклюжий, грохочущий возок, сквозь слюдяное окно мелькали слабые светы кремлевских дворов.
Снег над Москвой все гуще и гуще свисал густой сеткой, всюду мерцали в окнах огоньки – свечки, лучины, – ремесленники сидели запоздно по избам, горбя спины над урочной работой. Завтрева придет день, брюхо вчерашнего не помнит, новый день – новые дела, новые заботы.
Работали бессонно и на Печатном дворе.
В низкой печатной палате с круглыми сводами горели сальные свечки. Двое широкоплечих, густобородых, стриженных под горшок мужиков с ремешками на волосах возились около неуклюжего печатного стана, слаженного из крепких дубовых плах, вымазанных в типографской жирной краске, поблескивал пресс. За листом лист два гиганта клали под пресс, затем, напружив могучие, в закатанных рукавах руки, жали винтом, делали один оттиск, ослабляли винт, вынимали лист, закладывали другой, делали оттиск– и так во всю длинную ночь.