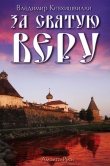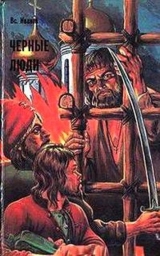
Текст книги "Черные люди"
Автор книги: Всеволод Иванов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 42 страниц)
Морозову заперли в подворье Печерского монастыря, под караул двух стрелецких голов да девяти стрельцов, Авдотью отвезли в Алексеевский монастырь, держали тоже в цепях.
Тем временем на морозовском двору у Егория-на-Холме приключилось несчастье – Ванюшка Морозов, последний из Морозовых, заболел и помер.
Ахнула, загудела вся Москва. Царь-то посылал к нему своих немецких лекарей. Так оно и есть! Залечили, проклятые!
Федосья Прокопьевна в своем заточении рыдала в отчаянии…
– Сын мой! Сын мой! Погубили тебя! Отступники!..
От этих неясных, досадных дел рос гнев царя, обратился на других родных – братьев Федосьи, обоих Соковниных, Федора да Алексея: царь услал из Москвы одного в Рыбную слободу, другого – в Чугуев.
Все земельные имения Морозовых после смерти Ивана Глебовича были конфискованы, «отписаны на государя» и розданы другим боярам, все драгоценности, весь обиход раскрадены. Морозовы стали нищими.
Новый патриарх Питирим, всегда бывший противником Никона, повел даже такую речь с царем:
– Великий государь, вот тебе мой сказ: освободи ты боярыню-то, избу ее отдай ей. Дай ей сотню мужиков, чтобы жила… Сестру Авдотью отошли мужу… Бабы они, ну что они понимают, а какая слава про тебя идет по Москве! Эх!
Царь вскочил с кресла, ахая, затопал больными ногами.
– Владыко святый! Я бы давно бы так сделал, да люта больно Морозова. Бранит, поносит меня по всей Москве. Зло моей голове от нее… Ты сам, владыко, допроси ее, да как укажешь, так и сотворим!..
Ночью в Чудов снова собрались митрополит Крутицкий Павел, много архиереев, бояр. Приехал и патриарх, привезли опять на дровнях боярыню, посадили перед собравшимися, как была, в шубе, в треухе.
– Или тебе цепи так полюбились, что ты с ними расстаться не хочешь? – спросил патриарх.
– Полюбила я их! – сверкнув глазами, ответила Морозова. – Апостол Павел носил цепи.
– Брось безумье! – возвысил голос Питирим. – Брось! Доколе будешь возмущать царскую душу? Приобщись к нам! К соборной церкви. Исповедуйся.
– Ко-ому-у?
– Много попов на Москве.
– Много, а истинных-то нету.
– Я, патриарх, хоть и стар, исповедую, сам приобщу тебя.
– Сам! Сам! Не знаю, что ты сказываешь… Иль ты какой особый? Не как все? Ты чью волю творишь? Был ты Крутицким митрополитом, носил старый клобук, уважали мы тебя, а теперь рогатый на себя вздел. Ну, к чему? «Я тебя причащу»! Не прошу я твоей службы!
Патриарх встал с лавки:
– Облачите меня, я ее помажу миром, – может, бросит безумие.
И когда, облаченный в саккос, в омофор, в сверкающую митру, патриарх подошел вместе с митрополитом Крутицким к Морозовой, та, хоть и больная ногами, вскочила против него, как борец… Митрополит, поддерживая одной рукой патриарха, другой хотел приподнять треух у ней на лбу.
Морозова с силой отбросила его руку:
– Отыди! Не касайся нашего лица! Или не знаешь, кто я?
Патриарх тянул к ее лицу спицу со священным маслом, а она вопила:
– Не губи меня твоим маслом, грешную! – И, оттолкнув патриарха, гремела цепями. – Почему на мне эти цепи? Да не хочу я вам всем повиноваться! Ничему вашему! Ступайте-ка прочь! Не нужны мне ваши злые святыни!
– О исчадье ехиднино! Вражья дочь! Страдница[183]183
Грубая баба, мужичка.
[Закрыть]! Вот ты какая… Сбейте ее с ног! – ревел патриарх медведем. – На цепях, как пса, волочите! Утром в сруб ее! Пожечь! Пожечь!
Морозова упала на пол, ее волокли за цепи, и, катясь вниз по лестнице, она головой стучала по ступенькам.
Патриарх наутро приехал к царю – жаловался. А царь:
– Да я ж тебе сказывал, какова она. Я-то давно знаю ее нрав… Сколько лет я терплю от нее – и чего делать, не знаю!
Ночью снова привезли обеих сестер на Ямской двор в Кремль, и князь Воротынский, Одоевский да Волынский пытали обеих – на дыбу подымали обнаженных, кнутом били, жали досками мерзлыми груди… Морозова и Урусова не уступили.
Патриарх утром на думе у царя требовал сжечь обеих в срубе на Болоте – уж и сруб поставили! Готово! Да бояре не потянули на это…
Дело затягивалось. Боярыню Морозову заточили было в Новодевичий монастырь, под надзор игуменьи, и Новодевичий монастырь стал местом поклоненья – боярыни стали к Морозовой ездить толпами, рыдванами своими двор сплошь заставляли, все смотрят, ахают… Пришлось ее переводить в другое место. Куда?
– Государь брат, – сказала царю старшая его сестра, царевна Ирина Михайловна, – ей, неправо творишь! Морозову-боярыню с места на место возят… Народ смеется. Отпусти ты ее!
– И ты ей дятчишь[184]184
Потворствуешь.
[Закрыть]? – закричал неистово царь. – Ага! Ладно! Я найду ей место! Найду! Не будут к ней ездить боярыни, языками блекотать! В Боровск ее, в земляную тюрьму! Сруб в землю зарыть, чтоб света не видала до смерти…
Царь задыхался – так он был взволнован, хватался за сердце. К тому же молодая жена Наталья Кирилловна была на сносях – вот-вот должна родить…
И скоро, переписанные в далеких лесных дебрях, в землянках, в кельях монастырей, на берегах синих озер, в посадских избах, загуляют, пойдут куда шире, чем по Москве, обличающие Протопоповы огненные слова:
«Ты, душа моя, смотри, кто с тобою! Боярыня Федосья Прокопьевна Морозова и сестра ее Авдотья Прокопьевна, княгиня Урусова! Мучатся в Боровске, в землю закопаны, во многих муках, в пытках, и в домов разорении, и голодуют, и жаждут… Жены они немощнейшие, а со зверем борются! Чудо, дивиться надо сему! Как так? Восемь тысяч крестьян имея, домового заводу больше двухсот тысяч было рублев, сына не пощадила, наследника всему, другая сестра тоже детей имела. А ныне, вместо парчовых постелей в землю закопаны, сидят за старое православье. А ты, душа моя, много ли имеешь по сравнению с ними? Моток да горшок разве, да лапти на ногах! Безумная, ну-ко воспрянь, говори правду – не укрывайся! Какого времени еще ждать лучше – само небесное царство в рот валится! А ты откладываешь, говоришь: дети малы, жена молода! Разорять дом не хочется. А боярыни-то обе какие дома бросили! А ты-де мужик, а глупей тех баб, нет в тебе настоящего ума. Ну, детей вырастишь, переженишь, утешишь жену, а потом-то ведь в гроб? Тоже смерть, да не та же, еще не за Христа, а так, как всем в мире. А кто не ради правды помер – плюнуть на них! Не для того мы в мир пришли, чтоб на кроватях пышных почивать, а чтобы в трудах жить. Христианское то терпение мучительно, а потом в радости забудем все, как баба беременная мучится, бедная, перед родинами, а как родила ребенка – так все забыла… И тогда мертвенные тела наши будут оживлены, и, что ребенок из брюха, из земли снова вылезем, из матери нашей. И пока отвергают вас от своих собраний, а то и просто убьют вас, ровно дело доброе службу сослужит…»
Так гремел из Пустозерска в тундре на берегу Студеного моря протопоп Аввакум, в земле закопан…
Ушла боярыня Морозова из Москвы, больше не вернулась никогда в свой родной город… Время шло, и 30 мая 1672 года ранним утром Москва проснулась потрясенная оглушительным звоном всех колоколов в церквах: ночью родился царевич Петр.
Глава десятая. Театр и костры
Снега тундры как сахар сверкают твердым настом. Закинув за спину ветвистые рога, олени над невысоким бледным солнцем легким своим топотком тащат по насту черные нарты. Снега завалили, сровняли, погребли все озеро и длинную, вдавшуюся в него косу и могучую Печору. Только кой-где торчит из-под снежных перевоев черная березка, искореженная ветрами с океана, да на горизонте сверкают торосы на Пустом озере.
В сплошной белизне малый острожек с почернелыми стенами и башнями, рубленными из леса, что сплавлен когда-то сюда по Печоре. Это Пустозерский острог, московская северо-восточная крепость, ставлена для собирания царева ясака с самояди да с зырян. Да еще на случай, ежели со Студеного океана пожалуют сюда непрошеные гости – норвежские, датские, шведские, голландские, английские вооруженные охотники-пройдисветы. Окромя стрельцов да приказных всего двадцать восемь семей живет в остроге да четыре вдовы с ребятами, да стоит там двадцать шесть дворов брошенных – кто успел сбежал в Сибирь, кто не успел, помер с голоду.
Воевода Неелов недавно согнал на казенную работу всё население города – строить тюрьму. Был там поставлен тюремный двор длиннику да поперешнику по десять сажен, кругом высокий тын торчмя, крепкие ворота, у ворот – изба караульная. Во дворе четыре избы, каждая за забором. В тех избах сидят четверо: протопоп Аввакум, поп Лазарь, дьякон Федор, монах-старец Епифаний – все неукротимые противники никоновских затеек. Из-за высокого тына ничего не видят они из всего божьего мира, кроме снегов, северных сияний, бревенчатых стен, скудной березки летом да еще постоянного полуголода.
«Корму твоего, государь, дают нам по пуду муки на человека в месяц. Хорошо бы, государь, и поболе для нищей нашей братии за твое спасение», – писал царю Алексею протопоп Аввакум.
А поп Лазарь из Романова бил челом:
«Мы в тесных темницах заперты, хлеба нам по полтора фунта на сутки, – и псам того больше метают! А соли и вовсе не дают, а одежонок нету, срамно и наго ходим».
Заточены эти люди безнадежно, без сроков, похоронены в тесных избушках, в вечном затворе, на хлебе да на воде.
Двое из них, поп Лазарь и старец Епифаний, прежде чем быть сосланными в Пустозерск с другими, по особому приговору бояр и царя были казнены: стрелецкий голова Василий Бухвостов со стрельцы вывел еще их в Москве на Болото и отрезал им языки.
Оторванные от жизни, от мира, от людей, сжатые на тюремном дворе, томимые долгими, бесконечными ночами, заваленные снегами, прокуренные до черноты дымом, могучие физически, эти четыре узника тем напряженней и страстней заняты были в своем одиночестве одним: они как бы стояли все время перед судом своих гонителей, защищали свою правду, изобличали их неправду, взывали к народу, просили у него помощи, обличали мучителей.
Лишенные книг, они изощряли до предела свою бесконечную память, вели страстную полемику с противниками, они писали обличения, призывы, послания. И тюремный маленький двор за тыном, в гиблой тундре, оказывался связанным co всей землей, обращался к ней, говорил, звал, подымал на борьбу. Отрекшиеся от мира, посаженные в заточенье, они стали первыми свободными мыслителями и пророками народа.
Воеводе Неелову указано было держать их под строгим надзором. Куда там! У воеводы своих хлопот и так довольно. Самоеды с севера да обдорские остяки съехались на тысячах оленей, явились на Пустозеро, захватили силой рыболовецкую снасть у жителей острога. Воевода погнал за помощью в Холмогоры, просил пятьсот, прискакало на оленях пятьдесят стрельцов.
Воевода к тому же имел и другие задания – собрать людей, послать на остров Вайгач, на Урал – сыскивать там руды про государя. Где тут уж присматривать за попами!
А этим людям нечего было терять – чего им было бояться? Сама смерть была бы для них избавленьем! Погребенная в тундрах, в болотах, во мхах, в снегах, тюрьма стала трибуной, с которой они обращались ко всему миру – и к царю и к народу.
Поп Лазарь писал из тундры царю, и его голос досягал в кремлевские палаты:
«Мне палач язык вытащил да отрезал под самые вилки. Немилостива твоя царская казнь!.. А я все равно стал говорить, свидетельствовать правду!»
Чем больше было страдание этих обреченных людей, тем больше правды говорили они.
«Языком хоть резаным да свободным проповедую я истинное благочестие, рукой вольной пишу послания. Облыгают нас тебе, великому государю, сказывают – одни только мы за отеческие законы. Ей-ей – не одни мы! Есть на Руси великой сотни тысяч людей, что готовы помереть за правду, а из-за насилия и страха властей они остаются неизвестны. Молчат! А как, великий государь, мы страдаем! Намедни ко мне в темницу сотник ворвался. Пьяный. Бранится. А я что могу? На шее у меня цепь, на ногах – кандалы!»
Писанья пустозерских сидельцев, как именовались эти люди, в одной части своей были разного рода челобитными, которые шли через руки воеводы, в другой – богословскими, полемическими сочинениями, из которых одни воеводой отправлялись, другие задерживались, что бесконечно осложняло его обязанности.
Вторая часть этих писаний – послания верным, наставления, личные письма, пламенная публицистика – тайно перебрасывалась на Мезень, в Окладникову слободу, где протопопица Настасья Марковна жила большим гнездом, со чадами и домочадцами. Из Москвы позднее туда же были сосланы старшие сыны протопопа – Иван с семьей, Прокоп, а также верный ученик, молодой ремесленник, веревочник Лука. Тут же жили три дочери протопопа да с ними же друзья его семьи – вдова Фетинья Егоровна с сыном. Младший сын протопопа, Афанасий, уже учился, и в семье протопопа жил его учитель, Григорий. Тут же с ними жил и Федор-юродивый.
Послания из Пустозерска в Окладниковой слободе переписывались, множились и пересылались далее – на Москву и на Соловки, всюду, куда всегда можно было найти оказию, С Москвы на Мезень и на Печору приходили посылки, особенно пока жива была царица Марья да пока еще боярыня Морозова оставалась на свободе.
Применялась и нехитрая конспирация. Один из сидевших в Пустозерске вместе с Аввакумом, старец Епифаний, делал кедровые и кипарисовые кресты, в некоторых он искусно вырезал потайные ящички, куда Аввакум и помещал письма. Бывало, Епифаний вырезал такие ящички в древках стрелецких бердышей, и нужное письмо точно доставлялось в Москву…
Все, что делалось у царя на Верху, в Кремле, хорошо было известно по всей Москве – из разговоров и шепотов, а стало быть, становилось известным и на Пустом озере. Горячо обсуждалось все растущее увлечение царя западными вкусами, что становилось темой для посланий Протопоповых наставлений царю.
Смелые слова ходили по земле Московской в те дни, когда черный народ подымался в крестьянских восстаниях, когда огненный вал пылал от Дона до Соловков, когда атаман Разин казачьими свободными кругами подымал мужичье царство на Волге. Митрополит Павел Крутицкий, поняв силу движения, забил тревогу и бросился расследовать это дело. В Москве, на Мезени и в Пустозерске были схвачены письма.
Майор Елагин, начальный человек одного из рейтарских полков, получает пятьдесят рублев прогонов и в Великом посту скачет в Окладникову слободу, потом в Пустозерск, чтобы тушить пожар и в Мезенской и Печорской тундрах.
На Мезени майор Елагин схватил старших сыновей протопопа и приказал их повесить, ежели не отрекутся от верований отца.
Иван и Прокоп не устояли, отреклись, а протопопица Настасья Марковна не отреклась, и майор Елагин посадил всех троих в подземную тюрьму, в сруб, закопанный в землю, с одним лазом наверху.
Старого друга семьи Федора-юродивого Елагин просто повесил. На допрос стал молодой парень Лука-веревочник.
– Как крестишься, сказывай.
– Как учил отец мой духовный, протопоп!
Майор повесил и Луку и поскакал на оленях дальше, в Пустозерск.
На Страстной неделе, перед самой Пасхой, майор Елагин, добравшись до Пустозерска, начал там сыск и вел до конца Страстной недели и всю Святую неделю. Северная весна вступала в свои права, пригревало солнце, хизнули снега, с звонкими криками тянули на север лебеди, утки, гагары, гуси. Озера залились теплой водой, стали голубыми, покраснели, пожелтели ивы и вербы, запестрели оживающие мхи – красные, желтые, голубые… Изумрудными щетками на припеках полезла трава из земли – ромашка, тысячелистник, чернобыльник, мать-и-мачеха, щавель, дикая рожь, дикий лук. Зазеленели кой-где на тундре седыми мхами увешанные лиственницы.
Майор Елагин приказал: всем четырем пустозерским сидельцам написать собственной рукой отказ от старой веры по статьям – отказ от двуперстия, признание московских соборов и восточных патриархов.
И четыре сидельца пред майором не написали ничего, отказались наотрез от всех царских милостей. От самой свободы. Патриархов и их соборы они прокляли. Заявили Елагину, что-де Никон волк, ересиарх, несущий раззор в церковь и в землю. Три дня убеждали их воевода и майор – и все без успеха.
За преступлением следует наказание. На Фомино воскресенье, первое по Пасхе, все скудное население Пустозерска в теплый день было согнано на площадь у Преображенского собора, где наготове были плахи, торчали топоры, стояли стрельцы. Стрельцы вывели из тюрьмы на площадь всех четырех – протопопа, попа, дьякона да монаха. Идя, они прощались со взволнованными собравшимися, выкрикивали:
– Помираем мы за правду! Никон – волк губящий…
У плахи все четверо обреченных благословили друг друга, обнялись, простились.
– Вот наш алтарь! – сказал протопоп, указывая на плаху.
Забил барабан – шли воевода да майор Елагин.
Дьяк зачитал приговор:
– «Царь указал и. бояре приговорили: тебе, Аввакум, заместо смертной казни сидеть до смерти в подземной тюрьме, на хлебе да на воде… Остальным троим обрезать языки, отсечь правые руки и сидеть всем под землей же».
Протопоп, услыхав приговор, плюнул с сердцем на землю и сказал:
– На муки плюю и сморкаю! Нет их! Умру, а правды не предам…
– Уходи отсюда, распоп! – крикнул майор Елагин. – Твое дело кончено!
– Зачем ты разлучаешь меня с братьями? – кричал протопоп. – Я с ними! Казни и меня…
Протопопа стрельцы сволокли в тюрьму.
Добредя до тюрьмы, казненные намазали раны смолой, перевязали. Есть они смогли лишь на двенадцатый день. Неелов-воевода тем временем спешно перестраивал тюрьму– четыре избушки, сажень в квадрате каждая, зарыли глубоко в землю, наверху оставили окошко для хлеба и дров. Четверо добрых, сильных, умных людей были погребены заживо. Темно-темно, дымно; когда топилась печь по-черному, люди лежали на земле, чтобы не задохнуться. Лавками они не пользовались, сидели на земле. Отбросы выбрасывали, через потолок. Писать все они уже не могли, – писал теперь один протопоп. И как только грозный майор ускакал на тряской нарте на оленях, протопоп стал разбирать и громить порядок никонианского богослужения, его льстивость к земным властям:
«Как в церкви на службе, при переносе, нынче, льстя, царя поминают?» Благочестивейшего, тишайшего, самодержавнейшего государя нашего, такова-сякова, великого, больше всех святых от века… А царь-от в те поры и думает, будто и впрямь таков, святей его нет! Вот гордость какая! Да богу мерзко от гордеца даже доброе дело… В Патерике писано: «Когда человека в лицо хвалишь – сатане его предаешь». Никогда такого не слыхано – кто бы приказывал бы сам себя в лицо святым звать, разве Навуходоносор вавилонский… А то приступу нет: бог-де я! Кто мне равен? Разве бог небесный! Он на небе, а я на земле вровне… А теперь что? Где это указано, что царь церковью может править да догматы изменять? Царь должен церковь оберегать, а не учить, как верить, как пальцы складывать… Это дело настоящих, истинных пастырей, а нечего тоже тут и тех пастырей слушать, которые за час и так и сяк могут перевернуться. Это не пастыри, а волки, души губят, а не спасают… Готовы они невинную кровь проливать и исповедников в огонь сажать… Они для того и ставятся, как земские, ярыжки… Что ему велят, то и творят… Только и знают: добро, государь! Хорошо, государь! Кто таков Павел, митрополит Крутицкий? Мерзко и говорить! Любодей, церковный кровоядец, убийца, душегуб. Пес борзой, готов зайцев Христовых ловить да в огонь сажать! И в нашей России, как враг развратил церковь, много пагубы было за последние 23 года – и мор на всю землю, и война, и междуусобная война, и кровь льется беспрестанно за игрушки начальных людей…
Государь, перестань же лить кровь невинных. Погаси печь, в которой горят рабы божьи в Боровске, в Казани… Отпусти тех, кто в земляных тюрьмах сидит. Порви цепи тех, что сидят в темницах… Боярыня-то Морозова в Боровске, в земле сидя, кукует, как кукушка. Кукуй, бедная, светлый венец над тобой… И Авдотья-княгиня – куку?! Пострижена ты уж нынеча, инокиня-схимница Феодора, миленькая моя! Вот так бы надобно и царя тово, Алексея Михайловича, постричь бедного, пускай поплачет хоть небольшое время. Начудесил много, горюн, в жизни сей, как козел скача по холмам, ветер гоняя, летая по аеру, как птица, ища святых людей, как бы их в ад с собой свести…»
Как паучок, поймав мушку в свое нехитрые тенета, потом деятельно и ловко обвивает ее тонкими паутинками, так в Москве старательно вил свои нити худородный Артамон Матвеев около стареющего, тучного, слабого ногами, влюбленного в молодую жену царя. Матвеев учитывал все, чего хотелось царю, делал все, чтобы удовлетворить каждое его желанье. А первым и главным у царя было желанье покоя. Устал царь Алексей, теперь его манили спокойные дни в пестром, чудном дворце села Коломенского, рядом с прекрасной, юной, умной женой.
То была не старая жена Марья-царица, что по ночам не давала спать мужу, то печалуясь об Аввакуме, об родственниках, то наговаривая на Никона, то просто-напросто бранясь, ежели он, царь, вдруг пристальней, чем положено, взглянет на какую-нибудь сенную девку… А что такого? Он царь! Ему все можно!
Наталья была тиха, приветлива, спокойна. Ненавязчива. Ничего ни за кого никогда не просила, а ловила сама каждое желание царя, чтобы передать его отцу, Кирила же Полуектович сейчас же ехал к Артамону. Триумвират – Артамон Сергеич Матвеев, Кирила Полуектович Нарышкин да еще жестокий каратель народной войны князь Юрий Алексеич Долгорукий – неожиданно и прочно взяли в свои руки силу закованных в железные латы рейтар и все возможности Немецкой слободы.
– Чернокнижник! – шумела про Матвеева Москва. – С дьяволом знается! Царь во всем из рук его смотрит!
А тут еще всесильный и ближний боярин Ордын-Нащокин Афанасий Лаврентьич ушел от царской службы: Матвеев ловко опрокинул соперника. Ордын-Нащокин имел неосторожность, слишком прямо заявить царю, что поляки-де никогда не пойдут на то, чтобы выбрать московского царя польским крулем, что все эти затеи – зряшная трата серебра да соболей, а их и так мало становится у Москвы. Удар был беспощаден, бил он по любимой мечте царя – стать государем христианского мира. И царь це простил этого.
Ордын-Нащокин, уйдя со службы, постригся в монахи в Крыпецкий монастырь, что под его родным Псковом.
Ушел мягко, уступил путь к государственным делам и другой боярин – Ртищев Федор Михайлыч, занялся благотворительностью за свой да царский счет, основал богодельни, больницы, где немецкие врачи лечили русский люд, заботился, чтобы земские ярыжки подбирали пьяных на улицах Москвы. И, может быть потрясенный размахом крестьянской войны, вспоминая то время, когда ему приходилось прятаться от разъяренного народа во время Коломенского восстания, он даром отдал крестьянам свои земли в Арзамасском уезде, как раз в том месте, где наиболее жарко пылало восстание. Видно было, что ласковый и несильный боярин уже «строит душу», готовясь к смерти, что он уже не жилец на сем свете.
Артамон Матвеев становился всесилен. Царь наградил его пышными титулами наместника Серпуховского и иных городов, дворецкого боярина, царской печати и государевых посольских дел оберегателя, начальника приказов Стрелецкого, Казанского и других, главного судьи, начальника Денежного двора, ближнего боярина.
В руках Артамона, таким образом, были сосредоточены военные силы, экономика, иностранные дела и в качестве ближнего боярина возможность постоянного доклада царю. А основу этой своей силы Матвей видел в Немецкой слободе.
Рейтарские, в железные латы кованные конные полки разгромили бунты черного люда в Москве, разгромили крестьянское восстание, удержали Симбирск, с немецкими военными людьми Матвеева объединяла давняя дружба. Исправляя ошибку Ордын-Нащокина, снова завлекая и теша царя мечтаниями об едином православном царстве, Матвеев подготовляет в это время большое посольство в Европу – в Польшу, Бранденбург[185]185
Пруссия.
[Закрыть], Данию с целью уговорить правительства этих стран заключить союз против Турции, чтобы выгнать турок из Европы. Для этого Польша должна была объединиться в личной унии с Москвой, польским королем должен был быть поставлен царевич Федор. Чтобы придать видимость прочности этого замысла, Матвеев предложил царю, чтобы это посольство посетило Рим и чтобы московский посол, изложив все такие замыслы московского царя римскому папе, просил его помощи. Во главе посольства Матвеев поставил опять-таки рейтара – генерала Менезиуса, шотландца, жителя Немецкой слободы.
Ловко действовал Матвеев и в отношении донского казачества. Дабы избежать возможного повторения крестьянской войны донским казакам вместе с калмыками был Матвеевым устроен поход на Азов, что давало им «зипуны» и отвлекало бы от Волги, от боярских крепостных земель. Атаману Кириле Яковлеву и донским казакам царь пожаловал похвальную грамоту за то, что они, осаждая Азов, отогнали у турок весь скот, побили много людей и в плен взяли брата паши азовского. Эта же грамота подымала атамана Яковлева и казачество Дона против крымских улусов.
К Артамону Матвееву примыкала когорта нового духовенства во главе с митрополитами Павлом Крутицким и Илларионом Казанским, за которыми тянулись многочисленные лощеные попы и монахи киевского пошиба, писавшие вирши, рацеи и поучения на старинном, витиеватом, мало кому понятном украинско-русском языке и больше всего льстившие царю.
Матвеев, охватив царя со всех сторон, головой выдавал его Немецкой слободе. Москва бушевала, разговаривали об этом, в оппозиции теперь оказывалась и старая знать; старинные роды, оставшиеся не у дел, отброшенные от правления: Милославские, Стрешневы, Салтыковы, Хованские, Одоевские, Пронские, Репнины, Львовы – все родичи разоренных: вконец Морозовых и другие вельможи, оказавшиеся в опале из-за боярыни Морозовой, как Соковнины, все глухо ворчали по углам своих московских хором, по уездным поместьям.
В царской родне, возглавлявшейся старшей сестрой царя Алексея Ириной Михайловной, этой «игуменьей», как ее звали при дворе, этой «надежей нашей», как величал ее протопоп Аввакум в своих письмах к ней, были такие же настроения. Их придерживалась и вторая сестра царя, Анна Михайловна, да и сам царевич Федор, уже возглашенный в Успенском соборе перед народом как государь-наследник.
Но немецкая слобода тоже боролась за свое влияние, и в Кремле шла жестокая борьба за власть.
Пройдет всего три года после смерти царя Алексея, как его сын Федор посадит ловкого худородного Артамона Матвеева в заточение в курной избе в том же Пустозерске, по соседству с протопопом Аввакумом. Звезда Артамонова вновь зажжется лишь после кончины Федора, он вернется в Москву, но только для того, чтобы пасть под бердышами в восстании стрельцов 1682 года.
В этой путаной возне, начавшейся вокруг царя Алексея, пастор Готфрид Грегори играл весьма важную роль. Создаваемый им театр должен был поразить и окончательно одолеть воображение царя, этого нестойкого, увлекающегося, стареющего человека.
Пришла осень, желтые листья кружились, слетая с деревьев села Преображенского, когда царская карета с царем и царицей по осенней раскисшей грязи, грохоча и колыхаясь, въехала во двор Преображенского царского дворца, кричали вершные, крутя кнутьями, каркали встревоженные вороны, от лошадей валил пар.
Под пестрым крыльцом с крышей острой бочкой стояли стрельцы. Стряпчие открыли дверцу, подсунули сафьяновую скамейку, царский красный сапог осторожно высунулся из дверцы. Царь вылез бочком, его подхватили под руки стольники, и он стоял, весь растопыренный, в золотой парче собольей шубы. Осенний день еще желтил одутловатое лицо с густо засеянной серебром бородой на щеках.
Изгибаясь, как кот, с крыльца навстречу царю подходил «его царского величества начальный комедиантский правитель» пастор Грегори, в черном бархатном кафтане с белым воротником, переступал длинными ногами в штанцах, чулках и башмаках с пряжками. Подскочил, отскочил шаг назад, учтиво разведя обеими руками, склонился в поклоне, обводя шляпой у ног.
Царь смотрел, отдуваясь, с усмешкой, но действо ему нравилось.
– Императора наияснейшего и просвещеннейшего государя, царя и великого князя, самодержца Великой, Малой и Белой Русии, вашего царского величества начальный комедиант приветствует и просит вступить в храм искусства, – выделанно произнес на звучной латыни Грегори, то отступая, то приступая вперед, выразительно покачивая голосом.
Царь не понял ничего, но это действо понравилось ему еще больше. Он стоял широкой золотой куклой, выкатив вперед объемистое брюхо, опершись на посох индийского дерева с рубином в головке, вполглаза следя, как вылезала из кареты жена с открытым смело лицом, белая как снег, румяная как роза, и мелкие капельки дождя и тумана блестели алмазами в черных легких волосах, на соболе круглой шапки под кашмирским платом.
Царь таял сердцем, шевелил усом.
– Сарь-хосударь, пошалюйста! – в который раз повторял Грегори.
Царь, занеся посох, двинулся по проложенному красному сукну, поднялся на крыльцо, вошел в двери комедиальной храмины, остановился на пороге. Все, все было, как было при дворах иностранных государей, – то сказывали ему послы, что ездили в Париж, Лондон, во Флоренцию.
Большой зал со стенами в зеленых сукнах был залит светом свеч в высоких люстрах, в бра на стенах. Пол устлан багровыми мягкими коврами, справа и слева шли крытые красным сукном лавки, полукружиями, в несколько рядов, один ряд выше другого. Впереди, в середине дуги лавок, стояла широкая скамья под ковром, с золоченой резной перекидной спинкой – царское место. В углах направо лавки были прикрыты сбоку и спереди ширмами с мелкой золоченой решеткой: кто сидел бы за ними на лавках, сам видел все, оставаясь невидимым из зала.
Прямо против лавок на подмостках стояла сцена, закрытая пока богатым шпалером – занавесом индийской материи, мерцавшей золотом. Вверху над потолком портал был росписан шотландцем живописцем Петром Гивнером цветущими садами, над цветами которых в голубом небе резвились нагие крылатые ребятки. Перед шпалерой на полу горели огни ряда свеч, прикрытых от зала ширмой.
Царица Наталья Кирилловна стояла за царем, схватила его за локоть и смотрела на великолепное невиданное зрелище восхищенно, сияя огромными черными глазами.
– Государыня, – сказал Матвеев, – изволь подойти на правую сторону – в твою царскую лоджию!
Та блеснула огненным взглядом:
– А я хочу смотреть с мужем… С царем…
– Наташа, – наставительно выговорил Матвеев, – иди, так надо! Херр Грегори, укажи царице место.
Грегори галантным кавалером повел молодую государыню в правый угол, она шла, сияя ярким, как свечи, взглядом, и публика, уже стоявшая у своих лавок по ступеням амфитеатра, жадно смотрела на нее во все глаза из-под буйных волос, шевеля густыми усами и бородами. Когда ж было это видано, что можно смело смотреть на царицу, такую красивую, что ею тешится сам царь… Взгляды сверкали жадно, смело, озорно. Царица, а хороша!