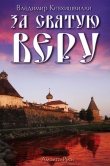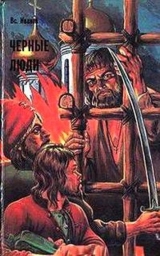
Текст книги "Черные люди"
Автор книги: Всеволод Иванов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 42 страниц)
Глава двенадцатая. Соляной бунт
Торжественно подходил поезд царя Алексея к Москве на обратном пути из Троице-Сергиевой лавры. Поезжане стояли уже на последней слазке, недалеко от Ярославской заставы Земляного города перед московскими посадами. На слазке стоит шатер алого сукна, в форме крепости с четырьмя башенками по углам, с нашитыми шелковыми цветками, зверями и птицами.
Переодеваясь в этом шатре для въезда в Москву из дорожного платья в царские одежды, царь Алексей волновался: что в Москве? Более двух недель был он в отсутствии, был словно в раю, отложив всякое житейское попечение, был окружен черным народом, оставался больше двух недель живой иконой, перед которой черный народ под звуки стихир, в клубах синего ладана падал тысячами и тысячами на колени. И самый веселый праздник Троицы встретили пышно. И Алексей Михайлович, стоя во время обедни под шатром царского места, чувствовал себя перед лицом самого господа бога царем над всеми православными всего мира, ответственным за все человечество…
Когда царь шел домой, крестьяне, посадские за десятки верст выходили на дорогу из своих деревень, ждали, ночуя в поле и в лесах, выставляли на обочинах дороги свое нехитрое, радушное угощение – хлеб, соль, пироги, пиво, яйца, мясо – и падали на колени при проходе царя. И то ли еще царя ждет в Москве!
– Эй, стряпчий! – вдруг вспыхнул гневом царь. – Как подаешь платно?
Молодой стряпчий Федор Михайлыч Ртищев не сумел сразу ловко накинуть на царя тяжелые золотые одежды, так, чтобы голова пришлась бы прямо в ворот, гневное, со сбитой бородой лицо царя вынырнуло из жесткой парчи прямо против лица Ртищева.
– Бармы подай! – натужно крикнул царь. – Чего стоишь?
Но в красивом лице юноши придворного было столько угоды, преданности, обожания, что юноша царь сразу же отошел, смягчился и милостиво улыбнулся. На архангела Михаила был похож стряпчий Ртищев.
А за шатром слышались голоса, смех бесчисленных людей, топот, ржали кони, бряцало оружие, тарахтели колеса – шествие уже вытягивалось на дорогу. Торопливо нахлобучив увенчанную крестом, отороченную соболем, каменьями усыпанную шапку, царь торопливо шагнул из шатра – хотелось ему на солнце, на свет, к его царским людям.
Зеленая поляна под солнцем пестрела цветами, большие наряды бояр сверкали золотом, медленно двигались их высокие шапки, выезжала серебряная карета царицы Марьи. Конюший боярин подвел государю белого аргамака Сокола, стряпчие подбросили красную скамеечку под ноги, и царь в тяжелом своем облачении легко вскочил в персидское, мелкой серебряной филиграни и в бирюзах седло, вдел в серебряные стремена на красных сафьянных сапогах с золотыми каблуками ноги, разобрал звенящие поводья кольцами, перекрестился.
Замахали махальные. Пошли!
Шли обычным порядком. Впереди полторы тысячи стрельцов разных приказов в цветных кафтанах, лазоревых, синих, желтых, часть с метлами на плечах – готовили царю путь. За стрельцами кони везли две пушки, за пушками два пушкаря – один с копьем с насаженным на него серебряным орлом, другой с серебряным же бердышом.
За пушками опять шли стрельцы в красных кафтанах, с секирами, за ними музыканты – дудели в трубы, били в барабаны.
За секирщиками – еще двадцать полусотен стрельцов в наплечных цветных перевязях, в берендейках с висевшими зарядами, с ружьями на левом, с бердышами на правом плече.
За стрельцами шел отряд «для станов», из окольничьих, из думных бояр. На подводах везли казну – столовую и шатерную, за ними шли пеше сытники, подключники, истопники, столовые. Тут же шло сорок барашей[65]65
Придворные шатерщики.
[Закрыть] – на сорока подводах везли они царские шатры.
За телегами со стряпней ехали конные стрельцы Стременного государева приказа, на царских конях, богато вооруженные роскошным оружием из Оружейной палаты. Вел их боярин Растопчин.
За Стремянным приказом вели шестьдесят два верховых коня в драгоценной сбруе, за ними двенадцать коней везли царскую карету, золоченую, с хрустальными стеклами, каждого коня вели два конюха.
За каретами среди отряда, вооруженного луками, стольники несли меч царя. Затем шли двести стрельцов – охрана царя. Идя по обе стороны дороги, они серебряными кнутами отгоняли наседавший народ. Среди этих стрельцов ехал на коне царь, с ним ближние бояре, с Морозовым во главе.
За царским поездом следовал такой же поезд царицы.
…На деревянной башне Земляного города стрельцы закричали, замахали ожидавшей толпе руками – вдали показалась пыль, сверкало оружие, кареты.
– Царь едет! – закричал народ.
Голова поезда втянулась в Ярославские ворота города, на прямую, как стрела, Ярославскую дорогу и шла мимо деревянных изб, зеленеющих огородов, выгонов, где мирно паслись коровы, лошади, овцы.
Народ толпился у дороги, жадно смотрел из-за заборов, заполнил крыши, свешивался с деревьев, вопил, махал шапками, дробно звенели колокола маленьких посадских церквей, сливаясь с далеким густым звоном Кремля.
У Земляных ворот царь спешился: царя встречал патриарх Иосиф с крестным ходом, с свечами, фонарями, хоругвями, певчими дьяками. Шествие остановилось, запели молебен. Тут же встречали царя и правители Москвы – князья Пронские, Ромодановский да два дьяка – Чистый и Волошенинов. Из-за их шуб острил тревожно бороду и глаза Плещеев.
Пока служили молебен, Плещеев улучил минуту, подбежал к Морозову, шепнул:
– Борис Иваныч! Воровство на Москве!
Морозов дугой сдвинул брови:
– Что за воры?
– У Воскресенских ворот в ночь прибили прелестные листы. Народ прельщают. Бить челом хотят царю на бояр!
– Подай сюды! – протянул Морозов руку в перстнях.
– Сорвать не дают, Борис Иваныч! Боюсь – будет замятня!
– Боярина Растопчина ко мне! – крикнул Морозов.
Растопчин подъехал, осадил коня.
– Стремянным стрельцам твоим смотреть зорко, Тит Адрианыч, береги, чтобы челобитчики бы к государю не подступили. Кто будет лезть – хватать!
За Плещеевым к Морозову пробился и дьяк Назар Чистый, долго нашептывал, чего – не слышно было за звоном колоколов. Морозов в упор смотрел ему в лицо, еще более бледное от черной бороды и волос, смотрел, как шевелились красные губы, думал:
«Твои это все плутни, а нам расхлебывать!»
Патриарх Иосиф благословил восковой ручкой своей царя, готовясь идти. Шествие затопталось на месте.
Когда царев конь вступил в узкие сырые Сретенские ворота Белого города, там затаились два мужика, бросились к царю, крича:
– Правды! Правды пожалуй, государь!
Ехавший рядом с царем боярин Морозов толкнул коня вперед, сшиб обоих, мужиков схватили.
Когда подъехали к Лубянской площади, царский поезд уже с трудом пробивался сквозь рвущийся к царю народ. Крики: «Правды, правды, государь!», «Смилуйся, государь!»– стояли стоном, бранились стрельцы, молотя о спины, плечи, головы, ломали свои серебряные кнуты; народ, обезумев, лез вперед, плача, выкрикивая о насильях, грабежах, беззакониях бояр, и все крики и вопли крыл отчаянный трезвон на церквах. Пожилая баба в вроспуск повязанном кубовом плате вынырнула снизу, из-под локтей стрельцов, работавших кнутами так, что шапки съехали на затылки, а лбы заливал пот, протиснулась к царскому коню и крикнула, протягивая окровавленный, изодранный в клочья кафтан:
– Царь-государь! Смотри-ка, чего сделали твои бояре с моим Ванюшкой!
Царский конь, испугавшись, всхрапнул, дал свечу, напруживая пахи, царева шапка съехала набекрень.
Алексей жалостливо наклонился было к бабке:
– Что тебе, мать? О чем просишь?
– Взять ее! – крикнул Морозов, и широкие красные спины стрельцов накрыли женщину, как гончие собаки накрывают зайца.
– Иваныч! – кричал царь. – Отпусти ее!
– Нельзя, государь! Ведунья! На твое государево здоровье колдует. Порчу насылает. Ведьма!
Царь насунул шапку на глаза, лицо его испуганно посуровело, губы сжались, голова ушла в плечи. Юноша исчез, на белом коне сидел перепуганный жестокий владыка.
Народ рвался один через другого; люди падали, вставали, оставались лежать, растоптанные толпой; кони храпели, трясли головами, выбирая, где ступить между сбитых людей; люди стояли на коленях, крестились, рвали отчаянно на груди рубахи и кафтаны в свидетельство своей правды, открывая саму душу, плакали громко. Поезд расстроился в своем чине, подвинулся вперед, конники перешли на рысь, бичи и кнуты свистели и били во все стороны, царские телеги гремели по плахам мостовой, скороходы, пешие стрельцы и прислужники бежали стремительно. Царь скакал, подпрыгивая неловко в высоком седле, Морозов– рядом, насупив брови, борода торчком, стлал иноходью; шествие неслось теперь с Лубянской площади, вниз, направо, к Кузнецкому и Воскресенскому мосту, через Неглинную, к спасительным стенам Кремля.
Тихон ждал на мосту, забившись между двух книжных ларьков. Когда прибежали на мост стрельцы, стали очищать мост от народа, Тихона не заметили. Царский поезд лавиной катился с холма, народ бежал, гнался с криками за царем. Царский конь с громом вскочил на мост. Тихон выскочил из своей засады, бросился вперед, однако караковый жеребец стремянного стрельца сбил его в сторону, прижал к старым перилам моста, те не выдержали, обломились, Тихон упал в мутную воду Неглинной.
Вынырнув, задыхаясь, Тихон плыл к кремлевскому берегу, к Собакиной башне. Царь уже проскакал по мосту, потом по взъезду, за ним загремели его кареты, в которые набились спасавшиеся бояре, вынеслись на Воскресенскую площадь и через мост надо рвом, и все исчезли в Никольских воротах. Ворота захлопнулись.
Гнавшийся с криками за царем народ заполнил всю Красную площадь, ломился в Никольские и Спасские ворота. Народ теснился вдоль Кремлевской стены, надо рвом, жалостно кричал стрельцам, что стояли, растерянно глядели между зубцами стен:
– Кого оберегаете, такие-сякие? Бояр! Чего сами от них имеете! Воров бережете! Изменников!
– Православные! – кричали со стены стрельцы. – Да нешто мы не понимаем? Ваша беда – наша беда. Чего делать? Нам так приказано.
– Открывай ворота! – кричал народ. – Мы ударим челом государю. Или он нас не пожалует?
Мокрый, вывалянный в глине Тихон выбежал на Красную площадь, смотрел в бешенстве, как со стены Кремля уходили стрельцы в своих красных кафтанах, как из-за зубцов выходили, становились на их место немцы-латники, в железных шлемах огурцом, из-под шлемов торчали усы, длинные острые бородки. Немцы стояли на стене спокойно, упористо расставив ноги, смотрели холодно и непреклонно.
Народ с площади торговался с ними.
– Мы знаем, вы честные немцы! Мы друзья ваши! – кричал народ. – Мы вам зла не сотворим. Мы просим царя убрать бояр, что грабят нас. Помогите нам. Дай путь! Открой ворота!
Капитан Яган Хохбруннер улыбнулся надменно, покрутил усы.
– Скоты! – процедил он сквозь зубы. – Разве можно верить сей зверь?
Народ кипел, метался кругом, смятенный, кричал.
Тихон пробился сквозь толпу, взбежал на Лобное место, выхватил из-за пазухи челобитную.
– Православные! – крикнул он, высоко подымая скатанный столбец. – Народ, слушай! Вот челобитье, о чем народ московский просит царя!
– Чти! Чти! Всем! Чти громко! – гремели крики со всех сторон. – Пусть всем будет знатно! Давай! Любо!
Из толпы замахали шапками звонарю на Василии Блаженном:
– Кончай звон! Слово слушаем!
Звон прекратился, в наступившей тишине на Красной площади раздавался голос Тихона, зачитывающего те слова, что писаны были в доме у Москворецких ворот. Что было написано, то слушали и понимали, правда, только ближние, но ближние слушали очень внимательно, а потому дальние понимали, что то, что читает этот рослый молодец в мокром, грязном кафтане, – истинная правда, которую уж потом им растолкуют.
– «Да и нас, твоих государевых бедных людишек, те бояре пуще прежнего грабят, на правеже бьют, всячески мучат…» – выкрикивал Тихон.
– Правда! Правда! – кричали люди со всех сторон. – Любо, любо!
– «Из налогов тех собирают сокровища несметные и хоромы строют великие!»
– Любо! А Морозов-то, а? Че-орт!
– «Да и у дьяков-то теперь каменные хоромы стоят!»
– Чистый! Назар Иваныч! Ярославский плут! Правда истинная!
– «И того ради просим тебя, государь, преклони ухо твое к молению нашему. Изо всех чинов добрых людей около себя поставь».
Тихое, трепетное слово, что ночами писалось тайно у Босого в доме, гремело теперь на площади, сверкало как солнце, вооружало народ силой правды.
– Эй, молодец! – завопил внезапно голос из толпы. – Огонь! Рейтары! Спасайся!
У Спасских ворот шла свалка, – сверкая на солнце мушкетами, к Лобному месту пробивалась полурота немцев, чтобы схватить Тихона.
Тихон успел дочитать челобитную, свернул ее, поклонился народу в пояс, щукой нырнул в толпу, шумевшую кругом. Только его и видели, у Лобного места народ дрался с немцами.
– Продали за царское жалованье свои души! – кричал народ.
Только ночь разогнала народ с улиц, но вся Москва не спала, говорила о челобитной и ночью, в потемках: по летнему времени огни в избах были запрещены.
– Не затем народ освобождал Москву от врагов и царя Михаила сажал, чтобы идти в крепость к Морозовым да к Чистым, – говорили в избах. – Придет время! Есть такие люди, что стоят за народ. Царь прочтет, царь выручит. Дай только срок. Нечего бежать за государем – нешто коней догонишь? Надо его, батюшку, встретить и перехватить на Красной площади, перед Кремлем.
Случай выходил вскоре же. 23 июня царь Алексей всегда ездил молиться в Сретенский монастырь на праздник иконы божьей матери Владимирской. Праздник был большой. Владимирская владычица писана была еще самим евангелистом Лукой и почиталась усердно как покровительница Москвы, заступница Московского государства.
Все вышло как по писаному. 23 июня около полудня народ перехватил обратное шествие царя на Красной площади.
День был жаркий до духоты, солнце от пыли над Василием Блаженным было багрово, опять трезвонили со всех сторон колокола. Ожидавший народ залил всю Красную площадь, стоял на коленях, бил челом, кричал стоном:
– Убери Плещеева, государь! Поставь на Земский двор хорошего человека! Сними лихих бояр!
На этот раз с государем рядом ехал думный дьяк Волошенинов, к которому подбежал удачно проскочивший между кнутов ремесленник-чеботарь Протас Юдин с челобитной.
– Не время теперь челобитные принимать! – крикнул думный дьяк, вырвал и швырнул челобитную Юдину в лицо.
Толпа загудела грозно.
У самых Никольских ворот, где шествие замедлилось, из толпы вырвался молодец в синем кафтане и, хотя кнуты успели полоснуть его поперек лица, прыгнул вперед, схватил царского коня за узду, остановил царя. Народ рванулся, смял охрану, стеной окружил царя.
Тихон левой рукой удерживал царского жеребца, правой подавал царю свитый столбец челобитной. Тихон вдыхал крепкий запах конского пота, видел в аршине над собою испуганное лицо румяного юноши в золотой шапке, в малиновом, с серебром кафтане, ему в грудь упирался малиновый, расшитый сапог с загнутым носком и высоким каблуком в серебряном стремени. В упор в глаза Тихону глядели другие, темно-серые глаза под дугами черных бровей, где страх и смущение мешались с гневом.
– Прими, государь, челобитную. Просит тебя весь твой народ, от мала до велика! – взволнованно говорил Тихон. – Гибнет народ твой, государь! Великие труды несет он – и даже не сыт! Великая сила народная гибнет. Труды его ни к чему! Не погуби народ, ясный свет государь! Спаси нас от Плещеева…
Тихон задыхался. Он, молодой устюжский человек, в коротких словах говорил царю то, что он сам видел на бесконечных просторах, которые сам истоптал.
И Тихон не чувствовал, как по его лицу катились горячие слезы.
– Я разберу, разберу, ладно! – забормотал испуганно царь и протянул руку.
Тяжелый удар по голове едва не сбил Тихона с ног, он шатнулся, – на него на вороном жеребце с ощеренным от злобы лицом наехал Плещеев, вырвал бумагу, разорвал ее.
– Есть Челобитный приказ, холоп, – кричал он, – туда ступай! Не докучай государю! Эй, кнутов!
– А-а! – взвыл народ, бросился за уезжавшим уже царем, за боярами.
Стоявшие впереди не дали закрыть Никольские ворота, и народ ворвался в них, бежал за своим царем по Большой Кремлевской улице. Царь и бояре доскакали до Золотого крыльца, свалились с седел, побросав коней, кинулись вверх по лестнице. За ними на лестницу взбежал и народ, запрудил ее, стал лицом к лицу со сторожей Верха – со стремянными стрельцами и с немцами в железе.
– Плещеева! – вопил народ. – Давай Плещеева! Подай Плещеева!
Царь и бояре бежали в Переднюю палату, царь с Плещеевым проскочили дальше, в царскую комнату. Морозов был там. Весь дворец содрогался от криков с крыльца, крики, вопли росли и росли. Люди под стенами палаты лезли, становились друг другу на плечи, заглядывали в окна, стучали в оконницы:
– Плещеева в Москва-реку! Под топор Плещеева!
В Москве, в Кремле, вновь старым новгородским обычаем бушевала вече, буйное, свободное, народ вновь набирал силы, чтоб рассчитаться со своими обидчиками.
– Плещеева к народу! – загремел громовый голос в самой царской комнате. Фигурная оконница с треском вылетела, в окне явилось яростное лицо посадского в русой бороде. – Царь, выдавай изменника!
Плещеев подскочил к окну, ударом медной черниленки сшиб дерзеца – тот упал, исчез. Но снизу поднялся такой вопль, что царь стал просить Морозова:
– Иваныч, бога для, пойди утиши их!
Только и сказал и, запнувшись за ковер, косолапо ушел в моленную.
Морозов вздохнул, поднял брови, перекрестился, надел медленно шапку, взял высокую трость, посмотрел вслед царю и вышел, снял шапку, стал на крыльце меж стрельцов в низком поклоне.
– Народ! – крикнул Морозов, выпрямляясь, но шапки не надевал. – Поздорову ль, народ? Государь указал вам всем разойтись!
– А-а-а! – ахнула тысяча голосов. – Морозов! Он! Тебя-то нам и надо! Хватай, товарищи, злодея!
Морозов едва успел отскочить за тяжелую дверь, задвинуть тяжелый засов. Стрельцы сбрасывали людей с крыльца.
– Товарищи! – зазвенел молодой голос. – Идем в хоромы к Морозову! Не дадим кровопийце нашей крови! К изменнику!
Толпа схлынула с крыльца, понеслась по улице, осадила кремлевские хоромы Морозова, повалила ворота, заплеснулась на крыльцо. Вырванным из тына бревном выбили дубовые двери, хватая и избивая морозовских холопей, растеклись по сводчатым, росписным покоям.
Встречу вбегающему в хоромы народу как раз зазвонили в большом покое стоявшие там диковинные немецкие часы, распахнулись дверцы, вышли, затанцевали мужики и девки, вверх из оконца выглянула кукушка, прокуковала двенадцать раз, на золотой ветке завертелся и запел, как живой, соловей. И все это само собой, самодвижно, без рук человеческих! Чудеса! Народ, задрав головы, рассматривал потрясенно росписные потолки. Там были изображены течения всех планет вокруг солнца, сияли звезды, хвостатые кометы, дыбились медведями, драконами и голыми бабами и мужиками разные созвездия, седобородый, как сам Морозов, господь бог гулял по роскошному саду с золотыми яблоками, творил зверей, птиц, людей.
На стенах висели диковинные картины – немецкие города, чистые как монастыри, гордые голые лица немецких мужиков в стальных доспехах, высокие, все в парусах корабли. Стояли золоченые, фигурные, невиданные кресла, стулья. На полках тяжелые книги в кожаных переплетах, писанные не по-нашему, золотая и серебряная посуда переполняла поставцы, полки на стенах, медные и серебряные многосвечные шандалы, и стоячие и подвесные, сверкали на солнце, лавки были крыты шитыми шелком суконными полавошниками.
Первым в палаты Морозова ворвался нищий, старик горбун на двух кривых суках вместо костылей, поскользнулся на гладком полу, упал, ушиб ногу и жалобно вопил:
– Ой-ой, господи помилуй! Убил меня проклятый боярин! У би-ил до смерти!
С полу горбун искоса, сквозь космы упавших на глаза волос, рассматривал хитрое, богатое убранство. За ним бежал с топором в руках хамовный ремесленник Максим Сувоев, остановился, и его чуть не сбил поток несущихся за ним взбешенных людей. Вот какова она, эта сладкая жизнь боярская, за которую продают черту душу! Вот их райское житье! Вот на что выколачивали из народа батоги на Земском дворе! Душа оскорбленного, униженного человека горбилась злобным, ощеренным медведем, готовилась зареветь.
Народ рвался вперед во внутренние покои, слышались удары топоров, громивших морозовскую опочивальню, в щепы разносивших пышную кровать молодоженов, что подарил своему любимцу царь Алексей – кровать покойного царя Михаила. Два посадских уже сбили замок с резного дела подголовника, вытащенного из-под пуховых подушек, из ящика сыпались самоцветы, жемчуга, алмазы. Из разрубленных подушек взлетел легким облаком нежнейший гагачий пух, а толпа рвалась дальше, рубила дверь в боковой чулан.
Дверь вылетела, пронесся истошный женский вопль, мимо могутного посадского, занесшего топор, выскочила к толпе, упала на пол простоволосая молоденькая Анна Ильинична Морозова, жена старика Морозова.
– Люди! – кричала она. – Берите все! Молодость мою пожалейте! – Отчаянно заламывая белые руки, Морозова ползла на коленях. – Нет мне жизни со старым дьяволом!
Пожилой сутулый посадский подошел к боярыне, поднял ее и махнул топором на толпу:
– Не замай, православные! То царицына сестра! Пусть ее живет. Не сладко ей со старым хреном. А того, что награблено здесь, натаскано в нору старым барсуком, мы не оставим и в помине. Круши все, что неправедно нажито!
С рыдающей Анны Ильиничны сорвали драгоценности, топтали, дробили их обухами топоров, перемяли весь усыпавший полы жемчуг, перебили все немецкие и итальянские зеркала, перерубили золотую и серебряную утварь, скатерти, пологи, полавошники, одеяла, шкапы, столы, даже иконы в богатых окладах. Высадили все оконницы, чтобы ничего не оставалось боярину. Народ гудел, бушевал на дворе, в боярских погребах разбил, разрубил все бочки с вином, с медами, с пивом, люди напивались и зверели. Вытащили из клети жалованную хозяину царем серебром окованную карету, изрубили ее топорами и, слушая, как звенели хрустальные стекла, смеялись:
– Любо! Любо!
Наливаясь местью, толпа становилась все грознее, молчаливее. Трое холопей Морозова, пытавшихся было защитить боярское добро, легли на месте. И когда зеленый двор был весь завален изломанными, разбитыми пожитками Морозова, когда толпа яростно рубила остатки его кареты, закричали вновь:
– Народ! Бежим к Назару Чистому. В соседях! Рядом!
– Давай Назара-дьяка! Чистого! – загудели крики, и пламя гнева и мести взметнулось и бешено загудело снова.
И как вылетевший и повисший было на дереве тяжелый рой, посидев, взмывает клубом и несется дальше, туда, куда ведет его матка, так и народ кинулся из морозовских ворот на улицу. Двор Морозова опустел в наступившей тишине слышался только отчаянный плач боярыни Анны, проклинавшей своего старого мужа, свою злую судьбу, да стоны запуганных почти до смерти дворовых девок и баб.
– К Назару! – кричал народ, в клубах пыли катясь по улице, потрясая кольями, топорами.
– Любо! Любо!
Назар Чистый не смог скрыться во дворце царя, как другие бояре. Накануне возвращался он верхом из Земского приказу, и конь его, испугавшись бросившейся коровы, понес и сбросил седока. Думный дьяк повредил ногу, лежал дома. Его челядинцы все время бегали на улицу, доносили ему, что творится на Красной площади, потом в Кремле, на Большом крыльце. Когда раздался крик народа, бегущего к его дому, Назар кое-как выбрался из спальни и, ища места, где бы спрятаться, забрался в свою мовню, под груду заготовленных березовых веников. Народ разгромил дом, изрубил в лапшу все имущество и наконец по указанию перепуганных холопей нашел-таки и схватил спрятавшегося хозяина. Чистого сволокли на двор за ноги, окружили, разыскали батоги и батогами разбили ему голову.
– Вот тебе за соль! Вот тебе за правежи! – кричали люди, толпясь вокруг трупа, вытягивая шеи, чтобы получше разглядеть своего бессильного ныне врага.
Толпы москвичей разнесли дом окольничьего Траханиотова, спрятавшегося во дворце.
Боярин Морозов, как начальник Стрелецкого приказа, приказал всем стрелецким полкам бежать из Стрелецкой слободы в Кремль, разгонять народ, но шесть тысяч стрельцов отказались – сами они были черным народом! Сами они работали, пахали землю, торговали на торжках, несли сверх того и царскую службу.
– Драться против народа не будем! Не будем оборонять бояр! – кричали стрельцы на сходках в своих полках. – Мы за правду!
Разгромы боярских домов продолжались, дома разбивали и грабили по всем посадам. Кремль держали только стремянные стрельцы да немцы. Надо было принимать решительные меры. Часы на Спасской башне отзвонили восемь ударов, то есть полдень, из Спасских ворот к Лобному месту, к народу московскому вышло с крестным ходом посольство от царя. Вынесли заступницу Москвы, божью матерь Владимирскую, вышли митрополит Крутицкий да архиепископ Суздальский, попы, бояре во главе с любимцем народа боярином Романовым Никитой Иванычем, дядей царя, однако много терпевшим от Морозова.
Никита Иваныч, сняв шапку, вежливо поклонился бесчисленному народу на все четыре стороны.
– Народ! – умолял боярин. – Утолись миром! Государь наш инда занедужил от толикого несчастья! Обещает вам царь, что сам разберет все дела, даст он народу все, чего нужно по правде! Только смирись, народ!
– Добро! – кричали в народе. – Мы смиримся, боярин, пусть государь выдаст нам наших врагов головой, наших обидчиков да мучителей! Пусть казнит на наших глазах Морозова, Плещеева, Траханиотова!
– Народ! – с надсадой выкрикивал Никита Иваныч, махая шапкой. – В Москве ни Морозова, ни Траханиотова нету-у, убежали-и они! Я пойду все-таки просить царя – пусть он укажет. Спасибо, народ, что вы верны царю! Я иду!
Гудел, волновался народ, да Никита Иваныч скоро принес ответ:
– Народ! – кричал он, ворочаясь во все стороны. – Царь выдает вам всех троих злодеев! Плещеева берите хоть сейчас, а достальных – боярина Морозова и Траханиотова– как сыщутся!
– Палача! – вскричал народ. – Палача зови! Послать за палачом!
Одни бросились за палачом, другие же, у кого были кони, поскакали – рубахи на спине пузырем – на подмосковные дороги, хватать беглецов Морозова и Траханиотова.
– Ведут палача, идет палач! – закричали на Пожаре, потом ближе.
На Лобное место вышел, поклонился народу палач в красной рубахе, подпоясанный кнутом, с топором за поясом на спине.
– Любо! Любо! – кричала площадь. – Иди за Плещеевым! Веди сюда!
Палач пошептался с Романовым, отправился в Кремль. Не прошло и четверти часа, как под охраной стрелецкой полусотни палач из Спасских ворот вывел на веревке связанного Плещеева. Тот шел, не подымая низко опущенной головы.
Народ ревел, словно море в бурю; бесчисленные москвичи, все, кто стаивал на плещеевских правежах, загудели, ринулись вперед, разбросали стрельцов, вырвали Плещеева у палача и батогами забили его до смерти. Голое тело Плещеева волочили из конца в конец по всей Красной площади.
– Многие лета государю! – кричал восторженно народ. – Так будет со всеми ворами! Всех истолчем!
Высокий худой монах прорвался из толпы к трупу, топтал его рыжими сапогами, словно плясал, выхватил у кого-то из рук топор, отрубил Плещееву голову.
– Вот он! – поднял он голову за волосы над толпой. – Вот он! А помнишь ли ты, пес, как ты меня безвинно высек? – кричал он окровавленной голове.
А Морозова действительно в это жаркое время в Москве уже не было; в смирном платье он тайно выбирался из Москвы. Однако у ворот Земляного города его опознали ямщики и извозчики, с которыми он, хозяйская душа, торговался, нанимая лошадей. За ним погнались, но Морозов ускользнул от погони и пробирался теперь тайно в Кремль. Не было в Москве и Траханиотова – он быстро получил назначение воеводой в Устюжну Железную, получил уже проездную грамоту и с облегченным сердцем скакал по Ярославской дороге.
Но народ на Красной площади вот-вот должен был узнать о задержании Морозова, о том, что он в Кремле. Нужно было отвлечь от него внимание народа, и на площадь во главе полусотни конных стрельцов вынесся из-под Спасской башни князь Семен Михайлович Пожарский.
– Народ! – кричал он с Лобного места. – Царь указал мне нагнать окольничьего Траханиотова и выдать его тебе, народ!
– Любо! – бушевал народ. – Любо! Многие лета государю!
В это же время на Петровке вспыхнул пожар, огненным, дымным клубом покатился по Белому городу, выгорели все избы черного люда на Петровке, Дмитровке, по Неглинной– до Пречистенских ворот, выгорели избы и за Никитскими воротами, за Смоленскими, весь Арбат, Остоженка.
Всю ночь бушевало грозное пламя в Москве, высоко стало зарево над Кремлем и посадами. А кругом московская земля, словно свет, зажгла на лесных своих холмах ясные купальские огни – шла ночь с 23-го на 24 июня – ночь на Ивана Купалу. Это горели древние костры, зажженные огнем, добытым через трение старого колеса на сухой оси, и вокруг костров в хороводах плясали парни и девушки, ожидая утра после хмельной короткой ночи, чтобы песнями встретить восход летнего, торжествующего во всей зрелой силе своей солнца – Ярилы.
И в раннем, дымном утре народ московский шумел «невежливо» перед царским Верхом, требовал выдачи ему врагов, Морозова и Траханиотова, уже прямо обвиняя их в поджоге. Красная площадь бессонно ходила волнами; рассказывали из уст в уста, что пожар унялся только тогда, как монах, отрубивший голову Плещееву, ночью притащил на веревке безголовый труп Левонтия Семеныча на Арбатскую площадь и бросил его в пылающий кабак.
В полдень стремянные стрельцы и немецкие рейтары оттеснили народ вниз с Золотого крыльца. Попы и монахи вынесли на крыльцо хоругви, фонари, иконы, и перед народом вместе с патриархом вышел сам царь Алексей, поклонился народу.
Народ сразу примолк, тоже опустился на колени. Молодой взволнованный голос царя было слышно далеко.
– Народ православный! – говорил царь. – Сердце мое скорбит, что беззакония Плещеева и Траханиотова принесли такие мучения народу. Вы открыли мне глаза! Этому больше не бывать! Будут править народом только добрые, благочестивые люди. Я, царь ваш, буду сам смотреть строго за всем, чтобы везде была правда. Соляному налогу больше не бывать. Правежу за старые недоборы не бывать, вы получите великие льготы. Я, царь, буду вам вместо отца!
Движение прошло волной по народу – били челом, благодарили.
– Я обещал вам выдать Траханиотова и Морозова, – говорил царь. – За Траханиотовым поскакал князь Пожарский. А выдать боярина Морозова я не могу. Я его не оправдываю! Но Морозов не так виноват, как о нем говорят! Нет! Я, царь, еще ни разу ничего не просил у тебя, народ, – вспомни это! А теперь прошу – исполни же мою первую просьбу. Народ православный, прости вину Морозову. Обещаю– Морозов не будет творить беззаконий! Не хотите, чтобы Морозов был моим, царским советником? Ладно! Не будет! Соберем Собор всей земли на совет, а Морозов уйдет в монастырь, пострижется. На Земском соборе будет воля народная. Одного прошу у вас я, царь ваш… Не принуждайте меня выдать вам на смерть того, кто был мне вторым отцом, он же меня растил, воспитывал! Народ, пощади, молю, Морозова Бориса Иваныча!