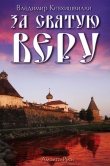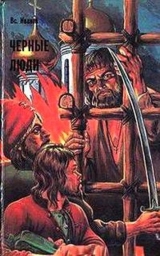
Текст книги "Черные люди"
Автор книги: Всеволод Иванов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 42 страниц)
Глава седьмая. Проклят царь
Вселенские огнеглазые патриархи орудовали в Чудовом монастыре, писали проклятья да благословенья, стрелецкие головы, земские ярыжки волочили арестованных по монастырям, по тюрьмам, по ссылкам, палачи на Болоте били кнутьями осужденных: «Поберегись, обожгу!» Палачи в то время и вырезали языки попу Лазарю да старцу Епифанию, что сидели вместе с протопопом Аввакумом за дерзкие слова да за неподобное писание.
И наперекор всем этим преступлениям весна на Москве зацветала пышно да нежно. Сады, дворы московские стали в недвижных белых да розовых облаках душистого цвета, по прохладным светлым ночам под окнами посадских изб, боярских хором щелкали, заливались соловьи. Девкам не спалось на жарких постелях на лавках, месяц заронял зеленые искры в углы, под стол, под лавки – шевелились там тени, мерещились мохнатые, мягкие, словно коты, домовые с зелеными глазами.
На ясных утрах пыль стояла над Москвой, пестрые коровы брели на выгоны, вперебой били колокола к ранней обедне, скрипели журавли колодцев. Бабы, покачивая станом, несли по дворам свежую воду. Мужики умывались на дворах, наскоро ели, становились, садились за работу – стучали ткацкие станы, молотки сапожников, скрипели пилы, фырчали рубанки, храпели скобеля столяров. На Кузнецком мосту весело ковали кузнецы; над Пушечным двором стоял черный дым, гремели тяжкие молота; гудели жернова, постукивали поставы, шумела вода в каузах мельниц на Москва-реке, на Яузе, на Неглинке, на других московских реках, с грохотом открывались лавки в торговых рядах на Красной, Лубянской, Таганской, Смоленской и других площадях, грохотали кованые и некованые колеса телег по деревянным мостам – настилам улиц, на улицы высыпали играть московские ребята, рылись в пыли петухи да куры, стрельцы с ружьями да с бердышами шагали по караулам…
По дорогам вокруг Москвы уходили обозы с городовым товаром, везли и в Москву хлеб, кожу, лен, коноплю, зерно, припас съестной, ранние овощи с городов, дичь в Охотный ряд. Со ржаньем, с гиканьем прогнали татаре да терские казаки табуны степных коней с Астрахани. По Москва-реке на латаных парусах, на скрипучих греблях, бурлацкой тягой плыли в обе стороны струги, насады, лодки с грузом на Оку, на Волгу, на Каму, на Сухону, на Двину, за Урал, в сибирские реки, к Байкал-морю, к самому Амуру-реке, под бок Китайскому царству. Бодрые утренние шумы, крики, гомон труда говорили, что работал народ, делал общее дело, каждый в своем маленьком, незаметном, да такое – поди ж ты! – без которого не прожить никому на земле. Видно было, что доволен народ – милее стало в Московской земле после четырнадцати лет польской войны, кончилось кровавое, горькое похмелье от царевых побед да патриаршьих мечтаний. Народ возвращался в обрат к семьям, вернулись уж стрелецкие полки с Польши, Литвы, Украины, стрельцы помаленьку расколачивали, подновляли свои избы, лавки, становились к прилавкам, к верстакам, к наковальням, шли на огороды. Разрядный, приказ распускал людей по домам, служивые задешево распродавали на московских торгах ненужную более военную сбрую, тянулись в деревни. Подходя, падали на колени, молились – привел-таки бог вернуться домой! Целовали землю, единственную свою благодетельницу, кормилицу и поилицу, обнимали голосящих, отощавших женок, выросших ребят, пили, гуляли, а потом шли на поля, из-под руки глядели на одичалые, сорняками, а то кустарником, а то и ельничком, березничком поросшие просторы. И снова гнулись за сохами, за лошаденками над животворящим, верным лоном матери-земли…
– Слава богу, мир… Можно работать!
– Мир? Нет! Еще далеко до миру!
Рад и царь – свалилась обуза с плеч. В ту весну все ездит он по своим подмосковным селам, подальше от патриархов, – надоело слушать то грозные небесные наставления, то умильные просьбы о милостыне. Царь живет то в Преображенском, то в Измайловском на Прудах, то в высоком Воробьеве, то в Алексеевском.
А больше всего – в Коломенском, неразлучно с сынком, с царевичем Алексеем.
Один остается царь, в землю уходят один за другим седые верные слуги, бояре, постельники, стольники. Схоронили обоих Морозовых, ушел в гроб храбрый воевода князь Трубецкой, плох стал совсем тестюшка Милославский Илья Данилыч. Ртищев хоть по-прежнему ласков, да человек-то нетверд, трудно приходится царю с державным своим делом.
Много дел вершит Ордын-Нащокин, новый боярин, но все больше по иноземным делам, да и человек он колючий, непокладистый, его близко к Москве подпускать нельзя – грызется с боярами, как пес, гнет все по-своему. Только разве один человек все ближе да ближе к царю – Матвеев Артамон Сергеич. Хоть и не боярин, да без него не обойтись.
И в это утро царь с царевичем на любимом своем месте– на каменном кресле на гульбище у церкви Вознесенья. Смотрит царь соколиную потеху, что на зеленом лугу творят царские сокольники в белых кафтанах, с золотым орлом на груди. Эх, далеко, видно плохо, а на коня царь уже не садится – тяжело, одышка одолевает.
Иную потеху ныне зазнал царь – потише: трудится, пишет он устав о сокольной охоте – «Урядник сокольничьего пути»…
– Батюшка государь! – слышит он тонкий голосок царевича. – Сбил, сбил твой Одинец селезня!
Глаза у царевича зоркие, серые, материны, сам худенький, шейка тоненькая, инда качается под меховой шапкой с парчовым верхом, с синим камнем персидским надо лбом.
Наводит царь подзорную немецкого дела трубку, трубка прыгает у него в руке, – неловко, ну ничего-то не видно.
Отложил царь трубку, обнял царевича за узенькие плечи – ну, былинка и былинка. Потрепал по бледной щечке.
– А что это у тебя, царевич, за книжка?
Учится царевич все время, много знает – и польский знает, и по-латински говорит, не то что отец.
– Артамон Сергеич принес!
Раскрыл, водит пальчиком, читает заглавие:
– «Ва-си-лиоло-ги-он…» (Уф, мудрено!)
– А! – сказал царь. – Уж изготовили? Молодец Артамон! Посольского приказа дьяки ту книжку составляли – сие «Сочисленье царей…» Тут все мы, цари, прописаны…
Царь от удовольствия даже усами пошевелил.
Сидят отец с сыном на воздушной высоте коломенской, листают книгу. В красном бархате книга, серебром окована, писана уставом строгим, с красными да узорными прописными буквами. И сказывает та книга про всех царей, что на свете жили, – ассирийских, персидских, еврейских, греческих-язычников, римских, греческих благочестивых, про князей московских да про царей российских, которые только на свете были и ныне есть, «во бранях доблестнейшие да мужественнейшие».
И лики царей тех в книге изображены: вот Дарий, и Ксеркс, и Александр Великий, и Кесарь, и Святослав, и Иван Васильич.
– А вот и ты, тятя! – показывает царевич пальчиком в страницу. – Как живой!
И подлинно – как живой нарисован царь Алексей: поднял белого коня на дыбки, скачет, в руке крест, над головой знамя вьется «Сим победиши».
Впился отрок в книжку, аж дрожит, а отец думает:
«Пусть приучается. Дело большое: быть ему и царем московским и королем польским…»
Фантазия стелет над лугами свой обольщающий туман – великое вселенское царство. Единое царство – значит, мирное царство, не с кем драться, все покорные, все тихие, как новый патриарх Иосаф, которого уже поставили вместо сердитого Никона. И царь в великой золотой диадиме сияет победоносно, как единое солнце на небе.
Мир в Коломенском, май. Цветут царские сады – яблоки, груши, сливы, абрикосы, вишни, черемуха, пчелы нижут молниями голубой воздух, гудят струнами, и в этой тишине стучат и стучат топоры.
Вовсю теперь строится царь, строит такое себе жило, что и на свете не бывало, строит на свой московский пошиб царскую избу – Коломенский дворец.
Ладом идет дело. Плотничий староста Семен Петрович давно сед как лунь, ныне спина согнулась, тупо да спорко переставляя тонкие ноги в белых онучках, в легких липовых лапотках, ходит с восхода и до заката, ворчит, трудников нудит: великая тревога одолевает художника-зодчего – а ну как да не завершит он своего несравненного строенья, а ну схитит, утащит его смерть? За ним, Семеном, подсобным бегает плотник Иван Михайлов, коренастый, румяный, чернобородый, длиннорукий, здоров, что медведь.
На холме над рекой сбоку клетками великими заготовлен лес, ровный что свечи, – сосна, ель, пихта, лиственница, дуб, клен, липа, осина, – с Волги, с Унжи, с Камы, ветром продувается, сохнет уже три года, выкаченный с реки на холм на железных цепях конями, под заливистый свист каталей-мальчишек.
Староста Семен Петров со товарищи воплощает топорами в бревнах новое мечтанье, что жжет царскую душу, – построить дворец такой красивый, каким Московское царство будет. Семену помогают, в каменной приказной палате Коломенского дворца сидят, в дугу согнулись над столами, зодчие розмыслы[164]164
Инженеры-строители.
[Закрыть], чертят, как клети поставить да царские избы, хоромы, горницы, рисуют узоры. Ведь будет в том Коломенском дворце ни много ни мало, а двести семьдесят покоев, одних окон только более трех тысяч двухсот, а каждое окно на свой лад. Заложена каменная уже основа царевой большой избы да изб для царицы, царевича, царевен… Станут на холме великие узорочные терема, как в песне поется – «золоты верхи, со сенями со нарядными, где верхушки со верхушками свиваются, крыши на доме горьмя горят…» Тут же церковь.
И от дружного труда в это весеннее утро еще больше дышит над Коломенским мир.
С гульбища видать – по Московской дороге скачут на мост вершные, так и стелют, впереди черный жеребец-гривач, хвост пышный, трубой…
«Артамон скачет! – встревожился царь. – Что такое?»
И верно – подскакали, слышно, со спины к церкви, шаги быстрые по камню звенят, влетает орел, друг сердешный Артамон Сергеич Матвеев, хоть и не боярин пока, да больше любого боярина.
– Ты, Артамон? Пошто? Что стряслось? – спрашивает царь.
Махнул тот рукой жильцам – ступайте-де прочь.
– Измена, государь, – шепчет Матвеев, глаза большие, губы сжаты. – Гетман наш-то малороссийский, боярин твой новоставленный, Ванька Брюховецкий, своровал! Не хочет с поляками мира нашего, кричит – выдали-де царь да Ордын-Нащокин ляхам Украину, пополам-де разорвали ее, потому и хочет царь польским королем быти. Сказывал я тебе, государь, – не верь Ваньке! И Ванька ныне хочет заодно с правым берегом, с Дорошенкой, чтоб им под турского салтана податься…
– А чего ж наши воеводы смотрят? – спрашивает царь.
– Побиты, государь, побиты Ванькой, боярином твоим, воеводы, да стрельцов бесчетно…
– Как так побиты?
– До смерти, государь!
– Воры! – хрипел, побагровев, царь, хватая себя за ворот – душило его. – Царевич, поди к себе… Мир наш срывают, окаянные, бунтом. И как это мы ихнего епископа Мефодия после Собору с Москвы отпустили… Епископы тоже воры! С Брюховецким заодно…
В Тайном приказе была уже отписка из Киева, что, вернувшись-де с Москвы, епископ Мефодий говорил всюду – Москва-де наняла арабских патриархов-муринов, чтоб Никона с престолу свести, что-де не бережет Москва людей, что-де повсюду на Украине Москва своих воевод ставит.
– Где ж Брюховецкий? – спросил царь.
– Пошел из своего Гадяча к Дорошенку!
– Послать надо разумных дьяков. К Дорошенке! Сказать– пусть кончит Брюховецкого, и тогда-де у Москвы мир с ним, Дорошенкой. Поможет-де царь ему… Он сейчас как?
– У турецкого султана помоги ищет, государь…
– Ромодановскому князю и воеводе в Киеве укажи – промышлять над Дорошенкой сильным боем. Пусть наши идут по Украине, пусть покажут, как Москве воровать. И послать туда рейтарские полки иноземные генерала Букховена да полковника Гордона. Крепких людей!
Стучат топоры в Коломенском, строит царь дворец, невиданный на весь мир, подымаются уже стены медового цвета, блестят сквозь зелень, – а нет вот мира кругом. Или легче строить дом, чем мир? Занимается лесным пожаром Московская земля…
Майскими цветущими степями скачут с Гадяча на Дон, в Черкасск двое казаков – гонцы к атаману и к старшине донским, кони все в мыле, стелются змеями в высокой траве по берегам Донца – велено им доставить грамоту без промедленья.
«Господа старшины! – пишет в своей грамоте казакам гетман Иван Брюховецкий. – Варшава да Москва замирились нашими головами казачьими! Выдаст теперь Москва нас ляхам, не вступится больше, как латынцы проклятые будут нас, казаков, на огне печь, мечами сечь, в свою унию крестить. Продает нас царь московский за корону польскую, принимает польский звычай. И патриарха Никона с престола свел, потому что шел-де кир Никон против ляхов. Господа старшины, прослышаны мы, что господин Стенька на Волгу хочет идти, помогайте ему, помогайте там, или всем нам, казакам, конец от Москвы да от Варшавы… Пусть господин Стенька освободит патриарха от мучений царских и поведет патриарх всех православных казаков против костела…»
…В Черкасске в Войсковой избе разглаживает сивые свои усы атаман Войска Донского Корнила Яковлев. Что делать? Силен царь московский, да и казачество все сильнее и сильнее встает – на Дону словно половодье, бежит туда люд с Московщины… Уже много прибыло голытьбы, грозит она домовитым казакам: у вас-де дома да хозяйства, а у нас нет ничего… или мы за вольностью бежали, да голодовать будем? Надо дать голытьбе выход, а то самим домовитым не сносить головы. Все сомнут… Надо дать пошарпать басурманов. Кого? Турок? Нельзя – заперли они хитро устье Дона цепями. Да из-за черкасских, казаков тоже приходится с турским султаном мир держать… Разве прибылых тех гулящих людей на Волгу да на Каспий выпустить – отсюда подальше от греха?..
Лето прибывает, солнце идет все выше, и вместе с летом разгорается тот пожар по вольным степям азовским, черноморским, приволжским, приднепровским все жарче, все выше взлетают искры, все быстрей ползут огненные хвосты.
Пришла в Москву отписка с Царицына-города, пишет 12 июня воевода Унковский Андрей Деметьич, доносит:
«…Ему-де атаман Войска Донского Корнила Яковлев отписал – живут-де теперь донские казаки с азовскими людьми в мире, как-де царю и обещали. И хотел было за тем миром донской казак Стенька Разин своровать пойти на Азовское море – силы собрал он на Дону много… Да по приказу-де его, атамана Донского, воротился и прошел он, Стенька, по Дону вверх мимо Черкасского городка, и слышно – хочет идти на Волгу.
И у того Степана больше шестисот человек у Паншина, у земляного городка собрано, и они-де торговых людей побивают и грабят. И слышно, будет собирать людей да воровать большими людьми беглыми – брать Яицкий городок на Хвалынском море, учуги[165]165
Рыбное предприятие.
[Закрыть] разорять, людей царевых побить, сесть самому в тот городок и оттуда выходить воровать на Волгу да на море…
…А стоят теперь те воровские казаки меж рек – на буграх высоких, кругом вода большая, и нам языка имать и сметить – сколько тех Стенькиных людей – не мочно. А их с восемьсот и боле, да потом подъехало с тысячу и боле. Стругов у них больших морских четыре, а малых много, и велел тот Стенька, послали бы из Паншина в Царицын – упредить воеводу – не посылывал бы тот служилых людей на казаков, а то-де их здесь зря побьют, а Царицын-город он, Стенька, сожжет».
Строит Семен Петров Коломенский дворец неутомимо. На каменное основанье встают клети из сухого леса, на них кладут костромские славные плотники медовые бревна, звенят бревна как струны – до чего сухи! Рогатинами их вздымают, кладут, снуют муравьями плотники в красных да синих своих рубахах…
Ставят цареву избу лицом на Вознесенье, в три больших окошка, к ней крыльцо, сени. За сенями четыре царевых покоя. Над царевой избой крыши разноличные – купол «кубом» над Столовой избой; над сенями – «маковка», «восьмигранный шатер», «бочка»; покои царя – под «крещатой бочкой», да под «клинчатой кровлей», да под «палаткой».
Растут рядом хоромы царицы, а жилье царевичей да царевен на полуденную сторону. И растет, как в сказке, чудной тот царский дворец-городок.
Июньская южная ночь, звездная пыль пропылила небо, отсвечивает в тихом Дону, не слышно аж всплесков на отлогом песке, темен, горбом Паншин-остров, на нем сотни костров, пламя желтое, алое, лохмотьями пляшет, лижет черные казаны, котлы, глиняные горшки… Зарево встало над островом, слышны голоса, красные отсветы озаряют высокие бараньи шапки, лохматые головы, бородатые, дочерна загорелые лица, грозные глаза, сверкают зубы, блещет оружье. За кольцом бесконечных костров чернеют кудлатые крыши ивняковых землянок, движутся, появляются, исчезают тени, в гул голосов врывается то хохот, то отчаянный крик, то звоны гуслей, заунывное треньканье бандуры, соленая брань, вспыхивает да гаснет неподхваченная пьяная песня…
Кругом острова черные полога тьмы, против них в красном свете видать – песчаный берег уставлен стругами, лодками, челнами, даже плотами. На Паншин-остров бегут, плывут, собираются, как кто может, гулящие люди, мужики, казаки, голытьба, капитоны, беглые монахи, расстриги-попы, неся с собой пьяное горе, кровные обиды, шумную злобу, тихую скорбь. Этот люд потерял возможность трудиться. Их загнали сюда земские избы, воеводы, палочные правежи, боярские обиды, царева расправа за московские, новгородские, псковские, устюжские бунты, за разгромы боярских, купеческих, помещичьих хором да усадеб. Они бежали от монастырских костров и тюрем за веру отцов, от страха перед Сибирью, от ран и смертей в Литве, Сюда бежали черкасы – украинские казаки – от кнутов и сабель русских и польских, царских и королевских воевод и гетманов.
Со своей земли они сбежали в пустые степи, бежали и увидели – как стол ровна степь, хоть шаром кати, пней нет, корчевать нечего, чернозем на аршин. И железно жались их ладони: взяться бы за чапиги тяжелых сох, резать бы сладко праздную целину, словно черное масло… Есть земля, люди есть, а труда – нет! Строя нет! Или царь да патриарх для того на Москве сидят, чтобы не давать им ни работать, ни молиться свободно?
Много здесь люда, да многолюдством своим он и слаб: у каждого свое горе, свое хотенье, своя обида каждый про свое толкует. Как рой пчел, а в роенье, гуденье все мятутся, ползут друг на друга, жалят друг друга, а знают, чуют, ждут, верят, ищут – будет, явится матка, и полетит рой на новое место для труда да медовой жизни. Где ж он, тот добрый молодец, что поведет рой к одной для всех правде?
Крайний костер к самой реке горит так близко, что угли и искры скачут в черную реку. У костра трое. Один сидит отворотясь от огня, охватив колени руками, грея спину в рваной синей рубахе, уставясь в ближний куст; другой лежит на животе, подперев голову руками, смотрит в огонь; третий – на боку, курит турецкую трубку дьявольского зелья, табаку.
Он и ведет речь, Елисей Бардаков, московский слобожанин:
– Мы ходили к царю втапоры жаловаться на медный рубль всей семьей. В Коломенское село. А братан мой Мишка извозом займовался, да повез он, чудак, с народом к царю Шорина торгового гостя сына Бориску. Видел-де, народ сказывал, сам тот парень, как его отец воровал с боярами. Ну, Мишку и велел повесить царь на Владимирке. Нас всех в Сибирь согнал. На Байкал-море – вон куда! А я убёг.
И, помолчав, вздохнул:
– Эх, и зря!
Сидевший спиной к огню заерзал, поворотился. Это был худой, сутулый человек с лицом, сплошь заросшим волосами – глаза блестели сквозь брови, голова кудлатилась.
– Что ж ты бежал? – заговорил он нараспев. – Царева воля – божья воля! Звестно! Куды бежать-то? Никуды от греха не денешься!
– А ты зачем на Дон сшел? – перекосился на него Елисей. – К теще на блины?
– Сам говоришь – зря ты сбёг.
– Ну да, зря! Мне земля нужна, я пахать хочу. Здесь земли не дадут… А на Байкал-море мои братья сидят, землю пашут.
– Живу-ут?
– А то? С грехом, а живут!
– С грехом? – потряс тот волосатой головой. – То-то и есть… Попом я был, Никон меня расстриг, я про грех все ведаю. Поп Никола я. Жить с грехом не придется. Антихрист в мир пришел. Нет жизни с антихристом…
– Куды ж деваться?
– В огонь все пойдем. Гореть нам подобно. Нечистый он, мир-то. Пусть огонь тело жжет – на, бери, сатана, в зубы, а душа спасена.
– А ты зачем на Дон-то сбрел? – настаивал Елисей. – Ну, мне земля нужна. Земли-то везде много, да бояре захватывают, чтобы на ней мужики на них робили… Степь привольную забирают… Я в Мурашкино, в морозовскую вотчину, бежать думал, – черт их бей, хоть землю дадут… Морозовский двор всех беглых берет за себя, абы робил…
– Ну и што?
– Ничего не дали! – потряс с усмешкой головой Елисей. – Велели мне поташ жечь. Сделали меня работным человеком. Я убежал. Весь народ здешний за землей бежит, земли ищет, земля-то – хлеб. А тебе чего тут делать, поп? – снова налег он на расстригу. – Жги себя, да и твое дело с концом… А мы жить хотим!
Глаза Николы в медвежьем его лике сверкнули, как молнии.
– Не буду жить в греховном сем мире! Тьфу! Сколько ни живи – все в смерть живешь. Да вот одного хочу я перед моим огнем – поглядеть, как огнем запалят и обидчиков моих, патриаршьих приказных… Гонят нас они да сами тем широко живут. Дьяволы они, жечь их достойно и праведно!
С земли заподымался третий, темный, большой как гора, задвигался.
– Хе-хе-хе! Ин дьяволов жечь хочешь?
– Рассчитаться!
– Так оно и есть… – Тот поднялся в саженный рост. Красная рубаха без пояса, большие пальцы ног торчат из песка, шевелятся, как змеиные головки. Занес и опустил с маху могутную руку. – Бей! Праведно! Тихие мы люди, никого не замаем, а коль землю отняли у нас – доправим на всех боярах, что нам задолжали. Поставим под батоги на правеж христопродавцев. Мук не боимся – правду нам подай! С меня правили, и я уж доправлю… не пожалею!
Гигант замолк, присел на корточки, свесив руки между колен. Костер кровью залил его молодое лицо с кудрявой бородкой, на больших ребячьих глазах блестели слезы… Все молчали, и среди гула голосов издали, где-то в прибрежных кустах, защелкал ни к чему соловей.
– Хм, – сперва пошевелился, потом выговорил распоп, – поет не хуже царского певчего дьяка…
– Попадет на сук певчий-то дьяк – не запоет! – хихикнул Бардаков.
Соловей смолк, зазвенела бандура, и в грустном ее перезвоне возникла и понеслась казачья песня-былина. Сказывала она, как брали донские казаки Азов – турскую крепость, как сели они там в осаду. Не себе они брали Азов – ему, царю, и бились они там против десяти тысяч басурман.
И эх, приступали турки на Азов с утра до ночи,
А мы – и бьемся все одни-одинешеньки,
Просим смены-помощи у Христа-батюшки,
Просим смены-помощи у пресвятой богородицы…
Захватили мы, казаки, турский Азов-городок,
Перебили в нем все гнездо змеиное,
Задавили в нем всех нехристей,
Православного народа да мучителей…
От ругани нашей на тех проклятых
Приустали уста наши, слова не молвят,
Очи все у нас, у бедных, выжгло порохом,
Ручки, ноженьки ослабели, не гнутся…
Нам бы надо за труды наши жизнь райскую.
А приходится нам смерть неминучая…
Ты прощай-прости, степь широкая,
Тиха реченька Дон Иванович…
Только мы на вас недолго пожили…
И от слез тех у нас, бедных, на сердце
Гнев горит палючий, разгорается…
И мы бросились с Христом на вылазку,
Всех поганых в моря волны загнали…
Над степью мигнула, полнеба охватила немая зарница, показала мохнатую, что медвежья шуба, тучу.
– Гроза будет, должно, – проговорил, зевая, Бардаков. – Хлестанула бы божья молонья по нашим супостатам, дал бы господи… Спать надо…
Лагерь скоро угомонился, костры шаяли угольями, со степи граяли вороны, зарницы обсверкивали небо.
Когда убавилось огней в городке, видно стало – на самом бугре шатер, в шатре желтый огонь, около шатра маячит караул.
В шатре на шатком столе горит сальная свечка, озаряет лицо задумавшегося Разина. Степан Тимофеевич сидит на дубовом бочонке, высокой бараньей шапки не скинул, не скинул ни красного кафтана, ни кривой сабли.
Разину под сорок; высок, широкоплеч, строен, кудрявые волосы стрижены казацким обычаем, с проседью, борода небольшая, круглая, в левом ухе серьга, глаза желтоватые, смотрят по-сокольи. Держится степенно, лицо гордое.
На столе сулея с водкой, в красной чашке баранина вареная, каравай белого хлеба. Ни хозяин, ни гость не пьяны. Разин крутит толстый ус, смотрит на собеседника – ну и страшен же!
На темном лике у Аксена Силыча Иванова недостает левой половины рыжей бороды, а левую половину лица покрывает бугристое сплошное пятно; рубец на щеке, синеет выжженная большая буква «В» – вор; ноздри у Иванова вырваны до белого хряща, левый глаз вытек, правый черный глаз в набрякшем красном веке горит лихорадочно.
Был когда-то Аксен Силыч Иванов московским слободским Котельнической слободы, добрые котлы ковал. Но еще вскоре после Соляного бунта был схвачен, вздернут на дыбу, бит кнутом, жжен, пытан всячески, клеймен, сослан в Сибирь. Да с таким лицом, как ему сделали палачи, и в Сибири не жить: изуродованный живет только, чтобы мстить. И бежал Аксен из Сибири, пропал, сгинул в лесах Заволжья. Распахивал лесные поляны, жил охотой, рыбой, медом, грабежом помещичьих амбаров да дворов, убивал торговых да служилых людей, выскакивая страшно с кистенем да с ножом из-под мостов, из придорожных чащоб, жил как зверь, завел большие семьи, рассыпанные по лесным заимкам да землянкам… Стал он вольным. хозяином зеленых лесов между Муромом, Арзамасом да Макарьевско-Желтоводским монастырем, знал там каждую зверовую тропку, каждую трясину, каждое дупло, каждого мужика, живущего там в шалашных станах. И одна дума жгла Аксена в его одиночестве все долгие годы: собрать бы все эти рассыпанные, разбежавшиеся силы в один кулак да ударить им по Москве, заставить бы ее освободить землю и труд для крестьян.
– Ты все свое, Аксен Силыч, – на Москву да на Москву! – сказал Разин и сгреб усы в ладонь.
– Да и ты свое, Степан Тимофеич.
– Так. Я все свое: времени терять нельзя, народ к нам бежит, ждет. Не дождется от нас дела – разбежится. Верно? А можно сейчас на Москву идти? Нет! Сил у нас пока мало. Ружья нет, с палками на немецкие полки не пойдешь, да и немцы к нам не перейдут. Старшина казачья донская нас к себе в Черкасск к оружью не пустит – боится. И в Царицын воевода нас не пустит. И в Астрахани воевода же… А на месте стоять больше тоже нельзя – кормов нет… На месте стоять – народ душой гниет. Надо идти, а куда, зачем пойдешь? Зря нельзя. На море наше раньше ходили, на Азов-город, берега шарпали… И того нельзя: мир у царя с турками, шевелить турских людей нельзя…
– Кого же можно шевелить, батька?
Разин прищурился, схватился за столешницу, подался вперед.
– Персидских людей, пожалуй, а? – прошептал он и прихлопнул ладонью по столу, свечка дрогнула. – Волгу проскочить надо, сесть на Каспий царя да шаха промеж, чтобы каждый из них думал: не мое-де дело!
– Куда ж это?
– Яицкий город взять – крепость-то крепкая – да оттуда силы и собирать, черных людей подымать на Москву!
– Далеко Яик-то от Москвы, батька!
– И то хорошо… А слыхивал ли ты, товарищ, что сейчас на Амуре? Чать, еще дальше Амур… А правит там сейчас наш брат, казак вольный, Черниговский Никола с казаками. Убил он Илимского городка воеводу Обухова, убежал да занял Албазинский острог, сидит там, сам себе голова, с ним казаки, кругом пашенные крестьяне… Город свободный, казачий Албазин, кругом стены, торг великий. И на зипунишки казакам есть где взять – близко. А Яицкий городок – тот тоже собинный, ставлен он рыбниками-купчинами Гурьевыми, Михайлой да Андреем, а стены в нем крепкие, против астраханских деланы, работного люду там немало… Сукнин Федька, дружок мой, в том городке живет, доводил он ко мне – добыть той город нам мочно. И от Москвы и от Черкасска далече, а учуг добрый, рыба богатая, и народ кормить мочно, да на море рукой подать. В Персию. За рубежом копи силу, а там что бог даст впереди…
– На Волгу, значит?
– Волга – большая дорога, товарищ… Оружье на Волге добыть можно, в лесах да в степях пищали добрые, ведомо, не растут.
По песку заскрипели шаги, кто-то за шатром шагал торопко, заговорили шепотом караульные.
– С вестями, должно! – прислушался Иванов. – Пожалуй, твоя правда, батька! Покуль молоко не скиснет, творогу не есть.
Пола палатки приподнялась осторожно, влез на носках дневальный казак.
– Батька, тебя!
– Кто?
– Наши… Казаки!
– Отколе?
– С Волги! С ертаула!
– Давай!
Двое казаков вошли, перекрестились, отвесили поклоны – блеснули серьги, вытянули оба вперед шеи да бороды.
Разин спросил о здоровье.
– Спаси бог, батька! – отвечали оба казака враз, а после говорил старшой, Серега Петров:
– Сказывал нам на степу торговый человек, гость московский, шел он с караваном, отстал, вперед выскакал конно. Плывет по Волге торговый караван на Низ. Большой, с товаром…
– Чей караван-от?
– Московского именитого гостя Шорина Василья Григорьича. Рыбу для царя да патриарха в Астрахань закупать плывет, а туды – товары да ружье…
Ахнул Иванов, вскочил, скамья опрокинулась на песок.
– Батька! Он! Шорин Васька! Ах, супостат! И с Соляного бунта с Красной площади ушел, и с Медного из Коломенского сбежал Шорин-от… Василей! Везет, знаю, он в Астрахань и в Царицын и порох, и свинец, и ружье… и хлеб… Господи! Атаман, забирай…
– Где караван? – спокойно спросил Разин у ертаульных.
– С Саратова уже сплыл.
– С зарей идем на Волгу! – встал атаман из-за стола. – Людей подымать! – распорядился он. – Плывем по Камышинке. Колеса побрать под челны. Може, объезжать придется…
И только просветлело, ударили тулумбасы.
– Подымайся, товарищи!
Вот и Успенье прошло, хлеба дожинаются, третий Спас – на всякий плод разрешенье. В Коломенском по прохладному ветру носится паутина, богородицына пряжа, осины стоят красные, клены алые, березы желтые. Меньше стучат топоры – короток день, да и дворец уже поднял Семен Петров. Разойдутся скоро плотнички по деревням за светлой лучиной зиму зимовать, а начинают уже в Коломенском дворце другие мастера работать: кузнечное, столярное да резное дело – дворец украшать…
Прошел Покров, над землей, покрытой палым листом, снег запорхал, сквозь черные узоры голых дерев виден новый царский чудесный дворец. Не слышно боле и топоров, только снегири посвистывают в зеленых елочках, из дворца несутся песни да стихиры – народ в покоях работает, окна, двери ладят.
В Коломенском дворце по зиме покои натоплены жарко, дух в них смоляной, душистый, оконницы стеклянные, светло, зимнее солнце светит мило; пахнет свежим деревом да стружкой, насвистывают рубанки, потюкивают молотки по долотам, пилы звенят…
По всей земле летом искали царские воеводы резчиков, мастеров искусных, собраны они теперь в селе Коломенском. Работает в красной рубахе без пояса – ворот расстегнут, волоса да борода в стружке ремешком подвязаны – столяр первых статей Клим Михайлов, что работал на службе без крепости[166]166
По найму.
[Закрыть] у князя Куракина Геннадия Семеныча, а после у патриарха Никона работал восемь лет, в Воскресенском патриаршьем монастыре. Да ученик у него, у Климки, Федька Микулаев, крестьянский сын, тоже столяр знатный, мальчонкой пришел в Москву, бродил меж двор Христовым именем, а теперь в большие мастера глядит… Да еще монах, стрелец Арсений, резчик искусный, да Давыд-резчик, тоже монах в смирной одеже, да еще мастеров без счету…