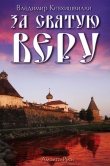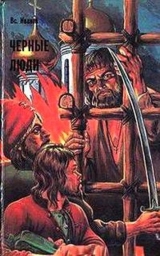
Текст книги "Черные люди"
Автор книги: Всеволод Иванов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 42 страниц)
– Этого и у нас с Беломорья тоже хватит…
– Шелка идут из Персии да шемаханские… Ну, это немцы в Еуропу везут к себе…
И Грачев, прихлебнув сбитню, заговорил словно другим голосом:
– Так-то, Кирила Васильич, нелегко на Волге работать… Другой, другой народ у нас на Низу, на Волге, чем у вас в Поморье да в Сибири. У вас люди мирны, а у нас на Волге земли новые, а тамошние люди свое старое помнят… Возьми к примеру Казань. В Казани посадские татаре сильно работают – все по-своему. Мелкие ремесла знают, что нам еще невдомек. Болгарскую кожу работают хорошо, юфть, сафьян… Им наш городской товар ни к чему… Да по Волге народ на Низу кочевой, немирной, с саблей да с саадаком. Покамест там русского люду нет, там дела мало…
– Да ежели, Семен Матвеич, мы будем своих на Волге ждать, немец туда пролезет! Опасно! Больно немцы на Волгу рвутся, а у них товар подходящий… Упустим матушку Волгу – пожалуй, не вернем… Хорошо, что казаки с Дону да татаре немцам ходу не дают, а нам нужно это дело на свое счастье пытать… Вперед смотреть…
Разговор прервался появлением молодца с подносом, уставленным росписными чашками и блюдом с полуянтарной отварной осетриной.
– Пожалуйста! – сказал услужающий, ловко расставляя чашки по столу, раскладывая ложки. Тонко улыбнувшись, он водрузил на столе маленькую сулейку с золотистой настойкой. – Лимонная-с!
– У вас в Москве больно кормят славно! – говорил Семен Матвеич, осторожно раскладывая по чашкам дымящиеся звенья осетрины. – У нас проще. Эх, вот скоро на царевом Верху будет пир-от!
– Царь-то женится? – спросил старший Босой, раскрывая складной засапожник, чтоб резать рыбу.
– И боярин Морозов тоже. Заодно!
– Дак ему-то под шестьдесят?
– Не менее. А любит сласть-то… хе-хе-хе! А уж Милославский Илья Данилыч до чего рад обеих дочек-то повыдать! Недаром говорят, такие хоромы строить собирается– куда там!
– Ну, бог с ними! Большим кораблям большое плаванье, – сказал Кирила Васильич, крестясь и подымая левой рукой стопку. – Со свиданием радошным!
Выпил и, морщась, спросил:
– А как же у вас там, на Волге-то, русский люд живет? Когда ж там торговать можно будет?
– Да что, за Нижним нашим немало пашенных людей сидят на новых землях… Рады были туда вылезти из лесов– пней-то не корчевать. Чего лучше, земля добрая да ровная – степь да дубравы… А вышло-то дело хуже, чем в лесу. В лесах свободно, а здесь уж большие бояре! Кто в Москве сидит первый боярин? Морозов Борис Иваныч! Кто у нас за Волгой первый вотчинник? Он же, Морозов! Да и другие все московские вящие люди в наших землях сесть успели. Они тоже смекнули, что одним хлебом с поля да царским жалованьем не разбогатеешь, а взялись за промыслы да за заморский торг. Они своих пашенных мужиков в деловых людей обернули. Будние заводы поставили в дубравах, поташ жгут… у Морозова по сту бочек на день вырабатывают, за рубеж везут. Богат стал боярин, уй, богат! Вотчины в семнадцати уездах – это как? Триста сёл. Мужики ему и пашут, и жнут, и смолу и деготь сидят, и лес рубят. На кожевенных заводах пропадают. Вино курят! Мельницы везде поставили. Кирпичных станов не один, кирпич-то, поди, нужен: палаты какие боярин себе строит – вся Москва ахает. А кто все робит? Мужики. Из леса выбежав, мужики в крепость угодили! Все равно как вы в Москве.
– Ловок боярин! Жаден!
– Все они такие. Все иноземцев слушают, по польскому свободному образцу норовят холопа в дугу гнуть. Что скажешь, Босой?
– Нехорошо! – твердо ответил Кирила Васильич, откладывая нож в сторону. – Нет! Не по старине!
– А царь молодой чего делает? Наши отцы как Михаила советом всей земли в цари сажали, запись с него взяли – старых вольностей не рушить. А где она, запись та? Помину нет! – шептал Грачев. – Без собору дел не вершить.
– Запись была, чтоб работать нам под царем, как мы работаем, – артельно, – заметил Босой. – А выходит дело не так. Поди, бежит народ-от?
– Рад бежать! – усмехнулся Грачев. – А куда? В обрат, за Волгу? В леса? Пни корчевать? В Москву? Царские истцы схватят! А в Дикое поле[52]52
Степи.
[Закрыть] бежать – ясыром[53]53
Пленный (татарск).
[Закрыть] станешь… На отшибе живут… К казакам разве – на Дон, на Яик? Так те хлеба не пашут, саблей норовят жить. Те выдать не выдадут, да своему научат – вольной жизни… Кипит народ за Волгой. Ты послушай, что народ говорит! На каждый роток не накинешь платок-то! По кабакам, слышно, ревут, – обманула Москва народ! Бояре обманули. Ох и будет!
– Чего ж будет?
– А тряханет народ боярами. Ой, тряханет! Замятня будет, ей-бо! С соли кой-кому крепко солоно доведется. Назар Чистой-то уж на новое место сел – в Посольский приказ, думным дьяком. Он, Назар, да Василий Шорин этому всему боярскому делу голова! Учат те купчины бояр, как богатство в парчовые мошны собирать. А Траханиотов Петр Тихоныч что творит! Пушкарский приказ медь за рубежом на пушки покупает, Траханиотову вся Москва звенит. На все закупы эти деньги надобны, ну, соль все и оправдывает. А уж пуще всех Плещеев – он своим Земским приказом всем оскомину набил. С утра как ни пройдешь – мужики на правеже стоят: долги Плещеев батогами по ногам выколачивает. Ну, вы, торговые люди, должны смотреть крепко, коли какое дурно на Москве случится…
– А нам что ж такого?
– Или своих-то дел ай тебе не жаль, Кирила Васильич? Ведь за полсотни годов вон вы куда ушли – всю Сибирь потиху Москве приспособили. До Байкал-моря! Везде люди работают… Крепнем. Смотри, как вон и с Украины намедни в Москве послы были, от казаков, – надоели им их ляхи. Сюда казаки просятся, к нам. Хотят под Москвой жить. А почему? Потому, что мы сильны стали. А бояре на Москве воруют! Не по совести!
– Обидно, конечно, Семен Матвеич, что на наших-то делах другие руки греют, палаты строят на заморский образец каменные, рыло скоблят, польские кунтуши носят, постов не блюдут – им-де все позволено, – говорил Кирила Васильевич. – Я так думаю, Семен Матвеич. Тихона-то я спосылаю в Нижний Новгород. Пускай съездит посмотрит, как там народ живет, проведает все, разума наберется!
Он взглянул на Тихона:
– Слышь, племяш? Поедешь! Поглядишь сам, приедешь– будем знать, что делать, чего отцу-то сказать. Писанье – дело скользкое.
Молодец уже подавал тельное, потом взвар. Ели, пили, и разговор становился все веселее… Вспоминали молодость. Смеялись.
На Спасской башне пробило пять ударов.
– Пора и опочив держать. Идем-ка домой да соснем, – сказал Грачев.
Кирила Васильевич подался вдруг к окну.
Из Спасских ворот через мост над рвом скакали четверо вершных на белых аргамаках; за ними бежали скороходы; за бегущей челядью вынеслась алая орлёная каптана шестериком; возницы сидели на конях верхом; сбоку каптаны лихо бежали скороходы, держась за толстые шнуры с золотыми кистями. Народ замер, сняв шапки, провожая взглядом карету и на всякий случай кланяясь в пояс.
– Должно, кто из Морозовых. Надо быть, жена Глеба Ивановича. Боярыня… – сказал Семен Матвеич. – Она. Эх, не так народ живет, Васильич! Ну, платим да идем. Отдыхать нужно, мы-то уж старики. А ты, парень, – ткнул Грачев толстым пальцем с серебряным перстнем в Тихона, – ты, молодец, молчи да слушай. Смотри, думай, как жить по совести надо. Души своей губить нельзя.
Тихон с Кирилой Васильичем дошли к Москворецким воротам. Солнце стояло за Донским монастырем. На площади народ московский все редел, расползался по избам – кто с прибылью, кто голодный, садились за щи, садились за труды, кто смеялся, кто злобился и негодовал.
Навстречу им из дома выскочила, как всегда, Настёнка, повисла на шее у отца, пряталась в его бороде.
– Хмельное-то пил, видно, опять! – выговаривала, она отцу смеясь. – Мамынька гневаться будет! А Тиша, братик, тоже пил? Тятенька, подь ляжь, отдохни. А Тиша-братик, или ты тоже ляжешь? Ну что это – еще солнце, а все храпят, отдыхают!
– Мы русские люди, не иноземцы, доча, – улыбался отец. – Ну, помогай мне разоболокаться.
Все шло в доме старшего Босого старым, установленным порядком. После дневного отдыха пили перед вечером сбитень, хозяйка хлопотала с ужином.
На башне Кремля перекликались стрельцы, славя город, как по всем русским городам; на Красной площади, вдоль Гостиных рядов, гремели цепями, бегали и брехали псы; у перегороженных решетками улиц стояли заставы с бердышами, с фонарями, по Вознесенской бежал посадский человек Осип Ковшов звать бабку на повой – родит жена Прасковья; с него решеточные сторожа брали за проход; в избах за жалкими каганцами, за лучиной трудились московские мастера-искусники, шептались о последнем скандале в доме боярина Шереметьева. Чего было – и-и-и!
Прибежал летом на Москву чешский человек Матвей Шлык, спасаясь от преследований безбожных католиков, заявил, что он православный. Принят он был у царя со слезами умиления. Ловкий, обходительный, благочестивый, по своим рассказам – даже родич чешских королей, Матвей Шлык в качестве почетного иностранца пожалован был поместьем под Москвой и дорогими подарками – соболями и золотом, беседовал часто с самим царем Алексеем. Он познакомился с боярином Шереметьевым и так того очаровал, что чванный боярин выдал за него единственную свою дочь, гордясь столь высоким родством… А вышло, что Шлык был комнатным служителем какого-то имперского графа, украл у господина деньги и убежал в Московию, где, как он слышал, иностранец всегда мог легко выйти в люди.
Боярин Шереметьев, прознав все, упал царю в ноги, просил защиты. Брак расторгли, Шлыка посадили в Соловецкий монастырь. «Ха-ха-ха! – посмеивались бояре по своим хоромам. – Вот старый дурак! Вот те и породнился с королевским родом!»
В этом вечер царь Алексей, прося умиротворения своей плоти, молился в Крестовой, добивал уже седьмую сотню земных поклонов. Крепчал мороз. Два гиганта печатника на Печатном дворе при паре сальных свечей печатали «Грамматику» Мелетия Смотрицкого – первое робкое веяние науки среди могучего, но неграмотного живого народа. Смотрицкий смело писал в ней, что отцы церкви были грамотны, что они занимались науками – грамматикой, философией, историей, астрономией, и народ тоже может изучать все это, и в этом греха никакого нету. И подслеповатый очередной справщик Евфимий в типографии Печатного двора, уже не один год мечтавший, как бы ему достать очки, просматривал оттиски под свечой вспухнувшими от напряжения, красными глазами – нет ли где распавшихся или перекосившихся литер?
Гиганты с закатанными рукавами, печатники оставались пока доверчиво неграмотны.
Глава девятая. Боярин Морозов
Суров месяц просинец[54]54
Январь.
[Закрыть], холода, на грех, покрепчали, московские избы и терема от мороза ухали гулко. Над столицей стояли недвижными столбами дымы, воздух был сух, жгуч, над снежными крышами Кремля, между башнями и колокольнями катилось бледно-красное солнце, по ночам ходил месяц с ушами. Все деревья московских улиц и садов опушились алмазным инеем. Ну куда ж тут было отъехать Тихону в дорогу, надо было ждать…
Да и время подходило веселое. Отошли Святки – вертячие скоморошьи праздники, прошло за крещенским ведовским вечером Крещение с пышным водосвятием на Москва-реке, с Иорданью под Тайнинской башней, со стрельцами да с пушками, с купаньем в прорубях.
И по всем торгам и площадкам забили в барабаны, закликали государевы бирючи, что в воскресенье 16 января на царском дворе в Кремле царская свадьба, звали народ на почестен пир.
Москва знала все дотошно, что творится в царевом Верху, – Тихону поведала обо всем его тетка, Фетинья Марковна Босая. Тетка только что пришла ото всенощной, сидела на теплой лежанке. Бревенчатую горницу освещала свеча. Тихон и Настёнка сидели на лавке.
– Года полтора тому назад, – говорила Фетинья Марковна, заправляя обеими руками седеющие волосы под повойник, – царь-то уж было выбрал себе невесту, выбра-ал… Двести девок свезли самых красивых со всей земли на Москву, а царю-то показали только шесть. И как увидал наш Олеша одну, обомлел, сразу отдал той девке ширинку и кольцо. Из Касимова была девка та, Афимья. Взяли девку на Верх, одели, обули, – известно, царь! Стали царевной нарекать. А она возьми да и хлоп! Как подкошенная упала! Да-а!
Тетка Фетинья перешла на шепот:
– Как ей, девке-то, волосы чесали, так их затянули, что она и сомлела. Ну, тут, конешно, все бояре кричат кругом: «Порча! Порча!» Девку-то царь сослал. И ейного отца сослал.
На синем рассвете дня царевой радости собирался народ на Ивановской площади перед царевым Верхом, ждали… Государь отстоял раннюю обедню в верховой церкви Спаса, благословился на брак у патриарха. А как из-за Спасской башни поднялось солнце, под трезвон царь в золотной шубе, собольей шапке, на белом аргамаке под персидским ковром ехал благословляться к кремлевским московским святыням в Чудов монастырь, к мощам Московского заступника Алексея-митрополита, да в Архангельский собор, к родительскому гробу. Сзади верхами, в парчах, в высоких шапках, ехали бояре.
Народ, крича, крестясь, валился на снег, восхищенный сквозь пар дыхания, сквозь дым ладана и костров словно небесным видением.
А в Грановитой палате подготовлено чертожное место (от «чертог»): под алым балдахином два кресла – для царя и царевны, на нем два оголовья – подушки золотого бархата, и на каждой подушке по сорок соболей сибирских. Перед местом – стол в три скатерти накрыт, и на нем сладкая перепеча[55]55
Кулич.
[Закрыть] да творожный сыр сладкий, да солоница.
Царевну Марью Ильиничну на царицыном Верху уже нарядили в платно золотно да в венец золотой с городами, с каменьями да жемчугом.
Тысяцкие царевну Марью повели в Грановитую палату, благовещенский протопоп Степан окропил святой водой чертожное то место, соболей с одного сняли, посадили царевну.
И тогда послали боярина до государя.
– Государь царь и великий князь Алексей Михайлович всея Русии! Боярин Морозов Борис Иванович велел тебе сказывати – время тебе, государь, идти к своему делу!
Подхваченный двумя боярами под руки, медленно шествовал царь Алексей в Грановитую палату, впереди поезжане, за ними поезжане, за ними дружки, за теми бояре. По переходам-крыльцам, гульбищам – галереям – дворца мелькало перед народом опять блестящее видение.
Царь сел, и протопоп благовещенский Степан благословил чесать голову царю и царевне. Чесали, и чару с осыпалом держали думный дьяк Алмаз Иванов, да чару с медом – гребень мочить – думный дьяк Прончищев. Свечи царя и царевны зажгли богоявленским огнем.
На государыню-царевну кику и плат положили уже по-бабьи, свахи убрусом покрыли с жемчугами; и соболями опахнули, и осыпалом осыпали обоих, и перепечу разделили обоим, и оба – царь и царевна – ели.
И пошли к венчанью в Успенский собор – сенями да Красным крыльцом, что у Грановитой палаты, и путь был крыт камкою алой. У крыльца ждал аргамак да сани большие, обитые атласом золотным, в них сидели уже четыре свахи.
Впереди побежали дети боярские – двадцать человек, чтобы царю да царевне никто не перешел пути.
Вдоль расчищенной от снега дороги стояли в лазоревых, красных, зеленых, желтых кафтанах стрельцы, удерживая вопящий, беснующийся от великолепного зрелища народ. Тихон тоже, не помня себя, пробивался вперед, ближе, давя, расталкивая на своем пути нагольные тулупы, шубы, азямы мужиков, цветные шубы да шушуны баб, пока наконец его не схватил за грудки грозно высокогрудый стрелец полка в лазоревом кафтане.
– Стой! – закричал стрелец, чернея выбитым зубом в легкой бороде, замахнулся на Тихона бердышом. – Куда тебя несет нелегкая?
Тихон остановился, тяжело дыша. Он-то ясно видел, он не мог ошибиться! В парчовой шубе, в высокой шапке, с ширинкой через плечо шел среди поезда государева он, его обидчик, князь Василий Степанович Ряполовский, весь в облаке золотого от солнца пара, клубах синего ладана, среди парчовых бояр, блеска оружья, цветных стрельцов, он, его обидчик, торжествующий похититель его Анны, богатый, сильный, защищенный своей близостью к царю.
Тихон так тяжело дышал, так смотрел сквозь слезы, что мерзли на щеках, в бороде, что схвативший его стрелец поласковел, улыбался. И, пройдя, уходил от Тихона его обидчик, недосягаемый, как само небо.
Повенчали царя и царевну, пели голосисто царские певчие дьяки, и шествие таким же порядком двинулось обратно – царь верхом, царица в санях. В большой Столовой избе все было готово, пир пошел своим ослепляющим ходом.
Посреди Столовой избы поставцы с золотой, серебряной царской посудой, с хрусталем, с венецианским стеклом. Стол молодых – отдельно, на возвышении, крытом красным сукном, столы другие расставлены вдоль стен. Короткий день кончался, пороховая нитка уже зажгла в паникадилах, и в настенных подсвечниках, и в шандалах на столах сотни восковых свечей.
Ближе всех к царю сидел, неподвижно каменея, духовный чин, патриарх Иосиф в белом клобуке с херувимами и с жемчугами, митрополиты и епископы в лиловых мантиях с рубиновыми и алмазными источниками[56]56
Особый узор на мантии.
[Закрыть], архимандриты в черных. Тут же сидел Никон, игумен Новоспасский, рыжий, могутный, краснолицый мужик с деревянной, резного дела панагией. Дальше – протопоп Степан, протопопы да попы московские. Бояре с бритыми головами поскидали высокие шапки – нет мочи, как натоплено! – сидели в тафьях, думные дьяки в цветных кафтанах, окольничие, еще дальше именитые московские гости. Стольники в высоко поднятых руках разносили ествы, братины с медами да пивами, сулеи с заморскими винами. И не было на пиру том ни труб, ни гудков, ни барабанов, ни сопелей, ни волынок, «ни плясания, ни скакания, ни хребтам вихляния», ни веселых скоморохов.
Царь Алексей раскраснелся, лицо его сияло умиленно, он не отрывал глаз от царицы, что похожа была на богородицу в бабьем своем уборе.
А бояре, дьяки и торговые гости пили крепко, и то и дело густой хохот потрясал Столовую избу. Особенно гремел смех, носились шепоты, когда под пасхальные гимны пришлось дружкам завертывать в скатерть жареную куру– вести молодых спать в сенник. И казалось, что от хохота того дрожат и пляшет в веселье и небо и земля.
И на Ивановской площади все больше и больше разгоралось веселье народное. От жарко пылавших костров белые соборы, сам Иван Великий сияли живыми отсветами, купола блестели лунами, дым плавал, как облака, пива и вина в бочках, кадях, окоренках было хоть залейся, столы под фонарями завалены жареной говядиной, бараниной, птицей, хлебом. Вихрь песен и топот плясок несся по бревенчатой мостовой пестрой метелью, сверху смотрела ледяная луна.
Луна стояла над Боровицкой башней, когда боярин Борис Иваныч, густо хмелен, отменно доволен, вышел оберегать царскую опочивальню. Конюший боярин Иван Васильевич Морозов подал к крыльцу рыжего бахмата, стряпчие поставили невысокую скамейку, боярин грузно поднялся и опустился в мягкое седло, обнажил меч, молнией блеснувший под луной, положил его на правое шубное плечо и шагом пустил коня меж фигурных теремов, взятых в плотное кольцо промерзшими насквозь стрельцами.
Навстречу ему из-за угла выехал Илья Данилыч, царев богоданный тестюшка. Съехавшись, оба остановились.
– Все ль ладно? – раскатисто спросил Морозов. – Не плакал никто?
– Кому плакать-то? – взглянул на луну Милославский. – Девка моя не такова!
– Боюсь, Алеша мой не заплакал бы, – усмехнулся Морозов. – Больно уж тих. Агнец.
– Не ведаю, – ответил Илья Данилыч, он все еще смотрел на луну. – Месяц с ушами – к морозу. А вот ты-то, Борис Иваныч, как через недельку будешь с моей Аннушкой в сеннике – э, поглядывай, молодой, как бы не уснуть тебе, кум!
– Если нужно, уснем, Данилыч! Ну, спаси Христос, дело сделано. Завтра сводим государя в мыльню, омоет он свой грех, будет женат человек. Одного боюсь – не захватили бы его чернецы так, что и жена не удержит. Смотреть надо!
…Молодой Алексей сел на высокой брачной постели, смотрел, – царица Марья, сбросив головной убор, на столе, между кадями с хмелем да с пшеницей, ничуть не смущаясь, ловко разделывала ножом свадебную куру.
– Кушай, государь! – поднесла она мужу золотое блюдо.
И засмеялась.
Тихон в это время пробирался в толпе домой, к площади, через Спасские ворота.
Он никак не мог опомниться – все стояло перед ним лицо князя Ряполовского, высокомерное, надменное и вдруг заискивающе заулыбавшееся, когда во время шествия в Успенский собор царь что-то сказал в его сторону.
Раньше-то Тихон всегда знал, что жить надо было, как все живут, – ловить в море рыбу, ездить за Каменный Пояс, по Сибири, собирать покрутов, имать соболей. Он работал от восхода до захода солнца, верил в бога, в царя, боялся их, и жизнь его катилась тогда в общем вале всех посадских и пашенных и служилых людей. Откуда же взялся воевода, князь Ряполовский, словно ястреб уволокший в кривых своих когтях голубку Аньшу, разбивший его жизнь?
Тихон добежал наконец до двора дяди Кирилы. Все чады и домочадцы сидели за столом, горели свечи. Ужинали. Пошатываясь, Тихон вошел, помолился на икону, перешагнул лавку, сел.
– Ну, сказывай, племяш, чего видел? Велико ли было царское веселье?
– Тиша, голубчик, а на царице каково платно? – припала к его плечу Настёнка.
– Сиди чередом! – прикрикнула на дочку Фетинья Марковна. – А то вот ложкой по лбу! Какая, право!
– Ешь, племяш! – проговорил Кирила Васильич, указывая на блюдо студня. – Что-то ты сумен?
Тихон вытащил из сапога свой нож, пододвинул молча чашку. Фетинья Марковна положила ему студню с соленым огурцом, подала ломоть хлеба.
– Иль тебя, молодца, после царского веселья и впрямь нужно огуречным рассолом опохмелять? – засмеялся вдруг кто-то из застолыцины.
Тихон поднял голову – на него смотрел Пахомов. Тихон его и не заметил в большой босовской застольщине.
– Или и тебя, млад вьюнош, в мать-пустыню потянуло с царского веселья? – проговорил он, поглаживая бороду. – Хе-хе… Иль не по нраву пришлось? Да и то сказать…
Тихон упорно молчал, рылся ложкой в чашке – голод и мороз давали себя знать, – а Пахомов продолжал, зорко присматриваясь к нему:
– Знать, веселился, а не весело. Оттого, что нет правды на земле. Нет и нет! Где правда? Не в шуме, не в чванстве, не в золоте… В народе. В тишине. Трудится народ ладом – и все ладно, улей гудит ровно, когда все пчелы работают. А ежели не все у них ладно – сразу слышно. Слышно-о!
– Слушать надо, чего народ гудит. Бояре что? Смотрят на народ как на свою вотчину, а народ обижается. Тишу-то нашего тоже, должно быть, боярин ушиб, не без того! Все то же, што ль?
Тихон кивнул головой.
– Вот и я говорю… Настёнка, налей-ка кваску. Спасибо… Ну что ж делать с ними, с боярами? У протопопа Степана, царева духовника, попы собираются, думают: что делать? Ихняя вся надежа ныне – игумен Никон… Зело силен – в Боярской думе сидит. Что он ни скажет – царь делает. Говорят, кабаки скоро на откуп давать не будут.
– Слава те, осподи! Грабеж – кабаки! – отозвался Кирила Васильич. – Только как это бояре свои доходы отдадут? Чудно!
– Никон-архимандрит царя уговорил тоже, чтоб немцам воли не давать. Нашего хлеба за рубеж они не увозили бы и чтобы обиды от них торговым людям не было! Царь все обещал, и с Киева едут монахи. Ученые. Будут наших учить… И пенье, говорят, в церквах направят, чтобы пели да слушали вразумительно и умильно. Пели бы не все враз, а по отдельности, чтобы народу понять все можно было. Книги исправлять будут. Никон-архимандрит силен человек. Правильный!
Кирила Васильевич взглянул на Пахомова.
– Не поповское это дело в мирские дела лезть! – заметил он. – Бояр иконой не испугать! Надо, чтоб народ сам говорил, чего ему надобно. Молчит народ! А как он скажет? Воеводы да дьяки за него и пишут и говорят. Ну да дай срок, скажет, скажет сам. Вече-то никуда не ушло, помнят его. В Москве вон ляхи сидели, нам царем Владислава уж поставили, а все же народ их прогнал… Сила! И теперь со всех городов челобитные идут, их честь да слушать нужно. Ну, бог даст, и соберется Собор всея земли.
– А кто собирает-то? Бояре? Себе на голову?
– А сами соберем. Ум у мужика не черт съел!
– Кирила Васильич! – Пахомов инда прижал к груди обе руки. – Так мужики-то неграмотные. Темны. Как рядить будут?
Кирила Васильич стукнул легонько ладонью по столешнице.
– Неграмотны! Вон подьячие да приказные – все грамотны. И что с того? Крапивное семя! У них, што ль, у грамотных, ума да правды спрашивать? Они всю грамоту-то в свой карман оборачивают! Многие попы тоже от святого писанья глаз не отведут, а что толку? Что ни сбрешут – все на писанье валят. Народ на своей шкуре знает, каково ему та грамота приходится. Народ-то, други, умен, хоть языком и коряв, хоть нет у него гладкой побежки да книжной иноходи. Вот кабы у народа свои грамотеи завелись, за народ бы говорили… И вот еще что скажу – у нас на Севере, в лесах, народ сидит вольготней покуда. Там тихо. А где тихо, оттуда и спасенье. А на Волге инако. Там, на Волге, неспокойно, война, казаки, а где война – там боярин, а где боярин – там воли да правды, выходит, не ищи. Вот ты, Тихон, по отцову указу съездишь на Низ, сам посмотришь, что там да как. Чего говорят, чего ждать…
– Попы там, говорят, есть хорошие, – заметил Пахомов.
– Поп попом, а мы-то в миру живем! – огрызнулся даже Кирила Васильич.
– Попы – святые люди! – спорил Пахомов.
– Эва! Святые с народом живут, народ учат, а попы-невежды только службы ведут… Народ свят, а не попы. Поповское дело с мирским неча путать. А то ведь смешно выходит.
– Вот ты Тихона спроси. Его воевода холмогорский изобидел. Так поможет ему животворящий крест господень или нет? Или воевода тот креста испугается, в монахи уйдет, а бабу свою Тихону отдаст? Ей, нет! Крест Морозову ни при чем! Воевода крепче черта!
– Ему нож в бок! – тихо выговорил Тихон.
– Эй, парень! Дуришь! – грозно прикрикнул Кирила Васильич. – Ножом большие дела не делаются. Ножи в ходу под Боровицкими воротами, на речке Неглинной, под Кремлем, где голь живет кабацкая! Там ножи! Голова нужна в твоем деле. В больших делах ум надобен. Будешь в Нижнем, жить будешь у дружка моего, у Псурцева, Максима Андроновича. Слушай его – ух, голова! С умом да со всем миром и на воеводу управу найдем. Да еще одно думаю: надо нам у немцев поучиться, надо к ним приглядываться. Они в ремесле много вперед нашего знают и боярство тоже укрощать умеют. В Англии, сказывают, большая заваруха бояр с ихним королем идет.
– С самим королем? – ахнул Пахомов.
– Ага! Ихнее вече на короля войско подняло, что неправо делает. И из народа сильный человек за правду вышел, ихних попов не любит… Это знать народу надо. Одна только беда с иноземцами – они с нашими боярами больно похлёбствуют, выгоды своему карману ищут, – продолжал Кирила Васильич. – Нас, русских, они учить добром не будут. Своя шкура ближе к телу, чем чужая-то. Самим, самим нам придется выдираться из прорухи нашей.
Прошло уже два месяца, как жил Тихон в Нижнем Новгороде, а все никак не мог привыкнуть: все было по-иному, не как дома, в Устюге, не как в Москве.
Нижегородская весна пришла ранняя, спорая. И теперь, ежели стать на Венце, на горе над слияньем Волги и Оки, кругом развертывалось неохватное сизо-голубое половодье, отразившее крутые облака, по воде плыли последние, редкие, источенные ветрами льдины. Выше Нижнего вода стояла морем, а против города, за Волгой, ушла под самую черную полоску дальнего леса – посверкивали купола и кресты потопленных сел и погостов.
Белые стены Нижегородского кремля опоясали вершину Дятловых мордовских гор, сбегали вниз, почитай, до самых вод, лезли снова тяжким каменным змеем вверх по Откосу. Волга и Ока подступали вплоть к острогу, залили низкие посады, дома, подоли, верфи, где строились зимой суда. Огромное пространство было полно блеском солнца, воды, неба, облаков, и въявь видно было – здесь дышат, живут иные земли, не лесная глухомань, а широкие, безмерные, горячие просторы.
И народ-то на Низу другой, не лесной народ, зачарованный сюземом, медленный, привязанный к малой пашне на узкой полянке. Смиренен, молчалив лесной люд. В лесу-то не гукнешь, не засмеешься – опасно: враз отзовется, загремит хохотом леший! Петь в лесу – упаси богородица!
Долго стоял Нижний Новгород на самой окраине Московской земли, несокрушим его каменный кремль на остроге между Волгой и Окой, стоял он сторожей на подступах к Москве из восточных степных ханств, держал на замке великий водный путь – Волгу, оберегая его для Москвы до поры до времени, стоял, как наложенная на напряженную тетиву стрела московской силы, направленная на восток.
Низовые кочевники, бешеные конники и даже давно осевшие там татаре не знали лодок, не умели пользоваться водными дорогами. Им привычны были бескрайние ровные степи, по которым они и носились на конях на тысячи верст, как страшные перекати-поле.
Минуло уже сто лет, как для Москвы созрело время и она из северных лесов по Волге двинула струги с войсками, поставила на остроге рек Волги и Свияги на холме Свияжск, сломила оттуда Казань, потом взяла Астрахань. Могучая река сквозь незамиренную, еще буйную степь вывела лесных московитов к самому Каспию. Для охраны Волги построена была цепь городов-крепостей – Сызрань, Симбирск, Самара, Царицын, Черный Яр, Астрахань с кремлями, полными стрельцов, да с малыми посадами.
Стало на Волге прибывать народу, иного, не то что кондовый, обжившийся в трудах северный люд. Не раз сюда, на Низ, в Новгород Нижний, выселяли из Новгорода Великого вольных новгородцев, из которых оба князя великих Ивана, дед да внук, Третий да Четвертый, не могли, сколько ни били, выколотить их вольности.
Вокруг поволжских городов с кремлями, со стрелецкими гарнизонами садились на землю и приборные служивые люди, крестьяне по прибору, что должны были и землю пахать и одновременно нести службу береженья от налетов степных конников, схоже с вольными казаками.
Сюда, ка Волгу, на великую реку, уходили, чтобы жить, наймиты-отходники, гулящие люди, бурлаки, бобыли, крестьяне, бежавшие от помещиков, от долгов, от кабалы, – все, у кого душа просила воли. А от Волги до Дону рукой подать, и дух казачьего вольного уклада с сочувствием принимался в поволжских царских кремлях.
Сюда же, за Волгу, уставило свой жадный глаз именитое московское боярство. Понимало, что тут можно вести крупное хозяйство, растить хлеб не только «на Семены и емены», а и на великую продажу.
…Здесь закурились черные, смоляные дома смолокурен, малых домниц, грохочущих кузниц, соляных варниц. Здесь уже, как в Москве, появились задымленные работные, оторванные от поля, потерявшие землю люди.
И, овеянный недавней славой освободителя Москвы, на Высоких своих горах богатым купчиной стал Нижний Новгород, ведя большую торговлю… Сюда; к воротам на восток, в Азию, сходились по Волге товары из Архангельска, Ярославля, Москвы – русские и немецкие. Сибирские – из Казани, персидские, индийские – из Астрахани. Сюда везли хлеб из Заволжья. Сюда по Волге и Оке, сверху, снизу плыли бесконечные дощаники, насады, струги. Здесь по веснам собирались сильные, вооруженные пушками караваны на Низ, в Астрахань, – их сопровождали стрельцы. Путь был нелегок.